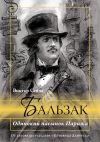Текст книги "Реализм эпохи Возрождения"

Автор книги: Леонид Пинский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
В «Дон Кихоте» насчитывается 669 действующих лиц. Идальго и крестьяне, священники и монахи, герцоги и дуэньи, купцы и ремесленники, коррехидоры и полицейские, актеры и студенты – все общественные «обстоятельства» для героя, выступившего в защиту справедливости. Но запоминается из этого множества лиц не так много. Огромному большинству образов не хватает колорита, они тусклы. Сервантес в этом смысле поразительно отличается от таких своих последователей, как Филдинг, В. Скотт, Диккенс, у которых яркость образов возрастает в меру перехода от главного героя, часто бледного, к второстепенным и эпизодическим фигурам, которые, по меткому замечанию Честертона, появляются на страницах романа Диккенса на миг, чтобы запомниться навсегда какой-либо единственной незабываемой чертой. Но это потому, что главные герои Диккенса (и даже самый яркий из них, донкихотский мистер Пиквик) несравнимы по масштабу с ламанчским рыцарем, – роль «персонажей-обстоятельств» у более сатирического писателя XIX века значительно важнее. Не то у Сервантеса.
В его романе, где творится суд над национальной жизнью, автора (а вслед за ним и читателя) больше интересуют герой-судья и его помощник, чем все подсудимые, вместе взятые. Сами по себе они часто играют не большую роль, чем стадо баранов или ветряные мельницы, с которыми воюет Дон Кихот.
Быт буржуазного общества, складывающегося в недрах абсолютистского государства, – содержание сатиры плутовского и бурлескного романа XVII–XVIII веков – уже намечен Сервантесом как тема искусства, но ее развитие составляет заслугу позднейшей литературы. Дойдя до эпизода пребывания Дон Кихота у гостеприимного дона Диэго, Сервантес ограничивается несколькими штрихами в описании поместья, заявляя, что он, «переводчик этой истории», почел за нужное опустить описание дома «и прочие мелочи»; это – «сухие перечисления», которые не имеют отношения к «главному предмету» и к тому, что составляет силу его истории, ее правдивости (II, 18). Поданные крупным планом центральные персонажи, заполняя большую часть картины, образуют главный предмет и в известной мере всю ситуацию романа Сервантеса, небо и землю национальной жизни Испании.
Художник Сервантес – не с персонажами-условиями, хотя они побеждают героя, а с безрассудным героем. Его интересует «мудрое» безумие Дон Кихота, пренебрегающего условиями, демонстрирующего удивительные возможности героической натуры, которые таились в сельском идальго Алонсо Кихаде. Эти возможности – не только сказочная смелость и невероятное упорство Дон Кихота, не только изобретательность воображения хитроумного идальго, который творит целый мир и населяет его людьми по образу своему и подобию, – об этом мы уже знаем начиная с первых эпизодов. Развитие действия строится на другом – на новых способностях, которые обнаруживаются каждый раз в образе героя и раскрывают его чуткую к злу в жизни, широкую по интересам натуру.
Но это также новые, до сих пор скрытые возможности по отношению к самому себе, способность Дон Кихота возвыситься над собственным безрассудством и перейти от простого безумия к «мудрому» безумию – переходы всегда неожиданные для окружающих и для читателя. Движение образа начинается уже в первой части, где за книжными галлюцинациями проступает более глубокое, жизненное содержание. Самый резкий переход – ко второй части романа, посвященной третьему выезду Дон Кихота, когда во всей мере обозначается смысл его рыцарской идеи.
Неожиданность этих переходов показывает читателю, что он слишком поспешил со своими окончательными выводами о герое, довольно поверхностно определил его пафос, слишком рано поставил его натуре предел и, подобно окружающим Дон Кихота персонажам, обманулся, заключив, что тот просто помешанный. Таков в начале второй части эпизод встречи с крестьянками из Тобосо, где Дон Кихот «обманул» ожидания и читателя и Санчо, который собирался выдать ему одну из крестьянок за Дульцинею, но герой оказался не таким простоватым. Таково в конце истории духовное исцеление Дон Кихота, когда он сам освобождается от своих иллюзий – к величайшему изумлению своих друзей, безуспешно пытающихся поддержать в нем прежние заблуждения. Критика начиная с XVII века часто находила прояснение сознания героя перед смертью «психологическим чудом». Но этот скачок отчасти подготовлен нарастающим внутренним разладом в душе Дон Кихота (особенно в последних главах), а неожиданность протрезвления завершает развитие характера, поражавшего на протяжении всего романа постоянными переходами от сумасбродства к мудрости. В этих переходах динамизм натуры, ее способность к развитию превосходит наши ожидания и вызывает характерное для искусства Ренессанса изумление перед таящимися в человеческой природе силами, перед ее высотой.
Дон Кихот – сложный психологический образ, но мы (и кажется, будто и сам автор) не видим его изнутри, хотя больше всего нас интересует его душевная жизнь. Мы неясно знаем его «предел», он раскрывается, как герой эпоса, в объективном действии, в удивительных речах и поступках, мотивированных необычным характером. Однако сам характер при этом остается в какой-то мере «в себе» (внутренний монолог новейшего романа был бы здесь невозможен). Это характер более своеобразный, чем у героя древнего эпоса, и даже причудливый. Но его «причуды» еще не случайны, не индивидуально неповторимы, как у позднейших донкихотов; личная страсть героя Сервантеса, ее содержание еще непосредственно связаны с интересами народа и поэтому более принципиальны и высоки, чем обычно у героя романа Нового времени.
Читателям «ложного» «Дон Кихота» Авельянеды, как и другим персонажам романа Сервантеса, при встрече с настоящим Дон Кихотом неясно, кто он и к какому разряду его отнести: «Они уже совсем готовы были признать его за человека здравомыслящего, как вдруг у него снова начинал заходить ум за разум, и они все не могли определить, к какому разряду скорее можно его отнести: к разряду людей здравомыслящих или помешанных» (II, 59).
В этом колебании между смехом и уважением, между комическим и серьезным восприятием, а точнее, в состоянии, совмещающем оба чувства, пребывает и современный читатель «Дон Кихота». В самом деле, не совсем ясно, кто он, этот герой, когда заступается за мальчика-батрака, истязаемого хозяином, которому тут же возвращает его жертву, так как верит «рыцарскому» слову; или когда освобождает каторжников, потому что нельзя превращать в рабов тех, кого Бог и природа создали свободными, а затем требует, чтобы они с той же цепью на шее отправились на поклон к даме его сердца. То ли простак, цепляющийся за прошлое, то ли предтеча, провозвестник будущего. Мы не знаем, к какому интеллектуальному разряду, к какому социальному разряду отнести героя Сервантеса, так как Дон Кихот живет представлениями жизни, в которой окончательно еще не определились «разряды», жизни в брожении, которая, как и герой, еще богата различными «способностями» и исторически возможными путями развития. Он принадлежит переходной эпохе, породившей идеи, необходимые для возникновения нового общества, с которым они оказались несовместимыми. Это сознание, обойденное в настоящем, потерявшее с ним связь, но правое в своем неудовлетворении (хотя его «правота» никому не нужна), в своей «апелляции к будущему» (Луначарский). Короче, это герой донкихотской ситуации.
Образ у Сервантеса находится в непрерывном движении. Характер героя не столько меняется на протяжении истории, не столько становится иным, сколько становится, раскрывается, оказывается более глубоким и богатым, чем мы думали сперва. Безумие и мудрость Дон Кихота уже ясны в первой части романа, но смысл его безумия, то, что оно не просто результат чтения рыцарских романов, характер его мудрости выясняется во второй части. То же можно оказать о Санчо. Обычно утверждают, что во второй части Санчо облагораживается, становится менее корыстным, более преданным. Но еще в главе 30-й этой части Санчо, огорченный расточительством Дон Кихота, собирается, не прощаясь, удрать домой. Наибольшую жадность и плутовство по отношению к Дон Кихоту он проявляет под самый конец истории – в эпизоде «расколдования» Дульцинеи. Однако роль самой корысти в нашем представлении о нем меняется – мы постепенно все лучше узнаем Санчо.
Отношение оруженосца к рыцарю сложное. Здесь и патриархальное почтение крестьянина к образованному идальго, перед которым он чувствует себя «сущим младенцем» (II, 29), и привязанность односельчанина, но также чувство независимости и народная честь общинника Кастилии, где еще с XV века исчезло крепостное право: «ведь не столь велика разница между мной и моим господином, чтобы его омывали святой водицей, а меня окатывали этими чертовыми помоями» (II, 32). В обращении с господином Санчо держится довольно свободно, судит его, подтрунивает, вообще разрешает себе сметь свое суждение иметь. Сочетание в его характере патриархального простодушия и хитрости, наивной доверчивости и лукавства, глупой болтливости и здравомыслия всегда неожиданно, даже для его хозяина (Дон Кихот говорит Санчо: «У тебя хорошее сердце», – а перед тем он его честил: «Мешок, набитый плутнями»). Санчо одновременно и простак и хитрец, «давнишний простофиля и новоиспеченный шут» (II, 31). Два типа слуги: неповоротливая деревенщина, обжора – и ловкий плут, пройдоха, – в нем еще представлены синкретно. Этим он и интересен для окружающих: «Простоватость его подчас бывает весьма остроумна, – замечает Дон Кихот. – И угадывать, простоват ли он или себе на уме, не малое доставляет удовольствие» (II, 32).
Санчо, как и Дон Кихот, способен выйти за пределы прежнего состояния и перейти в противоположное. Мы с удивлением узнаем о бескорыстии корыстолюбивого Санчо, о верности лукавого Санчо, об остроумии тупого Санчо, о проницательности доверчивого Санчо, о соломоновых судах ограниченного Санчо, о воздержанности обжоры Санчо, даже об изяществе речи неотесанного Санчо (II, 58). И в движения характера сказывается не только общение с благородным идальго, не только влияние новых условий («С каждым днем ты делаешься все менее простоватым, все более разумным, – замечает ему Дон Кихот. – И это только подтверждает пословицу не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился»). Сами условия влияют на героев Сервантеса соответственно их натуре. Об идеальной Дульцинее Дон Кихот говорит, что она заключает в себе величайшие достоинства, «если не явно, то виртуально» (II, 33). «Реалистический» компаньон героя «доблести» (исп. virtud) также богат неожиданно обнаруживающимися скрытыми виртуальными силами. Народ в образе Санчо – наивная, живая, многообразная, многоликая, способная к безграничному развитию основа общества, реальная основа ренессансной утопии Дон Кихота.
Движение жизни в образе Санчо, как и Панурга у Рабле, не столько целенаправленное движение истории, сколько брожение «играющей» природы. Отсюда повороты вспять, возвращение к прежнему состоянию, простоватость после здравомыслия, плутни после бескорыстных поступков – движение, не прекращающееся на протяжении всего повествования. Качество этого характера еще не вполне определилось, Санчо еще не деляческий «положительный ум», как Дон Кихот уже не настоящий герой. «Потолок» возможностей каждого из персонажей донкихотской пары «подвижный», его высота не столько уровень достигнутого развития, сколько объявившиеся потенции наивной натуры. Умные мысли Санчо часто высказывает по простоте душевной, называя вещи своими именами, «иной раз думаешь, что глупее его никого на свете нет, и вдруг он что-нибудь так умно скажет, что просто ахнешь от восторга», – замечает о нем Дон Кихот (II, 32).
Своеобразие ренессансного реализма образов Сервантеса выступает заметнее при сравнении их с образами испанского плутовского романа, в целом принадлежащего реализму эпохи барокко. Санчо настолько же отличается от пикаро, насколько Дон Кихот – от компаньона пикаро, от нищего идальго. Плут, рыцарь социального дна, несмотря на страсть к приключениям, – первый «деловой» (на испанский лад!) герой буржуазного романа в откровенно аморальной форме, преодоленной романом Просвещения. Пикаро – либо мошенник с самого начала (у Алемана и Солорсано), либо из простачка становится мошенником на определенном этапе повествования (у Кеведо). Плут, в отличие от Санчо, образ внутренне однородный в своем качестве, он, по замечанию Кеведо, «меняет место, не меняя своих привычек и судьбы». Метаморфозы архидинамичного «испанского Протея» и их импульсы – чисто внешние. У пикаро меняется профессия, у Санчо Пансы – характер.
Сервантес возмущается искажением его замысла у Авельянеды, так как тот в своем талантливом (многократно издававшемся и переведенном на ряд языков) романе, принадлежащем послеренессансному искусству, упростил его образы, убрал игру светотени и фиксировал в них отрицательное – Дон Кихот выведен сумасшедшим, Санчо плутом. Сравнивая настоящего Дон Кихота Хорошего с мнимым Дон Кихотом Плохим, персонаж Авельянеды, появляющийся в романе Сервантеса, приходит к выводу, что Дон Кихота Ламанчского «славного, отважного, благоразумного, влюбленного, искоренителя неправды» и т. д. подменили, а также подменили Санчо, который у Авельянеды «больше обжора, чем краснобай, и не столько шутник, сколько просто глупец» (II, 72).
Подобно другим шутам и простакам литературы Возрождения, Санчо – олицетворение наивной, «виртуально» богатой Природы. Способность «дурака» сказать умное слово – ненароком или по природному здравому смыслу – многозначна. Комические рассуждения Санчо звучат, подобно выступлению Мории в «Похвальном слове Глупости» Эразма, то как юмор, то как сатира, то как ирония, явная или скрытая. Пословицы и поговорки Санчо по функции также полисемичны. Это и жизненная мудрость народа, в противовес книжным знаниям идальго, и ограниченность патриархального рассудка рядом с разумом; ирония Санчо над Дон Кихотом и ирония автора над Санчо; сатирическая оценка окружающих – и юмористический взгляд на самого себя. Переходы в тоне рассуждений оруженосца, в его сознании, даже более неожиданны, чем чередование безумия с мудростью у рыцаря. Реплики Санчо, то простодушные, то лукавые, двусмысленны, в отличие от разумных речей Дон Кихота.
Возможности, заложенные в безыскусной натуре Санчо, развиваясь под влиянием жизненного опыта, накапливаются и выходят на свет, поражая читателя внезапными изменениями образа. Сам автор удивляется этим «скачкам», например в 5 главе второй части, рассказывая о «рассудительном и забавном разговоре, происшедшем между Санчо Пансой и его женой Тересой Панса». Санчо здесь не только высказывает «вещи столь тонкие, что невозможно допустить, что они исходили от него», но и «разговаривает в таком стиле, которого нельзя было ожидать от его ограниченного ума». Его жена вынуждена отметить, что, став странствующим рыцарем, Санчо начал говорить так возвышенно, что никто его понять не может (дойдя до этой главы, Сервантес заявляет, что считает ее поэтому «подложной»). Неожиданность «культурного роста» Санчо лишь гротескно обнажает натуру народного образа, ее способность к «мутации». Эта способность демонстрируется на протяжении всего романа, и на ней по преимуществу основан комизм «естественной природы» в донкихотской паре.
Самый яркий пример такой «мутации» – поведение Санчо во время губернаторства, неожиданное для окружающих и для читателей. Перед этим Дон Кихот в беседе с герцогом сомневался, имея в виду бестолковость и глупость Санчо, стоит ли посылать его управлять островом, но выразил надежду, что после того, как сам ему «хорошенько прочистит мозги» своими наставлениями, тот будет достоин этой должности (II, 32). Герцогиня, в свою очередь, подозревала, что новоиспеченный губернатор окажется алчным и будет творить неправый суд (II, 36). Читатель на основе всего предыдущего готов к ней присоединиться, тем более, что, отправляясь губернаторствовать, Санчо сообщает в письме к жене, что охвачен «величайшим желанием зашибить деньгу», как «все вновь назначенные правители», и что раз «козла пустили в огород, в должности губернатора мы свое возьмем» (II, 36). Но Санчо на деле опроверг опасения того и другого порядка и, вопреки ожиданиям, проявил замечательный ум, справедливость и полное бескорыстие. Слова дворецкого, что дело, которое началось с шутки, кончилось всерьез, а те, кто хотел кого-то одурить, сами в дураках остались, могут быть отнесены не только к шутке герцога и его компании, но и ко всей истории Дон Кихота и его оруженосца.
Губернаторство Санчо важнейшая часть самого большого эпизода романа – пребывания Дон Кихота в герцогском замке. Это кульминационный пункт всей фабулы, и здесь раскрывается истинный смысл иронии Сервантеса и ситуации, основанной на непрактичной и «ненужной» правоте.
Эпизод начинается как «осуществленная мечта» и «исполненное обещание». Предшествуемый славой о своих подвигах, герой появляется в замке герцога, где его встречают как светоч рыцарства. И «тут он впервые убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь» (II, 31). Санчо также дождался наконец заветного «острова». Но это и эпизод наибольшего унижения героев. Прекраснодушие Дон Кихота и наивность Санчо, который «во всем сомневается, но всему верит» (II, 32), безумие представления, что в этом обществе «человек кузнец своего счастья», – доходят здесь до высшей точки. Если в первой части романа Дон Кихот сам превращал мельницы в великанов, то во второй, начиная со встречи с мнимой Дульцинеей, его обманывают другие. В центральном эпизоде этой части его безумие, из-за которого он служит предметом издевательских проделок, полностью раскрывается как фантастическое представление, будто мир – благодатное поприще для доблестных дел. Славный рыцарь становится шутом, а шут по воле сиятельных лиц – правителем острова. Лишь теперь вполне выявляется, что объективные обстоятельства (или «волшебники»), которые все время были враждебны герою и сводили на нет его дела, – это социальные обстоятельства.
Но в эпизоде величайшего унижения Дон Кихота убедительней, чем когда бы то ни было раньше, оправдана идея истинного рыцарства.
В замке герцога на деле проверяется теория о преимуществе благородства доблести над благородством родовитости. Ламанчский идальго даже в навязанной ему роли шута нравственно поднят над праздным миром привилегированных. В достойной и тактичной манере обращения с людьми независимо от их сана выступает превосходство героя, – как бы в подтверждение его давнишних слов, что, с тех пор как он сделался странствующим рыцарем, он стал любезным, благовоспитанным, великодушным, учтивым, кротким и терпеливым (I, 50). Последний подвиг Дон Кихота в защиту безвинных, заступничество за обесчещенную дочь бедной дуэньи, соотнесен с первым подвигом, освобождением мальчика, но на сей раз, впервые во всей истории, увенчивается успехом. Обрамляя повествование о деяниях героя, эти два подвига доказывают, что в «железном веке» действительно царит несправедливость, что необходимо вмешательство в ход жизни, что Дон Кихот прав, при всем комизме средств, которые лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств привели один раз к торжеству справедливости.
В герцогском мире социального неравенства к Дон Кихоту впервые обращаются за помощью сами обездоленные, и странствующий рыцарь, ранее отказывавшийся сражаться с «чернью», здесь вступает в поединок с лакеем, впервые нарушив сословно-рыцарский канон, но следуя духу истинного рыцарства. По своему положению рыцарь все больше сближается не с влюбленными безумцами Хризостомом и Карденио, как в первой части, а с социально бесправными, вроде дуэньи Родригес, и вместе с нею подвергается жестоким шуткам герцогской четы и их фаворитов. Покидая замок, он произносит знаменательную речь о свободе («свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот… с ней не могут сравниться никакие сокровища»), об освобождении «от благодеяний и милостей», от «пут, стесняющих свободу человеческого духа» (II, 58). Это начало освобождения от иллюзий о доблести, достойно награждаемой, начало нисходящей фазы его судьбы, которая приводит к осознанию его «всечасного умирания» (II, 59), к окончательному прозрению и смерти. Движение образа Дон Кихота от Алонсо Кихады до Алонсо Доброго – движение натуры, постоянно возвышающейся над собственным состоянием, над жизненными обстоятельствами, дошедшей до безумного их игнорирования, но также и до осознания своего безумия и неразумия обстоятельств, до «моральной победы» над обстоятельствами.
Параллельно развивающаяся история губернаторства Санчо – та же нравственная победа, но на иной лад, донкихотского героя над жалкими общественными условиями, над персонажами-обстоятельствами. На этот раз мы не в рафинированной среде высокопоставленных бездельников, инертной, далекой от национальных интересов, а в самой гуще социальной жизни и ее материально-правовых запросов, на реальной «санчо-пансовской» земле. Рассказ о десятидневном правлении Санчо, трактуя самый больной для Испании XVII века политический вопрос, заканчивается, вопреки желанию тех, кто устраивал этот фарс, к чести оруженосца. Здесь подтверждается мысль Дон Кихота: «чтобы быть губернатором, не надобно ни великого умения, ни великой учености… важно добросовестно относиться к делу. Советники же и наставники ему всегда найдутся» (II, 32). Здравый смысл народа в лице Санчо (который ссылается на пример легендарного короля Вамбу, простого крестьянина, призванного от сохи управлять государством) и гуманистическая мудрость Дон Кихота сходятся в недоверии ко всякого рода профессионалам-законникам абсолютистского порядка, к созданной ими сложной системе управления и к запутанной механике ее обстоятельств. Простодушные «законоположения великого губернатора Санчо Пансы» долго не утратили своей силы и Баратарии, язвительно замечает Сервантес по адресу чиновников, которые кичатся особыми государственными талантами.
Основное в главах о губернаторстве Санчо, однако, не эти законы, в которых, как и в соломоновых его судах, очевиден налет юмористически-условного и сказочно-фольклорного. Гуманист Сервантес свободен от юридического идеализма, от веры во всеспасительную силу законов, отличавшей приверженцев абсолютистской регламентации («издавай не издавай, толк один», – замечает Санчо, II, 55). Он сатирически относится к обстоятельствам официальной жизни и к тем, кто их олицетворяет. Подлинную жизнь и нормальную натуру человека в донкихотской ситуации воплощают те, кто способен подняться над этими обстоятельствами. Гуманистический тон в главах о губернаторстве – прежде всего в неожиданной «мутации» Санчо, когда тот становится правителем Баратарии. Наивный крестьянин здесь поднят не только над официальными порядками Испании и обычным уровнем правителей, но и над собственническим миром, привившим ему эгоизм и жадность к легкой наживе. Санчо здесь показывает, что он способен возвыситься над самим собой. Юмор Сервантеса – поэтизация человеческой активности, способной при благоприятных обстоятельствах на многое, способной изменить мир, создавать мир, творить собственную судьбу, – стихийное понимание решающей роли сознания при определяющей роли условий.
Поэтому критика ренессансной утопии о человеке – творце собственной судьбы в последнем памятнике реализма Возрождения, несмотря на горький оттенок, лишена пессимизма художников барокко, и рассказом о рыцаре Печального образа достойно завершается эволюция ренессансного гуманизма.
«Дон-Кихот» – замечательный образец того, как в истории искусства происходит художественное открытие, переход конкретной национально-исторической ситуации в тему общечеловеческого и вечного значения. «Дон-Кихоты, – писал Белинский, – были возможны с тех пор, как явились человеческие общества, и будут возможны, пока люди не разбегутся по лесам»[166]166
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 34.
[Закрыть]. Однако, как мы видели выше, сюжет Сервантеса и его герой не имеют ни литературных, ни фольклорных предшественников и возникают в произведении Сервантеса как отражение современной жизни, всецело породившей донкихотское положение. Ситуация европейского значения (кризис ренессансного гуманизма) в специфических условиях одной страны (кризис испанской культуры) выступила благодаря освещению Сервантеса, употребляя выражение Ленина, как «шаг вперед в художественном развитии всего человечества».
Но тем самым сюжет «Дон Кихота» сыграл исключительную роль и в истории комического. До Сервантеса сфера комического ограничивалась низшим, собственно смешным и подходила под Аристотелево определение комедии как «воспроизведения худших людей, но не во всей их порочности, а в смешном виде». Но конец века Возрождения, кризис его идеалов, осознанных творцом «эпоса вымершего рыцарства» в их связи, с исчезновением добродетелей многовековой культуры, показал, что основанием комического может быть не только «худшее» и «порочное», но и «лучшее» и «благородное». «Дон Кихот» положил начало высоко комическому в искусстве слова, высокому виду юмора[167]167
Речь идет о классификации комического по предмету или по источнику, а не по назначению, не по цели смеха. В первом смысле комическое всегда в добуржуазном искусстве имело своим предметом только низшее (в моральном или интеллектуальном смысле) – и в этом исторические границы определения Аристотеля. «Облака» Аристофана, где Сократ изображен обманщиком и совратителем, – яркий пример комического как «воспроизведения худших людей». Напротив, комизм образа Альцеста в «Мизантропе» Мольера, как и обычно «донкихотских образов», уже не укладывается в пределах этого определения.
[Закрыть]. «Высокий смех» – это смех над высоким, а в «Дон Кихоте» – над самым высоким и благородным, что коренится в натуре человека, над его верой в свое высокое назначение, в свой разум и волю, в жизнь и в свои силы, над его общественно деятельной («вмешивающейся») природой – тогда, когда высокое потеряло контакт с временем и с жизнью и стало субъективно высоким и смешным. В этом тайна вечной свежести последнего художественного создания реализма Возрождения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.