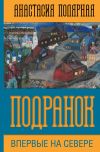Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
В речах аллегорических фигур всегда присутствует противопоставление горнего, небесного – земному: «От земних в небесная скоро преселися» [Драма українська, 1928, 204]. Перемещаясь с одного яруса на другой, они об этом сообщают, еще и еще раз прочерчивая вертикаль, на которую постоянно указывается в «Царстве Натуры Людской» в споре Ангелов, противного и доброго: «Почто возийти не мощно?»; «Гординя твоя борзо снийде во адъ буе»; «Взийдем на вишний престолъ»; «Яко воскоре снийдеши до ада»; «Я, я до ада снийду? Возийду на небо! Возийду вишше облак». Также ремарки возвращаются к строению художественного пространства. В одной из них в пьесе «Ужасная измена сластолюбивого жития» сказано, что Ангелы «снидут» с небес и понесут души вверх.
Мистериальное пространство имеет четко отмеченный центр. Все значимые действия совершаются в нем. Так как мистерия не касается никаких «мелочей», то, следовательно, она разворачивается только в центре пространства, который иногда только подразумевается. Но мог он обозначаться древом познания, «древом доброзрачным»: «Что любезне зриши на сіе древо? От древа сего ясти. <…> Аще быс ведал сего древа тайну» [Драма українська, 1926, 167]. Вокруг древа ходят Адам и Ева, или Натура Людская, к ним приближается Прелесть, подползает Змий.
В «Жалобной комедии об Адаме и Еве» Адам гордится своим великолепием, но ангелы его предупреждают, чтобы он не вкушал овощи «сего древа». Кроме «древа доброзрачна», в пасхальных мистериях на сцене мог находиться крест Господень, что бывало редко. В центре пространства размещается также трон, престол, на котором восседает Милость Божия. Заметим, что центру небесному на земле находилось антитетическое соответствие. На срединном ярусе мог водружаться трон, на котором восседали властители. В мистериях им бывал Ирод. Так создавалось противопоставление божественного и человеческого.
Мистериальный театр был сдержанным в проявлении своей природы. В целом мистериальную театральность можно определить как неустойчивую. Внешние ее приметы, утверждающие зрелище как особый вид искусства, почти отсутствовали. Задача воссоздать на сцене мироздание не требовала ни задников, ни кулис, ни декораций. Этот театр можно назвать «бедным», как театр Е. Гротовского, стремившегося реконструировать на сцене обряд. «Театр, освобожденный ради взаимности такого искательного переживания (поисков своего Я. – Л. С.) от каких-либо украшающих или объясняющих приемов, Гротовский назовет Бедным Театром» [Башинджагян, 2003, 15]. Режиссер решительно заявил, что театру не нужен синтез, так как в результате театр начинает паразитировать на других видах искусства, «выстраивает свои гибридные зрелища на смешении форм, лишенном монолитного корня, а значит, не интегральном» [Гротовский, 2003, 60]. Е. Гротовский искал этот «монолитный корень», забывая о том, что и в обряде существует синтез, только иного плана. Режиссер хотел, чтобы актеры отказались от грима, накладных животов и носов, от избыточных жестов и движений. В этом его идея сродни концепции театра мистериального. В нем игра была слабо развита, слово оставалось почти всегда ораторским. Даже тот небольшой по объему набор признаков, который присущ мистериальному театру, проявлялся не всегда и отнюдь не в полном виде в каждой постановке.
Уже в прологах мистерий предупреждалось о «кратком действии», поставленном «в память толиких щедрот». Благодаря высокому содержанию такое представление не могло вести за собой, как сказал бы Григорий Сковорода, «скуку и омерзение», но оно при этом не позволяло испытать «радости метаморфозы» [А. И. Белецкий]. «Бедный» мистериальный театр не противоречил общему духу культуры, настаивавшей на антитетичности. «Богатому» театру мог противостоять «бедный». Барокко играло оппозициями, переворачивало их и одновременно стремилось к их полному слиянию, которого никогда не достигало. Это отразилось и в мистериальном театре, который мог позволить себе быть «не-теат-ральным» и «бедным».
Его пространство, ориентированное по вертикали, не членилось дополнительно. Например, мансьоны, которые определяли пространство западноевропейской мистерии, не были для него типичны. Там мистерия, используя опыт церковной драмы, создавала свой тип пространства, и главная задача постановщиков состояла в том, чтобы структурировать его. Мансьоны были записаны за отдельными персонажами, и только такой персонаж, как Христос, не имел своего определенного локуса.
Хотя возможно, что мансьоны использовались при постановке «Рождественской драмы» Димитрия Ростовского в том эпизоде, где Врач осматривает смертельно больного Ирода. Затем Ирод спрашивает Сенаторов, которые стоят в стороне, что им сказал врач. Можно предположить, что сцена здесь делилась на сегменты, но необязательно. Похожее деление сцены наблюдается в пьесе об Алексее человеке Божием. Ремарка – «Ту Алексей хижину себе устроилъ» [Драма українська, 1927, 176] – может свидетельствовать о подобном делении. Будущий святой на глазах у зрителей строит себе «будку», или «хижину», получив разрешение своего отца, Евфимияна, не узнавшего его. «Став кущу в дому моемъ», – говорит он неузнанному сыну. В. И. Резанов предполагал также наличие мансьонов в пьесе о св. Екатерине («Declamatio de S. Catharinae Genio»).
Итак, огромность мира, представляемого не столько на сцене, сколько самой сценой, не дробилась на отдельные участки. Если персонажи рассуждали о мироздании, они всегда отмечали его целостность, лишний раз сообщали о том, что весь мир есть творение рук Божиих. Бог «толикия сотвори непостижныя уму вещи: небо, украшенное солнцем, луною и звездами во увеселение и в просвещение есть данно, земля же цветы различными, но и златом преизобилующее, во человеческой есть власти; звери в пустыни, рыбы в мори и во езерах, птицы, по воздуху парящая несть вне его власти. <…> Сими благами и человек одаренный чим возможет Создателю своему возблагодарити» [Ранняя русская драматургия, 1975, 193].
Всякий раз в подобных монологах указывалось на бесконечность мироздания, обязательно проводилось сравнение с жизнью человеческой. Стихии противопоставлялись ей как постоянное начало чему-то хрупкому и несовершенному. Мир природы постоянен, как непостоянен мир человека. Безошибочно движение светил, равномерно зарождаются, живут и умирают растения. Ни одного закона жизни не могут избежать животные. Но скорее перестанут сражаться между собой стихии, высохнут реки и моря, погаснет огонь, загорится вода, чем что-то изменится в непостоянном мире человека.
В мистериях рисовались картины благодатного покоя, соседствовавшие с апокалиптическими видениями. Как говорит Дева юродивая в «Действе о десяти девах», в день Страшного суда: «Престрашнии громи будут, горы потресутся, / камения же тверды, в прах распадутся. / В той час луна померкнет, солнце не даст света, / звезды спадут с небес от страшна навета» [Там же, 146]. Пока горы стоят на месте, камни не падают: «…вся сотворянна на земли суть безвредна» [Там же]. О мире, переживающем потрясения, так говорят аллегории в пьесе «Стефанотокос»: «Трепещут и трясутся прекрасные домы, / Слышаще страшные и ужасны громы. / Всякую зеницу ужасы пронзают, / Когда биет молния, облацы жь блистают. / Только жь по страшных громах светлыми лучами / Красное покажется солнце зде пред нами, / Тотчас претворяются на радость печали» [Там же, 423].
Так мир в состоянии божественного покоя и испытывающий на себе гнев Божий изображается в речах персонажей. В них всегда мелькают сакральные символы. Один из персонажей «Комедии о Ксенофонте и Марии» во сне взирает на планеты, «и се внезапу взыде солнце и луна, обоє купно; солнце же, егда явися, абие нача померцати тако, яко некоей токмо малой части в нем просвещатися. <…> и сие бысть чрез долгое время, потом явишася близ их две звезды во обычном существе, таже паки солнца нача просиявати; егда же просия, и быша в равной светлости солнце и луна и оные две звезды, иже послежде явишася» [Там же, 196–197].
Очевидно, что наглядно представить на сцене эти космические события «бедному» театру было невозможно. Он только говорил о них, как и о создании мира. Так, в «Царстве Натуры Людской» аллегорическая фигура Всемогущей Силы рассказывает, как были созданы тьма и свет, разделены море и суша, как земля покрылась цветоносными травами, плодовитыми деревьями и тучными «класами», как были созданы солнце и луна, и, наконец, «звер небезумный» – человек.
Вдобавок постановщики особенно не желали этого, так как не всегда предпочитали переводить невидимое в визуальный ряд. Потому на сцене не было декораций. Количество вещей с символическим значением также было минимальным. Мистериальный театр не был к вещам привязан. Его пространство населялось не ими, а идеями. Вещи появлялись в ситуациях, когда с их помощью можно было усилить смысл сказанного словами. Они могли даже заменить собой слово, а иногда и персонажа. Потому вещи выступали прежде всего как знаки и символы и не участвовали в организации художественного пространства в его реальных измерениях.
Они структурировали пространство метафизическое, как в польском «Диалоге о Ковчеге», где противопоставляются Дагон – божество филистимлян, представленный на сцене статуей, и ковчег. Он не выносится на сцену, но персонажи постоянно говорят о нем и борются за его сохранение. В польской школьной пьесе «Lucus Baccho festus» пространство организуют крест и алтарь Вакха, ср. «Церковь Православная въ едной руце крестъ въ другой же чашу держа является» [Драма українська, 1929, 119]. В «Действии, на страсти Христовы списанном» выставлен образ Христа, несущего крест на Голгофу. Душа Побожная «крестъ хочетъ въ руки взяти», а другая душа крепко держит крест и не отдает. С крестом в руках всегда выходила аллегорическая фигура Веры. В польских мистериальных пьесах крест также выступал семантическим центром пространства, вокруг которого вращались такие аллегории, как Религия святого креста, Милосердие креста [Kadulska, 1997, 10]. Заметим, что когда крест нужно было выносить на сцену, это отмечалось крестиком на полях пьесы. Подобным образом выглядели режиссерские указания того времени.
Такой символ, как чаша, организует весь «Dialogus de passione Christi». Он отнюдь не статичен, так как передается от одного персонажа к другому. Сначала чашу несет Ангел. Шествуя с ней, он выполняет функцию медиатора. Ангел должен передать чашу Иисусу, но сначала ее хочет взять Богородица, чтобы спасти сына своего от мук. Она даже готова биться с Ангелом, подобно Иакову. Но все же чаша оказывается в руках Иисуса. Так в символическом плане выглядит добровольная искупительная жертва. Теперь Иисус отправляется на Голгофу с чашей, знаменующей крест. Монолог Христа строится на теме, заданной этим символом, окруженным орудиями страстей, среди которых копье, терновый венец, гвозди. О них только говорится, они не появляются на сцене.
Наряду с чашей, вручаемой Христу, в мистериях фигурирует также чаша «сластей богомерзких», чаша пирования, но только в слове, что еще раз подтверждает тенденцию мистериального театра к пустой сцене. Правда, переносились на сцену дары, вручаемые Младенцу Иисусу, – золото, смирна, ливан: «Прийми убо малую от мене часть злата <…>. Ливан от мене прийми, смиренно молюся. <…> Аз ти архиереем, Боже, нарицаю, – / Яко архиерею смирну предлагаю» [Ранняя русская драматургия, 1972, 249–250].
Выносился на мистериальную сцену «новый гроб», в который полагается тело Христово. Ремарка гласит: «It a sepulchrum». В «Розмышлянях» Иоанникия Волковича Душа Побожная не может без слез и страха взирать на «гроб каменный». В этом же произведении говорится о «темно-узким каменном гробе». Кроме того, в речах аллегории Триумфа, т. е. победы Христа над смертью, содержатся упоминания «триумфального воза». Это смелое сравнение элемента паратеатральной культуры с Гробом Господним. Трофеями, которые обычно выставлялись в триумфах, в «Розмышлянях» становятся орудия страстей. В диалоге «Банкет духовный» элементами сценического оформления также были победные трофеи, гербы. В панегирических пьесах, как, например, в «Страшном изображении второго пришествия», Фортуна и Победа украшали «трофеум или столп» российскому орлу. Все это делалось по правилам поэтики, разрешавшим выставлять на открытой авансцене победные трофеи и монументы.
Главная функция вещи, наделенной сакральными смыслами, соотносимой не с персонажами, а с художественным пространством, состояла в «материализации» семантической структуры спектакля. Что касается того ряда вещей, которые этими смыслами не обладали, то они внешне будто и бесполезны, но зато они выступают как представители идеи и становятся эмблемами [Жинкин, 1927, 16]. Они не замещают другие явления предметного мира, так как становятся «художественным предметом», поселенным в «предуготовленный сегмент художественного пространства» [Чудаков, 1984, 21].
Не раз авторы и постановщики мистерий концентрировались на запретном плоде, которым Лесть дьявольская «подманяетъ» Человека. Он оказывается целым Эдемом: «Бежи, окаянная, грешная, особо! Полкнула еси Едем, несита утробо!» [Драма українська, 1926, 126]. Натура Людская не знает, каково это яблоко на вкус, и потому очень хочет им полакомиться: «Внутринни же не знаю, что суть его соти, / Горки или сладок». Мог запретный плод в многочисленных описаниях приобретать черты реального. Адам, оказывается, съел не спелое, сочное, сладкое яблоко, а кислое, недозрелое, «кислицу», отчего на весь мир «оскома напала». Его и есть-то было нельзя – а теперь за это платят все люди. Бывало это яблоко и «призрядного цвета овощем», «красно зраком». Потому оно влекло к себе Адама, который думал, что не зря Господь так возлюбил его среди прочих райских плодов. Запретный плод восхваляют Прелесть или Змий(я). Христос же, выводя Адама из ада, сожалеет о том, что яблоко загнало его туда, и спрашивает, каким оно показалось ему на вкус. Заметим, что у польского поэта 36. Морштына появляется такой символ, как содомское яблоко, – явная антитеза райскому. Такое яблоко выплюнет каждый, кто его надкусит.
Несложно было включить в ряд символических вещей ключ бездны, который Разбойник вручает Покаянию, как и ключ от рая, с которым нисходит Ангел с небес. Оказываются сценическими вещами дрова, которые Исаак несет на плечах, подобно тому как несет свой крест Иисус Христос. Каким-то образом, видимо, изображалась жертва Авеля, приносящего «агнца тучна». Так через вещь подавались сакральные очертания мистериального пространства.
Некоторые вещи, появлявшиеся на мистериальной сцене, явно тяготели к декорациям. Самая распространенная из них – престол. О нем постоянно вспоминают как о символе власти. Каждый царь или могущественная аллегорическая фигура, как, например, Фараон, Ериннес, Смерть, Мир, обязательно сидят на престоле (троне). Аллегория Мир боится, что новый царь низринет его с престола, и даже устраивается на нем спать. Некоторые элементы реквизита создавались на глазах у зрителей, как, к примеру, ложе Ирода. Отвечая на его призыв: «Юноши! молю, вскоре устройте ми ложе» [Ранняя русская драматургия, 1972, 137], – слуги его воздвигали. Ирод перебирался на ложе, рассуждая о том, что трон и ложе суть разные, и называл свое ложе смертельным. Чтобы представить на сцене жизнь грешника, трудно было обойтись без реквизита. Потому именно в моралите чаще всего появлялись, кроме престола, трон и ложе, которое в «Воскресении мертвых» Георгия Конисского именовалось «одром болезненным». В некоторых сценах моралите, тяготеющих к интермедиям, ставились столы и стулья. Мужики, пришедшие на свадьбу Алексея человека Божия, восхищаются: «Ось я перший на земли гречи собе сяду / Да и ноги звешаю; сяд тут и ты, дядю!» [Драма українська, 1928, 148].
Гораздо реже приносились на сцену бытовые вещи. Иногда о них только говорилось. В пьесе о св. Екатерине перечисляются блюда, готовящиеся для свадебного банкета. В пьесе об Алексее человеке Божием в эпизоде свадьбы выносятся полотенце, ведра с водкой, паштеты. По возвращении Алексея «слуги Евфимияновы приказные есть вынесли; що лучши, сами поели, a Алексею сухи хлеб принесли» [Там же, 177]. Появляются на сцене деньги, которые братья получают за «продание» Иосифа. Диоктит в «Воскресении мертвых» «капшуком показует». Серебром и золотом отваживают императорские слуги народ от почившего в Бозе Алексея. Так на мистериальной сцене возникают вещи, лишенные символического значения. Но сохраняет такой атрибут, как перстень. Алексей человек Божий оставляет невесте перстень и пояс, завернутые в скатерть.
Перстень фигурирует и в пьесе о св. Екатерине. Перстнями украшены персты аллегорических фигур. В польской пьесе «Gratia homini placere renuens» перстень действует наравне с персонажами. Турок Магмет дарит его своему приемному сыну Иоанну. Завидуя ему, три родных сына Магмета крадут этот перстень и вешают на распятие, чтобы дать знать отцу, что Иоанн – тайный христианин. Они ссорятся из-за отцовского перстня и, наконец, убивают друг друга. Этот перстень подменивают, проглатывают, с ним хоронят погибших. Он – причина клеветы, казней, погребения заживо. Он и улика, и свидетельство невиновности. Только он способствует оправданию персонажей.
Итак, мир на мистериальной сцене не детализировался. Мистерия строго придерживалась единственного, главного своего указателя – оси мира, отнюдь не всегда прочерченной театральными средствами и часто скрывающейся на уровне слова. Сцена мистериальных пьес не заполнялась предметами вещного мира. Она оставалась пустой. Те же предметы, что присутствовали, обязательно имели символическое значение и не оставались в течение всего представления. Их приносили персонажи, исчезая затем вместе с ними со сцены. Эта пустота – важный признак мистериального пространства. Она несла в себе метафизический смысл, сообщала сцене огромность как одну из основных характеристик изображаемого ею мира. «Драма с универсальными амбициями требует или „открытой“ сцены, огромного пространства, или – пустой сцены, которая также в состоянии обобщать значения» [Sławińska, 1988, 73].
Художественное время мистериального театра, неразрывно связанное с пространством, также не имело специфически «театральных» примет. Оно не меняло мерного течения, не сплющивалось и не растягивалось. Это было сакральное время, время мифа, который не столько воссоздавался, сколько пересказывался. Оно было единым и прерывалось только с вторжением интермедий.
Мистериальный театр не придавал особого значения действию, которое могло бы структурировать пространство. Оно не было разнообразным, так как нельзя было исказить высокий предмет изображения, зато всегда следовало представить соотношение божественного и человеческого. Скованность мистериального действия объясняется тем, что оно имело сакральную функцию.
На сцене при постановке моралите могло быть два занавеса, на что обращают внимание ремарки. Занавес не только организовывал сцену, но и регулировал систему включения персонажей в действие, как в пьесе «Борьба Церкви с дьяволом». В одной ремарке сказано, что Змей идет за «завесу». Такие ремарки – не редкость. Они свидетельствуют о том, что пространство условно делилось на сценическое и театральное, хотя почти всегда эти два его вида сливались. За занавесом создавался семантический фон действия, иногда составляя ему смысловой противовес. Оттуда в поэтической форме комментировались события, происходящие на сцене, как, к примеру, в «Ужасной измене сластолюбиваго жития», где Хор «за запоною» развлекает Пиролюбца пением. В пьесе «Борьба Церкви с дьяволом» «за завесой» поются молитвы в ответ на призыв Христианина войти в дом Божий и воздать хвалу Господу.
Описанным выше видам художественного пространства противостоит то, в котором игрались интермедии, разбивавшие движение мистериального сюжета. Они не требовали трехъярусной сцены, их действие происходило только на земле. Это пространство было сжато, имитировало повседневное, не имело маркированных точек. Правда, существуют интермедии, в которых участвуют черти. Здесь, следовательно, учитывается пространственная вертикаль, тем более что, уходя, точнее, убегая со сцены, они утаскивали комических персонажей в ад.
Итак, в театре, как и в изобразительном искусстве той эпохи, пространство то конкретизируется, то абстрагируется; оно сжимается, развертывается, «меняет масштабы фигур <…>, это пульсирующее пространство настолько активно, что сковывает, подавляет населяющих его персонажей: их застывшие позы, неловкие жесты, внутреннее напряжение кажутся вызванными необходимостью преодолеть обволакивающее их пространство, его неослабевающий пресс» [Бусева-Давыдова, 1991, 27].
В связи с мистериальным театром следует обратиться к вертепу, о котором уже говорилось в I главе книги с точки зрения действия оппозиции сакральное / светское. Теперь рассмотрим, как выглядит пространство этого религиозного кукольного театра. Оно вторит пространству мистериальному. Вертеп как бы кратко записывает его формулу. Если мистериальное пространство – это модель мира, то вертеп – это несколько искаженная модель мистерии, и, следовательно, он также вторит очертаниям христианского космоса. Его пространство членится по вертикали, а также по горизонтали, что наглядно сказывается в его устройстве. Горизонтальное членение создают мансьоны, закрепленные за отдельными персонажами, вертикальное – ярусы.
В вертепе должны были бы различаться три яруса, но чаще он состоит из двух. Третий, небо, обычно выглядел как мезонин. Ярусы имели цветовое решение. Верхний выстилался белой овчиной, а нижний, где господствовали силы зла, – черной. Вертеп не только воссоздавал строение мира. Одновременно он символизировал вертеп (пещеру), т. е. тот сакральный локус, в котором стояли ясли Христовы, отмечавшиеся и на школьной сцене.
В «Рождественских виршах» Памвы Берынды маркируются три точки священного пространства, связанные с вертепом: Вифлеем, ясли, хата, в которую он порой превращался. Вертеп иногда и выглядел как крестьянская хата, но над ней всегда высился крест. При этом хату-вертеп окружали приметы повседневного пространства, фонарь, колодец, собачья будка [Федас, 1987, 162]. Мог вертеп превращаться в церковь. «И храм и театр совершенно тожественны в идее своих одинаковых вещественных форм» [Фрейденберг, 1988, 26]. Иногда в нем даже цитировались очертания конкретных сельских храмов, типичных для западной Украины, где вертепы имитировали церкви с соломенной кровлей. В строении вертепа обязательно подчеркивались те элементы, которые несли наибольшую сакральную нагрузку, – купола, кресты. Они размещались в его центральной части, оклеивались фольгой и цветной бумагой. Таким образом, в вертепе мистериальное пространство совмещалось с приметами народного быта точно так же, как мистерии сталкивались с ними в интермедиях.
В заключение хотелось бы еще раз сказать, что принципиальная «бедность» мистерии – это пустая сцена, почти полное отсутствие декораций и реквизита, сдержанность исполнителя, однообразность действия, чрезвычайное доверие к слову. Эта «бедность» таила в себе подлинную условность, без которой всякое искусство немыслимо. Отказываясь от игры, декораций и многообразия реквизита, мистериальный театр, следовательно, доверял строение художественного пространства только сцене. Мистерии, игравшиеся на площадях, имели открытое пространство. В школьном театре его открытость зритель должен был домысливать.
* * *
Мистериальное пространство – это пространство символическое, в котором очертания сцены приобретают поистине космический размах. Оно не скрыто от зрителя. Он не должен спускаться в глубинные слои текста, вскрывать затемненный смысл отдельных высказываний или деталей сценического оформления. Зритель непосредственно видел перед собой «макет» мира – этого главного «героя» религиозного театра. Человек постепенно становится им в моралите, где приближается к сакральному пространству, куда на самом деле ему нет доступа.
Совершенно иной тип пространства выстроил «охотницкий», или любительский, театр. Он был театром светским, и его пространство уже не имело сакральных значений. Оно не было пространством метафизическим, так как воспроизводило очертания мира, реально существующего. «Охотницкий» театр стремился передать очертания географического пространства и бытового. Постановщики и драматурги не воспроизводили контуры христианского космоса. По сравнению со школьным театром они по-новому организовали художественное пространство.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?