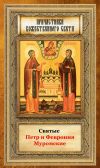Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 72 страниц)
Мистериальное пространство – модель мира
Мистериальный театр не прибегал ни к метонимии, ни к метафоре. Метафора есть основа языка романтизма и символизма, полагает Р. О. Якобсон. Чрезвычайно значима метафора и для барокко. Несмотря на это, мистериальный театр не реагировал на требования эпохи. Он «не заговорил» на языке метафоры, и, следуя вневременным художественным задачам, отказался от нее. Он не имел в виду и метонимический принцип воссоздания действительности, который, по мнению Р. О. Якобсона, присущ реалистическому направлению. Метонимию можно усмотреть лишь в интермедиях, но они никогда не шли по пути мимесиса, не отклонялись от действия «к обстановке, а от персонажей – к пространственно-временному фону» [Якобсон, 1990, 217].
Этот театр воплощал модель мира. Он не выстраивал собственное художественное пространство, а с помощью сцены точно повторял очертания мироздания. Он принципиально не различал театральный макрокосм и сценический микрокосм, не стремился к тому, чтобы зрители следовали той точке зрения, которой наделялись персонажи. Так осуществлялись принципы экономии и достаточности, снималось противопоставление между миром и театром. В этом снятии – признак эпохи, тяготеющей к coincidentia oppositiorum [Смирнов, 1991, 160]. Это совпадение знаменательно, так как определяет тип художественного пространства мистерии.
В ней выстраивалось пространство созерцания, невидимое превращалось в видимое. В религиозной системе ценностей невидимое всегда выше видимого. Театр, сохранив эту расстановку значений, перевернул оппозицию видимое / невидимое, чтобы представить на сцене невидимый мир видимым и сделать невидимым мир реальный, т. е. тот, что окружает людей в их повседневной жизни. Мистерия была равнодушна к реальности, не выносила ее на сцену. Ей не была свойственна тенденция к подражанию. Она проходила мимо тех моментов, которые театры последующих эпох делают исходными для построения своего художественного пространства. Видимым в мистерии выступал мир высших значений, обладающий высшей реальностью. Именно этот мир и выносился на сцену.
Как мир, созданный однажды, был целостен, так и его театральная модель, предписанная и единая, не распадалась на составные части. Различение частностей не входило в задачи мистерии. Она не членила мир, вырывая из него значимые детали, не предлагала зрителю отдельные зарисовки, способные привлечь его внимание. Как всякое событие, чтобы быть увиденным и услышанным, вписывалось в рамки христианского космоса и священной истории, так театральное представление предлагало увидеть мироздание со сцены в целостном виде, а не только вторило ему. Театр декларировал эту свою черту: «Внушемъ толко охотно действіе в притворе, // Что когда на всемірномъ явится позоре» [Драма українська, 1929, 157].
Театр всегда избирает в пространстве некий локус и разворачивает свой ряд жизнеподобия или расподобления с жизнью. Это «живое произведение искусства, развивающееся из акта в акт во времени, и действующее в осязаемом пространстве» [Эрберг, 1919, 114]. Осязаемым пространством мистериального театра был весь мир, ориентированный по вертикали: небо – земля – ад. Оно изображало всю Вселенную целиком. Как мир был театром, так и театр – миром.
Мир-театр – это устойчивый топос, существующий с давних времен и активизировавшийся в эпоху барокко. Если мир был театром, то все смертные – актерами и зрителями одновременно. Режиссером или драматургом объявлялся Бог, иногда – судьба. Этот барочный мотив дожил до наших дней [Б. Пастернак]. Поэты эпохи барокко без устали описывали картину мира и место человека в ней в театральных терминах. Как писал польский поэт 36. Морштын, ведь мир – это сцена, а мы все исполняем комедию, какую предписывает нам великий Мастер. И, как в маскараде, один будет королем, а другой императором. Поэту вторили проповедники: «Жизнь человеческая подобна комедии, люди, живущие на земле, это актеры, Бог – создатель, автор этой комедии,…принять роли или отказаться от них – не в силах наших…» (цит. по: [Sajkowski, 1972, 179]). Театр же перевернул этот топос.
Он не настаивал на четком описании мира в театральных терминах. Это описание появится только в пьесах на светские сюжеты. Зато мистериальный театр был миром в буквальном смысле. Его отношения с миром подлинным строились как отношения образца и копии. Будучи копией, театр предлагал воочию увидеть строение мира и осознать его сквозь сетку смыслов, наброшенных на него. Делать это он должен был не через сложную систему подобий или через часть от целого (pars pro toto). Он представлял мир в целом, потому метафора или метонимия не участвовали в организации художественного пространства. Заметим, что театр стремился к этой целостности не только в средние века или в эпоху барокко. П. Клодель однажды написал об одной своей драме, что ее сценой является весь мир.
Христианский космос изображался сценой, распадавшейся на ярусы, очень скупо. Небо возвышалось над землей, под землей располагался ад. Мистериальные события отражались на срединном ярусе – земле, где отмечались некие точки: дворец властителя, хижина отшельника и проч. Здесь же выступали евангельские персонажи, что придавало срединному ярусу сакральные измерения. Соответственно, заданная для него горизонталь прочитывалась в символическом плане.
Верхний ярус сцены выглядел как помост. Он символизировал небо или рай, который мог открываться и закрываться с помощью специальных машин. «Потом затворятся двери небесе» [Ранняя русская драматургия, 1975, 157], – сказано в пьесе «Борьба Церкви с дьяволом». Закрывали рай и облака. Они могли изображаться на кулисах. Например, в позднем иезуитском театре «комплект облаков» входил в декорации-кулисы [Kadulska, 1997, 41]. На закрытость рая указывает такая ремарка: «Зависть сказуетъ, ходя коло рая» [Драма українська, 1925, 288]. Не раз персонажи мистерий просили «отверзти» небеса. Рай иногда отличался от неба, был отдельным сегментом пространства, на что обращала внимание В. П. Адрианова-Перетц. В доказательство ее тезиса можно привести эпизод, в котором Глас с неба обращается к Натуре, находящейся в раю. Их диалог направлен по вертикали. Небо украшалось звездами, на нем «плавали» облака, к которым приближались ангелы. Облака расступались, когда ангелы вели в рай праведные души.
Из монологов персонажей ясно, что рай виделся как сад. Таким он представлялся в немецких мистериях, притом просто и наглядно. Там ставилось древо познания, рядом с которым располагался цветник Марии Магдалины [Колязин, 2002, 75]. В «Жалобной комедии об Адаме и Еве» рай именуется вертоградом. Адам зовет Еву: «Иди же со мною, да любовию время во вертограде упразним» [Ранняя русская драматургия, 1972, 118]. В «Рождественской драме астраханской семинарии» действие происходит в рае-саде. От лица Бога говорится: «От всех древ, которыя есть в раю, плода вкушай» [Ранняя русская драматургия, 1975, 139]. Отвлечемся на некоторое время от темы райского сада и в связи с деревьями, выставленными на сцене, скажем, что в польских иезуитских драмах для изображения священных локусов использовался тот же реквизит, но особым образом. В некоторых мистериальных пьесах деревья сначала выглядели как политые кровью Христовой, затем на них распускались золотые листья и вместо плодов созревали сердца [Kadulska, 1997, 11].
Русская мистериальная сцена не располагала возможностями представлять такие чудесные метаморфозы, да и сам рай чаще описывался. Хотя для его изображения на сцене специально покупались «восковые яблоки, медная золоченая проволока и шелк разных цветов для привязывания листьев на райские деревья, ножницы для вырезывания этих листьев и „ярь“ для раскраски» (цит. по: [Ранняя русская драматургия, 1972, 308]). Рассказывалось, например, что в раю процветает красный виноград, благоухают красные цветы, что он напоен ароматами, а древеса райские дают «снедь злату». О шуме их листвы вспоминают Адам и Ева, изгнанные из рая. В раю текут реки слаще меда, его населяют звери, скоты, гады, подвластные человеку. В раю за деревьями прячутся Адам и Ева: «Зде Адам да Ева идут и хранется за древо» [Ранняя русская драматургия, 1972, 118].
Из речей прародителей и змия-искусителя вырастает не статичный образ рая. Змия рассказывает, как выходит она в этот чудесный вертоград «поутрии зело рано пред солнечным въсходом, <…> очеса мои удовольны бяху в прекрасных овощах на древесех» [Там же, 119]. После грехопадения прародителей вертоград предстает темным и мрачным. Отступили от Адама ангелы, убежали «зверие», «солнце, луна и звезды воззирают на мя зело печалными образы. <…> Ныне же принуждены есмы в кромешной адовой лужи купатися» [Там же, 126], – жалуется Адам. Ангел Уриил ему вторит: «…никая бо птица болши не поет, никий зверь болши не ищет про себя пищи, никий цветок не обретается в прежней бывшей красоте, древеса низ сраняют от печали листы свои и трава увядает» [Там же, 127]. На эти изменения образа рая обратил внимание А. С. Демин [Демин, 1998, 480].
Змия делает вид, что жалеет Адама и Еву, так как теперь они дрожат от холода. Она обещает повести их в иное место, где они будут от тоски «потети», т. е. в ад. Так намечается связанность ярусов мира, которые в мистерии всегда существуют в неразрывном единстве.
Рай-сад окружен оградой, которая не представлялась на сцене. Об этой ограде упоминается не раз, что выявляет присущее ей значение границы. Аллегорическая фигура Прелести притворно восхищается «злачным» местом и говорит о том, что чудесный вертоград находится в ограде. Итак, рай – это сад огражденный, находящийся на высоте. В целом, рай называется небесами, которые имеют двери: «Потом затворятся двери небесе, и облаки найдут паки, и будет мусикия» [Ранняя русская драматургия, 1975, 157]. Так, небеса оказываются отграниченными, как и собственно рай, только не вратами, а дверьми.
Кроме того, он принимает очертания чертога. Христос в «Действе о десяти девах, о пяти мудрых и о пяти юродивых» его так и называет: «Вниидите убо до сего чертога / и насладитеся веселия многа. <…> Внидите в чертог мой, внидите, / там, дщерия моя, пира ся насладите» [Там же, 148–149]. Девы мудрые повторяют: «Нас же в чертоги свои призывает. <…> В чертозе красном небеснаго рая / вси торжествуйте, весело играя» [Там же, 149]. Чертог этот не только прекрасен, но и высок. Он называется горним. Так подчеркивается идея высоты рая. Чертог, как и сад, на сцене не показывается. Он отмечен вратами, знаменующими закрытость, как и ограда. Около врат райских происходит «Действо о десяти девах». Перед мудрыми девами они открыты. Перед юродивыми, которые также приближаются ко вратам небесным, закрыты. Христос не намеревается их им открывать: «Не отверзу вам, не вем, откуду придосте, / аз не вем, почто зде внидосте» [Там же, 150]. Для них только ад «отворяется».
Иногда чертог заменяется дворцами, расположенными раю, в которых живет Бог, «славный гетман». Образ рая попал в «Интермедию про Максима, Рицька и Дениса». Дан он в отражении, через сон Максима. Он видит во сне рай, и его очертания сближаются с очертаниями золотого замка: «Мури маєт золотої / Та каменями сажені / Дорогими: суть зелені, / Суть білії, черленії» [Україньска література, 1987, 386]. К этому замку ведет золотой мост. В нем поют чудесно ангелы, сам Бог сидит «за столом» и «всі біють пред ним чолом».
Образ рая увязывается с трапезой, или «банкетом». Тот самый Максим, который видел рай в образе замка, подробно рассказывает о роскошном банкете, устроенном самим Господом. Он «носити їсти казав», на столах появились печеные куры, поросята, пироги, «та і борщика зварили». Была там и каша, и ботвинья, и горох, и много других чудесных вещей. Заметим, что представления о райском «банкете» встречаются в мистериях, как в украинской пьесе «Dialogus de passione Christi». Образ рая-замка перекликается с представлениями о нем как о граде, столице. Рай до грехопадения Адама – это столица Естества, его «Капитолиум».
Выяснив, как выглядит верхний ярус мистериальной сцены, обратимся к вопросу о том, как осуществляется связь вышних сил с человеком. Они не только с высоты наблюдают за земным миром, но и обращаются к человеку, т. е. к Натуре Людской. Они также спускаются вниз. Так поступает Милосердие Божие, сожалея о погибели душ человеческих. Идут на землю Ангелы с молитвами. Посетив землю, они направляются ввысь и непременно говорят о своем пути к небесному граду, в горний Сион. Оттуда доносится ангельское пение, там радуются вифлеемские младенцы, утешая дщерь Сионскую. Это движение по вертикали особым образом подчеркивает строение художественного пространства мистериального театра.
Обратимся теперь к нижнему ярусу мира. Ад обычно изображался лишь входом в него, который назывался иногда «устами адовыми». Не только уста, но и гортань была у ада. Ирод так восклицал: «В гортань достахся ада, не точию в руки!» [Ранняя русская драматургия, 1972, 269]. Ад был невидимой нижней частью пространства. Он всегда был закрыт, как и рай, и открывался, когда, например, туда нужно было отправить грешников. Отмщение говорило Ироду: «Иди во ад на веки, иди, окаянный!» [Там же, 268]. Следовательно, Ирод должен был спуститься в нижний ярус, войти в «пещеру». В программе «Рождественской драмы» Димитрия Ростовского ад также назван пещерой. Не раз назывался он мрачной темницей, колодцем. О нем говорили, что он «студенец, от него же вопль, дымъ и пламень огненный исходитъ». Не раз ад именовался ямой или мельницей.
Как из рая доносилось ангельское пение, так и из ада слышались голоса, но это были голоса грешников, жалующихся на муки и страдания «во узахъ ада». Грешники также громко «воздихали». Стоны их слышались всякий раз, когда Иисус готовился принять чашу из рук ангела в Гефсиманском саду. Раздавалось из ада пение. Оттуда доносились вопли «Желания праотцов». Так через код слуха незримо достраивалось художественное пространство.
Из речей персонажей ясно, что происходит в аду. Например, там сидят «цыкліопы», кующие оружие. Они ударяют в млаты, прислуживая Вражде. Из ада, из «пекелных заклепов», исходят силы зла. Оттуда дьяволы появляются, притом бегом. Страшный Змий выползает, рыча и ярясь. Фурий «съ пекла» призывает к себе на помощь богиня Вражды. Злые силы всегда должны были сидеть в «пекле», они не могли царствовать «въ свете на позоре». Также проникали в ад Милость Божия и Вера, стремясь освободить из темницы Натуру. Так, в аллегорической форме изображалось сошествие в ад Иисуса Христа, который в пьесе «Слово о збуреню пекла» сам туда спускался.
По уверениям Ада и Люципера, главных персонажей этой пьесы, в аду стоят роскошные дворцы, которые разоряет Христос при сошествии во ад. Он их «попсовалъ» и «сплюндровалъ». Так ад принимает очертания города или воеводства. Ад – столица Люципера, его держава. Напомним, что рай иногда именовался «Капитолиумом». Также говорилось о его дворцах и чертогах.
Картины мук адовых пугают далеко не всех. Интермедиальные персонажи вовсе не задумываются о том, как выглядит нижний ярус мира, зато уверены в том, что там всегда тепло и можно погреть старые кости и напиться горилки: «А где ш тепла / Я, як старий, люблю, / Бо як зима прийдет / і шам шебе згублю» [Українська література, 1983, 386]. В этой «Интермедии на три персоны: Баба, Дед и Черт» Деда занимает лишь то, как далеко до ада. В его представлениях ад находится не под землей. Он – некая страна, отдаленная от его жилища в горизонтально ориентированном пространстве. Она не видится ему ориентированной по вертикали. Так ад получает свое место на географической карте, но остается при этом пространством замкнутым, где орудуют черти, всегда готовые проявить гостеприимство по отношению к грешникам.
Рассмотрим теперь, как соединялись между собой отдельные ярусы мира. Рай, если он изображался помостом, соединялся с землей лестницей. По ней уходили наверх аллегории и ангелы. Иной раз бывает прямо сказано: «Архаггелъ идет на небо» [Драма українська, 1929, 135]. Лестница эта имела символическое значение, поэтически разработанное в «Успенской драме» Димитрия Ростовского: «Та лествица к небеси, имей ко мне веру, / Чрез море – мир к небеси мостом будет миру» [Ранняя русская драматургия, 1972, 177]. Лестница могла принимать и другие значения, как в стихотворении Иоанна Величковского, в котором он уподоблял ей счастье: «Свет сей сну подобен, а щастие – драбине, / восходят и нисходят по ней мнози инни» [Свеличковский, 1972, 150]. На символической лестнице могли происходить некоторые эпизоды драм. Ад, в отличие от рая, с землей не соединялся. Движение в него было стремительным и бурным. В ад все «упадали». Заметим, что точно так же описывалось падение с «вершины» счастья.
Небо и ад необязательно показывались в моралите, но ориентированность пространства по вертикали тем не менее учитывалась, как, например, в пьесе Георгия Конисского «Воскресение мертвых». Горизонталь – организующий принцип пространства моралите, действие которого происходит на земле. По ней проходил путь Каждого. Горизонталь всегда предполагала вертикаль и без нее не существовала. Человек двигался по ней, но только незримо. Он шествовал по горизонтали и вертикали одновременно: перемещаясь от колыбели до могилы ввысь, к небесному раю или в ад. Проходил человек не только жизненный путь, но и путь духовный. Он совершал движение в двух измерениях. Как писал Дж. Марино, «…путь человеческий… от колыбели до могилы – шаг» [Хрестоматия, 1941, 17]. Известно, что у Кальдерона колыбель и могила могли выступать единственными декорациями. Об этих крайних точках жизни не раз писали поэты, как например, В. Потоцкий, вопрошающий о том, что же это за дорога такая легкая, такая проторенная, что сбиться с нее никак нельзя, и сам отвечал: к могиле. Польский «Диалог о древе жизни» поэтому имел второе название «Viator». Путь праведника был Imitatio Christi. Путь грешника – его антитеза. Представление грешного пути на сцене, по мысли драматургов, отвращало человека от пороков.
Конечные точки пути человеческого непременно отмечались на сцене, но необязательно непосредственно ярусами мира. Их могли заменять указания на символическое движение вверх или вниз. Актеры сообщали о нем в сентенциях, объяснявших смысл происходящего на сцене, напоминая о падении или возвышении человека.
Ярусы мира в мистериях порой олицетворяли аллегорические фигуры с тем же значением. В «Рождественской драме» Димитрия Ростовского Небо и Земля встречаются и беседуют между собой. В его же «Успенской драме» ангелы появляются держа в руках символические аксессуары, изображающие Землю и Небо.
Земля, срединный ярус, носила условный и, можно сказать, нейтральный характер и прежде всего служила площадкой для аллегорических фигур, спускавшихся или поднимавшихся на нее затем, чтобы косвенно представить евангельские события или жизнь души Каждого. Земля непременно соотносилась с адом и раем, но не конкретизировалась, как, например, в «Умирающему человеку полезном увещании». Больной находился на смертном одре, но окружали его не близкие и врачи, а Вера, Надежда, Любовь. Этот ярус терял свою относительную условность, когда приобретал библейские очертания, естественно, на уровне слова. Например, так формировалось пространство Каина и Авеля – то поле, на котором приносится жертва. Движение к холму маркирует то пространство, в котором должен быть принесен в жертву Исаак. Пустыня и ров, куда ввергают Иосифа братья, – это то пространство, в котором разворачивается история Иосифа. Иудея как царство Ирода упоминается постоянно. Зависть, например, обещает пройти все пещеры и горы «Юдеи». Весть сообщает, что она прибыла из Иерусалима и теперь пролетает «всю подсолнечну». Обязательно бывает отмечен Вифлеем, Гефсиманский сад, дворец Ирода, Голгофа. Зрителю предлагалось поверить в то, что действие происходит в Риме: «До Риму, бачю, тая дорога провадить»; «И до славнаго Риму ся вертаемъ» [Драма українська, 1928, 175, 173]. Алексей из Рима шествует «до Едеса града».
Возникают в художественном пространстве мистериального театра некие географические метки. Они никак не реализуются на сцене. Части света выступают как аллегорические фигуры. Европа, Азия, Африка и Америка прославляют Рождество. Упоминаются Сирия, Евфрат, Египет, Аравия. Мудрецы прибывают из Египта, Малого и Большого. В выступлениях Бояр, окружающих Гонория, цесаря римского, упоминаются Африка, Этрурия, Гишпания. Географические приметы характерны и для мистерии, и для моралите.
Не только географические, но и, на первый взгляд, конкретные локусы на самом деле были условными и непременно поверялись адом и раем. Так, у Георгия Конисского в «Воскресении мертвых» Диоктит отнимает все имущество у Гипомена: лес, мельницу, дом, сад, пруд. Они, естественно, не отмечены на сцене. О них Диоктит только говорит, но, как выясняется далее, не случайно. Праведнику не пристало оплакивать имение свое. Гипомен же оплакивает свои потери – дом, «власный грунт», «ниву плодоносну», мельницу, «отческій сад». У него остался один «домок», да и то без ограды и ворот, весь разоренный. В конце концов Гипомен умирает, и душа его возносится на небо, где все его владения и отпечатываются. Каждому из них в символическом плане соответствуют знаменательные точки вышнего мира. «Грунта мои нине суть небеса широки; / Лесъ мой – Едемъ прекрасній стоит на Востоке; / Мелници мои – светилъ небеснихъ кружала, / Пруда води животной чистее криштала; / Домъ мой – чистое злато, камень многоценній; / До-машніе – прекрасни аггельскіе чини» [Драма українська, 1929, 177]. Вот за что сражался Гипомен, отказываясь от своих владений, хотя и сожалел о них. Вот что он приобрел после смерти.
Действие этой сравнительно поздней пьесы протекает в пространствах разного типа. Есть здесь поле («отъ нивъ»), дом, где пьянствует Диоктит и откуда его относят в «храмину». Гипомен, судя по всему, находится все время снаружи, вне жилища. Где-то на сцене должна была размещаться темница, точнее, вход в нее, вторящий адовой пещере. Туда отводят связанного Гипомена. В финале пространство пьесы расширяется до вселенских масштабов. Дьявол приводит Диоктита из ада, т. е. главной темницы мира, противопоставленной той, в которой побывал бедный Гипомен при жизни. Гипомен же является с Ангелом, «от блаженства изшедши» [Там же, 175]. Вертикаль прорисовывается еще раз – Диоктита вновь отсылают в ад: «Иди, поспешай во адъ, погибелній сину» [Там же, 177]. В рай намеревается вернуться Гипомен: «Не могу на сем месте более медлети, – / Тецемъ насищатися той слави со клеврети» [Там же].
В этой пьесе в организации пространства участвуют хоры, поющие канты. Первый кант задает тему Воскресения и вечной жизни через евангельский мотив зерна, которое сначала гниет в земле, а потом дает ростки и превращается в тучную ниву. Так и человек не умирает, попав в землю. Второй кант описывает изменчивость и непостоянство мира и призывает вспомнить о том, что ожидает человека за гробом, когда «в день остатній» раздастся «гласъ труби ужасній, / Шумъ и троскот страшній» [Там же, 164]. Третий кант ведет тему дня гнева: «Казнь вечна / Различна / Готова» [Там же, 173]. Кант страшит адом, где «вседневно / Огнь ревно исть тело, – да и цело / Вящшихъ мукъ ради, / Червь не-усипаяй / Гризет непрестаяй; / Огненная купель / Сера да жупель / Во аде, / Во смраде» [Там же]. Четвертый кант живописует радости рая, где забываются все страдания и мечтания, где звучит божественная музыка и триумфальные песни, где нет «плача с тугою» и «вопля з бедою» [Там же, 178]. «Всемъ пространно небо данно; / Прохажатися, / Прохлаждатися / Повсюду волно» [Там же]. Так канты окружают действие пьесы, вычерчивая контуры целостного художественного пространства, в котором помещены эпизоды земной и вечной жизни Гипомена и Диоктита.
Как видим, художественное пространство необязательно остается в пьесах неизменным. Пролог и «видокъ первой» в пьесе об Алексее человеке Божием задают трехмерное пространство. Здесь Ангелы «низходят от степеней высоты» [Драма українська, 1928, 128]. В следующем «видоке» св. Алексей появляется в условном безотносительном пространстве в окружении аллегорических фигур. Но уже здесь земля противопоставлена небу. Эту антитезу можно услышать в пении Ангелов. Намечают ее действия Чистоты, которая «стелет» Алексею путь, ведущий до неба. Затем действие развивается на земле, в доме Евфимияна, или около него, во дворце императора, у стен храма. Эти локусы не разрушают вертикаль мира [Сазонова, 1991, 484]. Она подтверждается появлением Архангела Михаила, который беседует со св. Алексеем. Эту вертикаль подтверждает ангел Уриил, объявляющий людям о человеке Божием. Ее выстраивает глас с небес, призывающий «труждающихся и обремененных» искать тело святого. Окончательно вычерчивает вертикаль последний эпизод, где «святый Алексей тешится на небеси посреди ангелъ» [Драма українська, 1928, 185].
Изменения пространства совершались не только за счет перенесения действия с одного яруса на другой, но и благодаря принципу отражения. Сон персонажа вызывал новые измерения пространства. В «Ужасной измене» Пиролюбец видит во сне Иова на гноище. Так действие переносится из пространства Пиролюбца, из мира с его соблазнами, в пространство библейское. Эти два пространства сцеплены друг с другом, сосуществуют одно в другом. Весь сюжет поверяется последними явлениями, где Пиролюбец является «в геенне» и видит Лазаря в раю на лоне Авраамовом. Так противопоставляются два яруса пространства. Во сне св. Екатерине («Declamatio de S. Catharinae Genio») являются Любовь Земная и Небесная. В тексте не указывается, откуда они пришли, с каких ярусов переместились в сон святой. Сказано только, что они появились, чтобы указать ей на возможность выбора пути, в рай или в ад.
В отличие от театра последующих эпох, школьный театр никогда не скрывал своего основного предназначения – моделировать картину мира, в чем он сходен с обрядом. Эта картина не постепенно вырисовывалась в представлении. Она не складывалась с течением действия, а предопределялась устройством сцены. Задача драматурга состояла в том, чтобы привлечь внимание зрителя к мирозданию в целом, указать место человека на земле, в аду или раю. Например, в «Мудрости Предвечной» действие происходит в «едемском вертограде», в «Слове о збуреню пекла» – в аду. Эта общая цель не предполагала выписывания деталей и отдельных частностей.
Для моралите характерно безотносительное пространство, неотмеченные локусы. Неважно, где семь смертных грехов венчают богиню Ериннес или где «Гоноръ Божий» призывает Божие Отмщение, как и то, где находится Церковь, окруженная аллегорическими фигурами Веры, Надежды, Любви и оплакивающая муки Христовы. Такое место действия универсально. Это мир души человека, спроецированный на христианский космос.
Пространство меняло свои очертания, когда из универсального и немаркированного становилось евангельским локусом, как в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского. Неизмеримое пространство, в котором фигурируют Натура, Смерть, Зависть, преображается в конкретный локус, где пребывают евангельские Пастыри. Циклопов и Зависть сменяют трогательные Пастухи, которым благовестит Ангел. Подразумевается, что они находятся в поле, а их товарищ только что ходил в город. Эта приближенность к реальности, заземленность исчезают с появлением Ангела – действие теперь разворачивается по вертикали. То же наблюдается в «Отрывке Рождественской драмы». Пространство здесь, с одной стороны, кажется реальным, с другой – беседы персонажей приподнимают его над полем, где они находятся. Оно приобретает очертания евангельского локуса. В «Ужасной измене» из немаркированного пространства, где находятся аллегории Сластолюбия и Нищеты, оно превращается во дворец. Там происходит трапеза Пиролюбца, а затем все события перемещаются в христианский космос.
Существуют эпизоды, в которых членение мироздания на ярусы не маркируется. Тогда на первый план выходит такой признак пространства, как безграничность. В антипрологе «Рождественской драмы» Димитрия Ростовского Натура Людская и окружающие ее аллегории находятся в условном пространстве, не отмеченном делением на ярусы. Также в «Трагедокомедии» Варлаама Лащевского везде и нигде находятся Церковь, Мир, Благодать Божия. Но, как следует из диалогов персонажей, картина мира при этом прочерчивается вполне определенно. Благодать Божия, обращаясь к Злочестивой и Благочестивой душам, говорит, что хочет видеть их рядом с собой. Следовательно, они находятся в ином пространстве, нежели Благодать. Кроме того, Злочестивая душа вряд ли могла находиться рядом с Благочестивой. Особое место должно было быть отведено Юношам, наблюдающим общение аллегорических фигур и комментирующим его.
В «Разговорах Души с Телом», которые, судя по всему, происходят на земле, об аде и рае только говорится. В «Споре Души с Телом» Ивана Некрашевича, происходящем в неотмеченном пространстве, можно проследить, как наращиваются его воображаемые ярусы по мере усиления страха Души перед Дьяволом, с повторением предложения Тела молиться: «Встань от одра и внимай, что Паvелъ говорит, Да осветитъ тя Хрістосъ, да врагъ не уловитъ» [Драма українська, 1929, 245]. Душа обвиняет Тело в том, что оно приросло к земле. Тело же говорит Душе, что они вдвоем предстанут на суде, где будет решено, геенна или Царство небесное ожидают их.
Чаще, конечно, на сцене представлялось деление пространства на ярусы, но бывало оно и неполным. Действие могло происходить на каком-то одном ярусе, например, в раю, где Адам и Ева срывают запретный плод, но их тут же застает Ангел. Действие еще длится в раю, но очертания ада и земли уже маячат, так как Ангел, а не Господь изгоняет Адама из рая на срединный ярус мира и велит ему копать землю. В «Слове о збуреню пекла» художественным пространством является отдельный ярус – ад с воротами и железными замками, запертый со всех сторон. «Адовы жители» постоянно сопоставляют его с раем. О том, что в раю пребывает Бог, – Ад и Люципер непрестанно говорят.
Возможно, что противопоставление ада и рая лишь предполагалось. Ангел беседует с Адамом, призывая его выйти из ада. Адам из ада отзывается «до раю». В первой сцене «Царства Натуры Людской» спорят Люцифер и Архангел Михаил – так сталкиваются рай и ад. Также перекликаются Ангелы и Натура Людская. Ангелы обращаются к ней с неба, Натура плачет и рыдает в аду. В этом случае персонажи не нарушают предписанных им ярусов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.