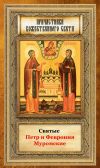Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 65 (всего у книги 72 страниц)
Это – образ любви возвышенной и чистой. Такая любовь – Софиина дочь, противопоставленная любви вульгарной, ложной, рождающейся из тленных предметов. Любовь же, порожденная мудростью, прекрасна. Она «свята, аще истинная; ей, глаголю, истинная, аще обрела и узрела єдину оную красоту и истину: „Посреде вас стоит, его же не весте“» [Сковорода, 1973, 1, 154]. Такая любовь разливается по свету, и с ней исчезает внешний мир, оживляя душу человеческую. Для Вл. Соловьева София – великая, царственная, женственная сущность, истинное, чистое и полное человечество, душа мира. Для П. Флоренского – осуществленная мудрость и творческая любовь Божия. С. Булгаков полагал, что София «своим ликом обращена к Богу, она есть Его Образ, Идея, Имя» [Булгаков, 1999, 197]. Таким образом, и Сковорода, и философы рубежа веков мыслили о категории любви в одном направлении.
Вл. Соловьев, Н. Лосский, П. Флоренский рассуждали не только о христианской любви, но и о совершенной дружбе, ведущей к полному единодушию двух существ, к созданию новой духовной сущности, позволяющей познать тайну Божию. Также Сковорода полагал, что дружба, как и любовь, невозможна без Бога, уточняя, что если человека и Бога объединяет любовь, то человека и человека – не только любовь, но и дружба. Это сам Бог «примешал» к жизни дружбу. Потому даже религию философ готов назвать истинной дружбой, так как она утверждается в Боге: «Единство ни в телесном подобіи, ни в тое же статье, и ни в сообществе покрова, ни в количестве лет или в ровестничестве, ни в землячестве или одноземстве, ни на небесех, ни на земли, но в сердцах союзом Христовой философіи связанных» [Сковорода, 1973, 2, 392]. Дружбу философ хотел положить «остатним краем и пристанищем всех своих дел и желаній» [Сковорода, 1973, 1, 131]. Дружба для него подобна любви. Она родится стихийно и объединяет людей, сходных по природе. Ее нельзя выпросить, купить или вырвать силой. Дружба немыслима без добродетели, а также сходства ума и занятий. Несовершенные люди не способны к дружбе, как и к любви. Совершенные же, несущие в своем сердце любовь, знают ее.
В концепции человека у Сковороды важное место занимает идея самопознания, которую философ афористически выражал древним изречением «Познай самого себя». Он сожалел о том, что смысл его забыт, и требовал его возрождения и осмысления. «Освятив божественным авторитетом внимание к своей персоне, человек и сам стал пристальнее всматриваться в себя» [Бычков, 1995, 134]. Это «всматривание» стало у Сковороды важной внутренней работой, итогом которой должно быть объединение с Богом. Процесс самопознания у него двуедин, так как человек одновременно познает себя и Бога. Самопознание преображает человека, и все мертвенное в нем исчезает. Таким образом, «через познание себя мы приходим к Богу, а от него вновь возвращаемся к себе, возрожденному и воскресшему» [Шпет, 1989, 89].
Любимое изречение Сковороды цитировал и Б. Вышеславцев: «"Познай самого себя" – мудрость эллинская и древнеиндийская. Но люди не знают самих себя, и не только в смысле своего характера, своих страстей, своих недостатков, нет, в гораздо более глубоком смысле: они не знают своей истинной самости, своего истинного Я – того, что индусы называют „атман“, что христианство называет – бессмертной душой, сердцем, сердцем души» [Вышеславцев, 1925, 66]. Это изречение он, как и Сковорода, переводит в план христианских ценностей: «Христос говорит: какая польза человеку, если он весь мир приобретет, душу же свою потеряет? Он говорит здесь именно об этом предельном таинственном центре личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность» [Там же].
Русские философы рубежа веков различали два мира: «Есть два мира, и мир этот весь рассыпается в противоречиях, – если только живет силами того мира» [Флоренский, 1914, 483]. Они полагали, что есть мир неизвестный, неограниченный, бесконечный и «мирок» как его часть [Франк, 1990, 204]. Рассматривали эти два мира как видимый и невидимый, переводя архаическую оппозицию в современный план. Так, Н. Бердяев задавался вопросом: «В чем духовные корни буржуазности? Слишком сильная вера в этот видимый мир и неверие в иной, невидимый мир. Буржуа потрясен этим видимым миром вещей, потрясен им, соблазнен им» [Бердяев, 1926, 271].
Сковорода детально развивал это противопоставление, утверждая, что мир не един, а распадается на мир символический и мир реальный, благословенный и проклятый. Эти миры различаются как видный и невидный. Очевидно, что невидное выше видного, что духовный мир скрыт от человека, и, несмотря на это, человек должен к нему неустанно стремиться, помня о том, что видимый мир – это лишь «болванеющіи» внешности, отражающие невидимое и приносящие человеку горести и беды.
И Сковорода, и философы рубежа веков взирали на природу как на часть божественного мира. Сковорода знал, что Бог пронизывает ее собой, что он в дереве дерево и в траве трава и сам он природа, которая так же, как и он, есть начало, ни начала, ни конца не имущее: «Весь сеновный мир до последнія своея черты, от виноградныя лозы до самой крапивы, от нитки до ремня, событіе свое получает от вышняго» [Сковорода, 1973, 1, 346].
Не раз Сковорода выступал против естественно-научного понимания природы, которое, по его мнению, ведет к тому, что природа отторгается от Бога, и люди начинают переделывать ее по своему усмотрению. Поэтому философ был уверен, что познавать мир бесполезно, что нет нужды измерять море и землю, воздух и небеса, беспокоить «земное брюхо» ради металлов, искать на Луне реки и города, обнаруживать бессчетное множество «закомплетных» миров. Так люди ничего не узнают, и тайна природы им таким путем не откроется. Именуя все научные методы мерой, философ полагал, что истинная мера – совсем не та, которой располагают ученые. Для того чтобы ее определить, человеку нужно измерить себя, т. е. познать путь к Богу, который все освящает и просвещает. Философ был против «новых» опытов и «диких» изобретений, в которых ему виделись не только искажения божественного начала, скрытого в природе, но и тщетность усилий людей.
Его взгляды сопоставимы с концепцией П. Флоренского, утверждавшего, что без религиозных предпосылок наука немыслима. Без них происходит «падение науки, построенной на песках, зыбучих и засасывающих» [Флоренский, 1914, 126]. В. Зеньковский также считал, что по мере развития культуры и философии природа лишилась Бога, и видел в этом «огромное, роковое для всей христианской культуры значение. <…> Сначала началось обезбожение природы, дошедшее до полной и отчетливой формулировки лишь в XVII в., когда система деизма (как известно, возникшего по чисто богословским мотивам) была тесно соединена (у Ньютона) с окрепшим механическим пониманием природы. Природа стала пониматься как некий самостоятельный и замкнутый в себе порядок; если Бог и создал природу, то после создания ее Он отдалился от природы, которая живет сама по себе и может быть понятна „сама по себе“» [Зеньковский, 1926, 306].
Как и Сковорода, философы рубежа веков размышляли о Библии, и их отношение к священному тексту во многом сходно. Например, Л. Карсавин пишет о том, что церковь «научает нас не понимать упоминания о братьях Иисуса Христа и об Иосифе, как отце его, в буквальном смысле слова, хотя бы первые христиане так эти слова и понимали, хотя бы даже сами евангелисты не знали еще догмата Церкви о Приснодеве Марии и ошибались» [Карсавин, 1926, 292]. Сковорода неизменно настаивал на том, что священный текст нельзя понимать буквально, что Библия двойственна и в ней таится множество символов, которые человек должен «раскусить». Многих Библия обманывает, потому что человек – «заблуждаемый чтец». Но ее тайна может быть раскрыта, тем более, что Творец «будьто за ухо порвав, догадываться велит, что в сих враках, как в шелухе, закрылось семя истины» [Сковорода, 1973, 2, 10]. Философ прямо говорил, что в Библии на самом деле речь идет не о том, что в ней написано. Если воспринимать ее непосредственно, лучше вообще не прикасаться к ней, ибо лучше не читать и не слышать, чем читать без очей и слушать без ушей.
Он выступал против научного толкования священного текста и нападал на «словотолковников» и «ольховых богословцев», которые, толкуя Библию, забывают о Боге. Он был уверен в том, что они мудрствуют лукаво и говорят пустые слова. Они с детства уже «болтали» Библию и не оставили ни одного «стишка» или «словца», не оспорив его, но в тайны ее они не проникли. Они только засоряют Библию, рассеивая «письмозвонство». Спорят о происхождении духа, об ангелах и муках, о вере и святом причастии, но все напрасно, ибо к ней невозможно применять научные методы, которые приложимы к истории и естественным наукам. Потому зря ученые высоко возносятся «по знанію историчному, географичному, математичному, да все плотскому» [Сковорода, 1973, 1, 212], зря «химичествуют», толкуя эпизод Аарона, бросающего в огонь златого тельца. Сковорода знал, что Библия не есть «наука химии», но книга священная.
Л. Карсавин аналогично относился к научным попыткам истолковать Библию: «Раз христианство обладает абсолютною, т. е., в конце концов, Божественною истинностью и ценностью, не может быть и речи о проверке или обосновании его наукою. Ибо наука по самой природе своей и по существенному своему заданию не абсолютное, а относительное знание, а потому сама еще нуждается в обосновании» [Карсавин, 1926, 289].
Сковорода это относительное знание называл бедным «знаньицем» и «понятьицем». Н. Лосский возмущался пастырями и богословами, стыдящимися «ненаучности» повествований о чудесах, веры в преобразующую силу таинств, надежды на воскресение плоти: «Для таких лиц христианская религия сводится преимущественно к морали и христианские таинства низводятся на степень лишь символических действий» [Лосский, 1926,459].
Соотношение Нового и Ветхого Завета философы рассматривали аналогично. Л. Карсавин писал, что «можно сказать, что есть два Ветхих Завета: еврейский и христианский. Только христианин в силах понять истинный смысл и полноту Ветхого Завета, который лишь в христианстве „исполнился“, евреям же остается недоступным. Каждое слово Священного Писания разное говорит христианину и еврею, так что оно столько же является двумя словами, сколько и одним. Ибо одним оно в некотором смысле все же остается. Так один и тот же предмет, сразу воспринимаемый двумя, есть все же один и тот же предмет, хотя он и два предмета. Так одна и та же истина, постигаемая двумя, остается одною единою, хотя как бы и раздваивается» [Карсавин, 1926, 291].
Теперь обратимся к Сковороде, так объяснявшему суть Ветхого Завета: «Моисей закрылся в Евангеліи так, как Евангеліе пожерто Мойсеовыми книгами, которых оно есть летораслью» [Сковорода, 1973, 1, 204]. Как видим, код природы оказался пригодным для внутреннего сравнения Ветхого и Нового Завета. Разделяя Закон Божий и Предание, первое из них философ именует плодом жизни, второе – листвием. Предание – это также смоковный лист, прикрывающий ехидну. Сковорода уверен в том, что все книги Библии являют собой целое, и «если кто одну из них знает, тот знает все» [Там же, 205]. Сковорода не только видел Библию целостно, но и высоко ставил префигурации, проообразующие Христа.
В связи с цитатой из Л. Карсавина, приведенной выше, остановимся на том, что, по его мнению, каждое слово Священного Писания – не одно. Это два слова в одном, ибо их по-разному толкуют иудеи и христиане. В сакральном слове каждый находит свое. Примечательно, что Сковорода также видел в «библейном» слове «двоестественность», «слышах» «двое», но только иначе толковал эту ситуацию. Он полагал, что Библия написана теми же словами, которыми говорит человек, и в то же время это слова другие, священные, хранящие в себе тайну.
Есть сходство и в том, как строили свое учение Сковорода и философы рубежа веков и их последователи. А. Ф. Лосев стремился к синтезу веры и науки. Он постигал те же три «абсолюта», что и Сковорода, – Бога, мир и человека. «Примирения этих областей Лосев искал на путях построения универсальной системы знания, разрабатываемой им в традиции христианско-православного неоплатонизма школы всеединства В. С. Соловьева» [Постовалова, 1999, 407].
Сковорода, называвший себя философом и любителем мудрости, не раз говорил о непризнанности и одиночестве, полагая, что ни один философ, ни один художник так не одинок, так не предоставлен самому себе, как тот, кто учит о вечной жизни. Одиночество философа – особое, так как, будучи одиноким, он сближается со всеми посвященными, обладающими тайным знанием, с теми, кто способен прозреть святое и показать его людям. Тема одиночества подводит к проблеме индивидуальности, неповторимости человека, приближающегося к Богу, также одинокого в своей единственности. Сковорода приводит множество примеров, поясняющих эту мысль. Маги, волхвы, «халдеи», «гимнософисты», «софи», «иерофанты» были наделены высшим знанием. Они отвлекались от мирских дел и посвящали свою жизнь Богу. Сковороде вторит Бердяев: «В новое время все духовно значительные люди были духовно одиноки. Страшно одинок, трагически одинок был гений, творческий зачинатель. Не было религиозного сознания, что гений – посланник небес» [Бердяев, 1926а, 174].
Образ Сковороды, утвердившийся в культурном сознании, знаменательно схож с образом Вл. Соловьева, о котором сказано, что он «в мире не жилец, а вдаль стремящийся прохожий – бездомный бедняк-безсреб-ренник» [Сперанский, 1926, 225]. Н. Бердяев видел в Соловьеве некую «воздушность, оторванность от всякого быта. Не из земли он вырастал, не был он ни с чем органически связан, не имел корней в почве» [Бердяев, 1989, 215]. Ему было присуще чувство вселенскости и универсализма. Бердяев, кстати, и себя самого называл прохожим в этом мире. Бродячий философ Сковорода, которого мир ловил, но не поймал, был «убог, скуден, нужен», переносил свое нищенское состояние скромно, молчаливо, безропотно: «Дух его отдалял его от всяких привязанностей и, делая его пришельцом, пресельником, странником, выделывал в нем сердце гражданина всемірного» [Ковалинский, 1973, 44].
* * *
Если на рубеже XIX–XX вв. отношение к Григорию Сковороде и не манифестировались явно, о нем все же знали, его сочинения уже вызывали интерес. Резкого отторжения от его творчества не наблюдалось. Даже когда это отторжение происходит, зачастую необходимое для становления новых культурных форм, схождения с культурой прошлого возможны. Они вызываются «невольной» памятью культуры. «Воспоминания» подобного рода бывают абсолютно неосознанными.
К истории советской агиографии
Социалистический реализм, уже в наименовании которого читается скрытое указание на напряженные, но отнюдь не динамические отношения между искусством и обществом [Куренная, 1995, 7], претендовал на всеобщее и однозначное понимание. Он не стремился к новизне в художественном плане и, конструируя новый желательный вид реальности и образ нового человека, новым искусством слова быть не стремился. Соцреализм использовал давно сложившиеся и устойчивые художественные приемы, при этом усредняя и упрощая их. Писатели и поэты этого направления продолжали, может быть, сами этого не замечая, линии, уже прочерченные культурой. Как заметил А. Битов, за своими открытиями это искусство «сходило» к Толстому и Гоголю. А. Битов, И. Виноградов и многие другие указывали и на близость соцреализма к романтизму.
Но не только XIX в. был для соцреализма «стилевой находкой» и «кладовой» сюжетных мотивов. В нем можно усмотреть соотнесенность и с другими историко-культурными эпохами, чей художественный опыт не исчез из фонда культуры с течением времени. Имеется в виду древнерусская литература, реминисценции которой обнаруживаются в Новое время. Существовали они и в эпоху соцреализма, хотя проявлялись, конечно, относительно редко, причем только некоторые из них.
Социалистический реализм «стал <…> доктриной для России, его новым духовным ядром» [Куренная, 2004, 9]. Он по-особому воспроизводил действительность. Можно сказать, что писатели этого направления, тщательно отбирая литературный материал (что происходит в любые эпохи), в то же время относились к нему с некоторым равнодушием, ибо в настоящем им всегда виделось будущее. В этом можно усмотреть соответствие социалистического реализма с литературой древнерусской, не нацеленной на дела земные. Во многом это объясняется дидактической направленностью древнерусской литературы, свойственной также литературе соцреалистической. И та, и другая литература воспитывала общество на примере человека идеального, который, конечно, разнился, хотя, как мы покажем, имел и сходные черты. Отказ советской литературы от свойственного литературе XIX–XX вв. стремления проникнуть во внутренний мир героя, отсутствие психологизации в его портрете также сближают ее с древнерусской литературой, в которой не отводилось значительного места изображению внутреннего мира персонажа. Главной в ней была идея подражания великому священному образцу.
Общество, заменившее религию идеологией, нуждалось в произведениях, которые смогли бы донести ее до широких масс, которые, в свою очередь, должны были ее принять как новую религию. Под новой религией имеется в виду не только пресловутый атеизм, призванный разбить такого опасного для большевизма противника, как христианство. Предполагалось не просто заменить веру научным мировоззрением, а дать народу веру новую. Атеизм – это тоже, конечно, религия, точнее, совокупность верований, но подлинная новая религия шире атеизма. «Наряду с верами старыми возникало и „нововерие“, вернее неверие, сочетающееся с пламенной верой в природу, в человеческую силу, во всемогущую возможность всяческих преображений, которая могла совпадать с партийным коммунизмом, но могла и не совпадать» [Козлова, 1996, 105]. Новая религия – это вся система представлений об обществе и человеке, которую в обязательном порядке требовалось не только усвоить, но и воспринять как сакральную, то есть заслуживающую почитания, не подлежащую сомнению и иррациональную.
Об этом свидетельствует язык новой религии, активно эксплуатирующий церковную лексику и образность [Мочалова, 1995, 32]. «Отвергнув Бога и абсолютные ценности Царствия Божия, они (большевики. – Л. С.) абсолютизируют относительные ценности земного Бытия и служат им с таким же почитанием, с каким религиозный человек относится к Богу и правде Божией. Таким образом, служение идеалу коммунизма и построению общественной жизни на основе науки без Бога было для Ленина и его сподвижников своего рода религиею. Писания Маркса и Энгельса играли в их мышлении и поведении такую же роль, как Священное Писание в жизни христианина» [Лосский, 1990, 50]. Следовательно, сочинения основоположников коммунизма явно сакрализовались в сознании нового общества. Они образовывали ядро культуры, от него по направлению к периферии располагались тексты, которые можно назвать сакрализованными. Они обязательно сохраняли комплекс основных значений, заданных новым сакральным ядром, и внедряли его в общественное сознание.
Поэтому есть все основания толковать соцреализм как «явление культуры религиозного типа» [Будагова, 1995, 24]. Так оно и воспринималось во многом новым советским обществом и его будущими соседями по социалистическому лагерю. Л. Н. Будагова пишет о том, как социалистическая культура была увидена сквозь призму Нового Завета в Чехословакии: «С. К. Нейман уподобляет РСФСР – „вифлеемской звезде“ („РСФСР“) и буквально молится на „Советскую Русь“, „нашу надежду и заступницу“ и „единственную звезду на темном небе“ („Приветствие“, сб. „Красные песни“, 1923)» [Там же].
Идеологические требования, естественно, распространялись на литературу, служившую проводником новых идей. Эти идеи выражались в формах отнюдь не авангардных. «Авангард – эмансипация от внеэстетических задач, самоценность искусства, полная свобода творчества, поиск новых форм через интенсивный эксперимент» [Там же, 18]. Позволить эксперимент соцреализм не мог по определению. Оставалось одно – искать поддержку не в современной культуре, а в культуре прошлых эпох, подпитываться формами классическими, проверенными, от которых шел путь к формам архаическим, которые опознавались в формах классических и могли быть известны благодаря воспитанию, полученному в прежние годы.
Как пишет Н. Н. Козлова, архаическое стремительно возрождалось во многих сферах жизни молодого советского общества. Оно сказывалось во всеобщей тенденции к разрушению, в переворачивании известных ритуалов, в иконоборчестве [Козлова, 1996, 106–111]. Отнюдь не всегда возврат к архаике был столь сокрушительным. Память культуры возвращала и другие культурные механизмы. Новая литература обратилась к готовым клише, которые были заложены в культурном «подсознании». Здесь явно включался механизм перевода старого в новое, оживала память культуры, подсказывавшая писателям адекватные средства выражения новых идей, что можно увидеть на примере романа Н. Островского «Как закалялась сталь».
Это произведение явно не отличалось особыми художественными достоинствами. А. Т. Твардовский в своих «Записных книжках» назвал его примером деградации мастерства, но зато результатом подвижнического труда. Очевидно, что применительно к Островскому о деградации говорить не приходится. Это была его первая книга, написанная не без посторонней помощи. Твардовский полагал, что этот роман способствовал некоей мистификации. Он резко упростил представления о литературном труде. Прочитав сочинение Островского, каждый мог увериться в его легкости и доступности. Оно прокладывало путь в литературу потерявшим трудоспособность [Твардовский, 1989, 15].
Знаменательно другое. Твардовский заговорил о подвижничестве, т. е. соотнес Островского с образом подвижника. Конечно, основные смыслы этого образа уже были мало доступны пониманию автора XX в., но все же слово, несущее в себе след христианской духовности, выбрано им не случайно. В тексте Твардовского оно, определяя творческий и жизненный путь автора романа, незримо пододвигает его к ряду духовных делателей. Подвижники вступали на путь, на котором духовное и материальное созидание не только не противоречат, «но и органически, целесообразно и благодатно сочетают одно с другим» [Топоров, 1995, 608]. Они знаменовали особый вид русской святости, память о котором окончательно не исчезла. Ее всегда хранит язык. В нем вечно «живет старое, связанное с вековыми духовными и нравственными традициями христианского гуманизма» [Вендина, 2003, 449].
Твардовский подытоживает свои рассуждения о романе Островского следующим образом: по этой книге можно учиться жить, но не писать. Он, следовательно, выводит роман за пределы литературы, оставляя за ним право быть учебником жизни. Так подчеркивается его дидактическая функция, доминантная, как мы уже сказали, как в древнерусской литературе, так и в соцреалистической. Поэтому писатель, объявленный ведущим соцреалистическим автором, скрыто приближается к древнерусским книжникам. Он сам на страницах своего романа не только типизирует жизнь, но так выстраивает линию своего героя, что тот неуклонно движется в сторону житийного образца.
Житие, повествуя о жизни святого, всегда насыщено сакральными смыслами. Житийный персонаж вторит пути самого Господа, добровольно идет на муки и на смерть, не изменяя вере. Он трудится во имя Господа, постится и молится, сосредоточиваясь на своем духовном восхождении. По окончании земной жизни он увенчивается славой, и вокруг его могилы происходят чудеса. В житийном повествовании всегда есть приметы повседневности, реальная жизнь вторгается в него, но она всегда подчинена высокой идее. Сплав сакрального и светского, в котором сакральное выступает на первый план, – основной признак этого жанра, относительно свободно варьирующегося и не раз принимающего новые черты, несмотря на устойчивый сюжетный каркас.
Обращение к этому жанру никак не декларируется Островским. В его произведении нет неожиданных срывов, отсылок к иной поэтике или к религиозной системе ценностей. Главная операция, бессознательно проделываемая им с неназванным образцом, состоит в том, чтобы на место религиозных значений, которое несет житие, подставить новое сакральное. Для того чтобы обратиться к житийным образцам, Островскому не нужно было «продираться» сквозь толщу веков. Жития совсем недавно активно читались широким кругом населения. Канон, по которому они строились, был прочно усвоен, о чем свидетельствует, например, и тот факт, что он просвечивает в личных, дневниковых записях недавно неграмотного человека двадцатых-тридцатых годов [Козлова, 1996, 122]. Писателю было достаточно поставить нового героя в соответствующие условия, направить его на путь, на котором он бы мужественно преодолевал жизненные трудности, чтобы начались семантические переклички литературы соцреалистической и древнерусской.
Они были возможны потому, что литература соцреализма, формируя новый тип общественного сознания, выполняла не только светскую, но и сакральную функцию. Каноны жития были ей, можно сказать, удобны. Житие нравоучительно. В нем явно выражена этическая направленность. В нем присутствует идеальный образ человека. Это не только путник, шествующий вослед Христу, но и борец-страдалец за высокую идею, выдерживающий любые тяготы и лишения во имя ее. Житийные образцы не только колебались между сакральным и светским, но и воспринимались как норма для мирян, часто недостижимая. Эти образцы просвечивают в светской литературе. Открытые отсылки к житийному жанру, сюжету и мотивам есть у Лескова, Достоевского. Б. Гройс обнаруживает их в книгах серии ЖЗЛ. Создавая картины всем хорошо знакомой жизни своего времени, естественно, придавая ей утопические черты, советская литература создавала образ нового человека, трудящегося во имя светлого будущего, аскетичного, безоглядно преданного идее социализма. В нем проступают черты житийного персонажа с его устремленностью к победе духа над плотью, персонажа, освященного религиозными традициями. Только советский человек служил не вере, а идее социализма и коммунизма. Таким был герой Островского.
Писатель, как и все то направление, к которому он принадлежал, не стремился создавать сложные противоречивые образы. Его положительные герои имеют семантическую доминанту, которой не изменяют ни при каких условиях, как и герои древнерусской литературы. Образ Корчагина прописан не особенно тщательно. Для Островского в первую очередь было важно то, что, он, как всякий идеальный герой, является носителем идеи. Заметим: так же, как и житийный персонаж. Соцреали-стический герой зачастую представляет собой некую условную конструкцию, в которой сквозь приметы сегодняшнего времени и стиля поведения просвечивает прежний образец, недостижимый и одновременно всеми узнаваемый, которому нужно следовать и подражать. Именно это, а не только государственная политика, воздействовавшая на литературу, позволило ему существовать в литературе относительно долгое время. Он был поддержан невидимыми традициями изнутри, как Павка Корчагин.
Не следует полагать, что Островский неким тайным и удивительным образом отталкивался от житийных образцов. Ведь они были отметены вместе со всем старым миром. К этим образцам Островского, как и некоторых других советских писателей, исподволь подводила задача представить нового совершенного человека. Эта задача, можно сказать, сыграла с ними шутку – одну из тех, которыми полна история культуры. Авторы были вынуждены вспомнить уже вытесненное из памяти, подспудно возродить те пласты искусства слова, которые прочно укоренились в сознании многих поколений, где хранились в свернутом виде. Для их «развертывания» не требовалось глубокого знания письменных источников. Создавая свой идеал человека, литература соцреализма приспосабливала к новым социальным условиям, активно отражавшимся в искусстве, уже сложившийся образ. Это было возможно и потому, что отнюдь не все этические ценности христианства на самом деле были окончательно уничтожены. Идеал советского человека оказывался сходным с тем, который проповедовался веками, что способствовало подстановке на место прежних сакральных новых сакрализованных ценностей.
Без этого вряд ли соцреалистический герой был бы принят не только в СССР, но и в других странах. «Книга Н. Островского действительно стала катехизисом для революционеров многих стран, в том числе и Югославии, где она в канун Второй мировой войны была напечатана на гектографе, после ее окончания вышла массовым тиражом и вошла в круг обязательного чтения омладинцев» [Ильина, 1995, 109]. Г. Я. Ильина разбирает роман С. Селенича «Мемуары Перо-калеки» (1968 г.), который, хотя и являет собой антитезу роману «Как закалялась сталь», все же лишний раз свидетельствует о том, что новый герой вошел в культуру XX в., не только социалистическую.
Отнюдь не только герой, но, соответственно, и сюжет романа Островского наделен агиографическими приметами. Они есть и во многих других советских произведениях. В них – но прежде всего у Островского – можно увидеть аналогии с канонической литературой прошлого, реконструировать архаические, а не только современные смыслы. Житийные интонации агиографического жанра, в которых всегда сквозит умиление и восторг перед мучеником, в советской литературе отсутствуют. Она не содержала в себе рефлексии и прежде всего была нацелена на эпическое повествование, под которым мог таиться житийный канон. Его не сразу можно обнаружить в сплетении множества побочных сюжетных линий, но некоторые мотивы, несущие с собой особые смыслы и неожиданно увязывающие соцреалистическую литературу с древнерусской, приподнимая ее над современной действительностью, этот канон все же выдают.
Автор жития, как и всякого древнерусского текста, анонимен. Только в XVII в. было написано житие от своего имени. Так поступил протопоп Аввакум, чье сочинение вошло в фонд русской культуры. Он заявил о себе в каноническом произведении, которое значительно обогатил множеством реалий и событий своей собственной жизни. «XVII век в русской культуре – эпоха открытия ценности личности и авторской в том числе» [Сазонова, 2003, 176]. Его житие по определению не могло иметь финала, который непременно включает в себя описание кончины мученика и чудес после нее. Здесь налицо синтез автобиографии и агиографии.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.