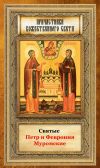Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 53 (всего у книги 72 страниц)
Романтическая утопия
Утопии обычно появляются в эпохи с обостренным ощущением истории. Таким был романтизм, отказавшийся от просветительских утопий дидактического характера. Нацеленный на историю, романтизм предпочел утопию социально-политическую. Вневременные утопии исчезли в век, пронизанный историзмом. Теперь они в значительной степени были ориентированы не только на пространство, но и на время. Мечта о золотом веке из плюсквамперфекта переместилась в футурум [Гумилев, Панченко, 1990, 71]. «Естественный» человек остался в прошлом, в природе перестали искать потерянный рай. «В XIX в. утопия сливается с историей, хочет быть предвидением будущего, грядущего мира» [Шацкий, 1990, 93]. Утопическое мышление пронизывало философию, религиозную мысль, искусство, а сами утописты пытались вторгнуться в жизнь и реализовать свои многочисленные проекты осчастливливания человечества. Возникали и тут же исчезали разнообразные утопические коммуны.
Утопия, таким образом, сближалась с жизнью. Одновременно она стала восприниматься как предвосхищение будущего, к которому неуклонно движется история. Представлениям о том, что утопия может воплотиться в жизни, во многом способствовала теория прогресса, которая сама во многом утопична. Поэтому между историей и утопией уже не видели непреодолимой границы. Стали возникать теории перехода от истории к утопии через революцию. «Более близкие к нам времена порождают миф о революции как чудесном преображении плохого общества в совершенное, как бы одноразовым актом, чуть ли не в один день. Будут установлены новые законы, и тут же воцарятся свобода, равенство и братство, все будет лучше и прекраснее» [Там же, 135]. Утопия и утопическое мировидение были близки романтикам еще и потому, что они видели в них соответствие своему стремлению к идеалу, Абсолюту, противопоставленному реальности. Антиутопия, пронизанная иронией, также была понятной романтикам – ведь ирония открывала им путь в царство свободы. Дистопия еще только становилась, но именно в ней намечалось наиболее полное осмысление истории в романтической культуре.
Адам Мицкевич написал «Историю будущего», которую Н. М. Филатова рассматривает в утопических терминах и называет примером «воображаемой истории» [Филатова, 2002, 74]. Исследователь пишет о том, что антиутопия Мицкевича в ее первом варианте проникнута техническим началом, – как видим, интерес к эре машин начался задолго до XX в. Здесь пароходы и железные дороги, «крылатые воздушные шары», «телескопы, через которые с воздушного шара можно обозреть всю землю, а с земли видно, что делается на ее сателлитах» [Там же, 75]. Поэт противопоставляет всем этим техническим новшествам нравственное падение человека. Таким образом, модернизированное пространство находится в резком противопоставлении с человеком, которого эти новшества не только не могут исправить, но, напротив, способствуют тому, что человек вообще утрачивает присущие ему положительные свойства. Достижения техники никак не сказываются на его нравственном облике, а только искажают его природу. В этом отношении, как и в проявившемся неожиданном пристрастии к изображению техники, Мицкевич предвосхищает Замятина.
Во втором варианте «Истории будущего» противопоставлены два будущих времени, одно – в котором живет автор, другое – в котором творится история [Там же, 76]. В отдаленном будущем у людей не будет имен, а только номера, дробные числительные, что вновь заставляет вспомнить роман XX в. «Мы». Мицкевич размышлял не только о человеке, но и о том пространстве, где он будет находиться. Европа виделась ему огромным военным лагерем.
У Красиньского в его «He-Божественной Комедии» также есть утопические мотивы, предвосхищающие такую разновидность утопии, как дистопия. Поэт, постоянно размышляющий об историческом времени, ввел их в свою «Комедию». «Писатель этой эпохи сам напряженно думает об истории, либо же пользуется плодами чужой мысли, отчего его образам и присуща внутренняя историчность, – они не просто индивидуальны, но и вписаны в движение, в поток времени…» [Михайлов, 1989, 88]. Красиньский размышлял о современности в самых мрачных тонах. XIX век был для него временем «боли, перехода, нужды, последней битвы природы с человеком среди грохота машин и звона денег. У него в руках мешок золота и локоть, которым он намеревается измерить будущее» [Listy, 1965, 774]. Поэт страшился стремительного хода истории, не желал никаких перемен, так как прозревал их тягостное воздействие на человека и общество.
Утопия всегда таит в себе мятеж против действительности. Бунт, революция перекликаются с ней. Революция и утопия, построение новых социальных теорий и утопические концепции переустройства мира соотносятся между собой. Революция питается утопией, что прекрасно осознавал Красиньский, который сквозь призму утопического начала показал замыслы и действия революционеров в III части «Не-Божест-венной Комедии». «Революционные» эпизоды явно свидетельствуют о том, что поэт не желал, чтобы человечество платило любую цену за светлое будущее. Эта же тема возникает в «Истории будущего» Мицкевича, который, как и Красиньский, опасался революционных изменений и даже ожидал, что революция в Европе совершится в 1835 г.
Апокалиптические мотивы пронизывали исторические воззрения Красиньского, особенно, когда он размышлял о будущем: «Тогда настанут дни таких поражений, что небеса сотрясутся, и люди усомнятся в Боге и отчизне <…>. И наконец, уставшая земля обратится к Богу и любви как последнему спасению» [Listy, 1912, 373]. Следовательно, будущее не было для Красиньского абсолютно безнадежным. Он верил в спасение человечества, которое совершится после многих устрашающих катаклизмов истории, усматривал трагедию своего времени в том, что близится зловещая катастрофа, и страшился всяких изменений. Переход от одной фазы исторического развития к другой был, по его мнению, близок перелому, который обязательно должен произойти на принудительном пути от прошлого к будущему. Плавного течения истории в том случае, когда в него вмешивается человек, поэт не предполагал. Если этот перелом удастся совершить, между прошлым и будущим образуется зияние, разрыв во времени.
Красиньский строил свою дистопию в опоре на очертания христианского космоса, на рай и ад. Предположение, что человек построит рай на земле, приводило его в ужас. Оно было для поэта вызовом Богу. Он догадывался, что такие намерения, как уже говорилось, приведут только к тому, что ад переместится на землю. Поэт к теме совмещения ярусов мира возвращался не раз. Однажды он сказал, что теперь, чтобы попасть в ад, не надо, как во времена Гиббелина, спускаться «к пупку Люцифера. Теперь можно остаться на поверхности» (цит. по: [Kubacki, I960, 177]). Поэт следующим образом развивал эту тему: «В других эпохах, где есть твердая вера, незыблемы небеса, обряды, религия, ад бывает где-то, но не здесь. В наше время ада нет ни над землей, ни под землей, он – на земле» [Krasiński, 1973, 3, 568]. Отождествляя землю и ад, Красиньский знал, что небо по-прежнему высится над землей, что только оттуда придет спасение человечества. Предвидя апокалиптические разрушения, он все же надеялся, что наступит «третье небо на земле», пока несущей черты ада и чистилища, хотя устроители будущего мечтают о земном рае. В. Кубацкий замечательно назвал III часть «Комедии» политическим апокалипсисом.
Не меньшее значение, чем Апокалипсис, имело для Красиньского Евангелие от Иоанна. В «Венецианских подземельях» представители разных поколений ожидают, когда же появится обещанный Параклит, и призывают прокладывать к нему пути. Они верят в то, что эпохи Бога Отца и Бога Сына уже свершились, и ожидают теперь царство Духа. Таким образом, утопические мотивы у Красиньского основаны на милленаритских ожиданиях. Чтобы усилить их звучание, он выстраивает столкновение аристократии и демократии как носителей прошлого и будущего.
Для этого поэт использует устоявшиеся утопические мотивы, как например, мотив пути. Чтобы воспроизвести борьбу прошлого и будущего, Красиньский отправляет своего героя, Хенрыка, в путешествие. Хенрык бродит по лесу, чтобы своими глазами увидеть лагерь бунтовщиков-революционеров. Как и положено в утопии, с ним идет Провожатый, который получает индивидуальную характеристику. Это Выкрест, выполняющий свою миссию не безвозмездно. Однажды он удачно был назван «трусом свободы». Путешествие Хенрыка задает оценку тех, кто стремится сломать историю и построить новый мир. Как мы уже говорили, свидетель утопии видит перед собой или страну всеобщего блаженства, или страну зловещего насилия. Герой Красиньского сталкивается с насилием.
Встреча Хенрыка с повстанцами происходит ночью. Отдельные сцены их жизни выхватывает из тьмы пламя костров, горящих руин. «Новую» жизнь освещает поистине адское пламя – оно же пламя революции. Лагерь бунтовщиков исчезает со светом зари, он тает в тумане, как дьявольское наваждение. Провожатый торопит Хенрыка и с рассветом выводит его на открытую поляну.
Поэт тщательно выписывает пространство, в котором пребывают бунтовщики. Это лес, изолированный локус, отдаленный от реального пространства, причем такой, где главный герой подвергается моральным испытаниям. Замкнутость этого пространства символизирует оторванность бунтовщиков от остального мира. Оно вдобавок тесное, так как люди собираются группками у костров, мешая друг другу. Здесь они живут и умирают. Тут устраивают пиры, и чашами им служат черепа. Так пир смыкается со смертью. Это пространство не только тесное и замкнутое, но разъединенное на отдельные частные локусы. Оно не едино, ибо рассыпается на отдельные картины – повстанцы сидят вокруг шалашей, палаток, костров, бочек. Это все знаки отклонения от нормального человеческого существования с его жилищами и повседневным бытом. Среди вещей, принадлежащих этому пространству, отмечены ножи, веревки, топоры.
Центр его – это виселица, которая маячит перед поэтом и в будущем Польши: «…потом придет виселица и вечность» (цит. по: [Kleiner, 1912, 130]). Вокруг виселицы бунтовщики пляшут танец свободы. Это танец-символ, в котором, действительно, есть свобода и дикое веселье. «Танец – это выраженное в движении, как бы наиболее примитивное выражение радости, ритмом и организацией он создает особое равновесие: разрывает все связи и нарушает контроль» [Janion, Żmigrodzka, 1978, 153–154]. Виселице противостоит разрушенный храм. Это новый бог, пророк будущего, призывает бунтовщиков растоптать храм умершего старого бога. В неистовой пляске люди рушат еще уцелевшие его своды, сжигают кресты и алтари.
Противопоставление веры и «новой» идеи, как видим, решается в пространственных измерениях. Отправление нового культа, именуемого культом свободы, происходит на развалинах храма, где в траве лежат уцелевшие крест и икона Богородицы. Будущий храм нового бога видится бунтовщикам украшенным черепами и кинжалами. Так «вещное» пространство III части решается антитетически.
Сюжет здесь только намечен и служит канвой, на которой могло бы развернуться действие. Переходя от одной группы бунтовщиков к другой, Хенрык вступает с ними в краткие диалоги, которые и составляют содержание данной части, являющей собой сюжетную схему дистопии, правда, неразвернутую и сжатую. Зато парадигма ее смыслов разработана основательно и совпадает с той, которая присутствует в современной дистопии.
Из бесед с бунтовщиками главный герой, например, узнает, что теперь все станет новым, прежде всего человек, который, как известно, сметая старое, еще не становится новым: «…нельзя ждать от революции явления нового человека. Мститель за зло прошлого не есть новый человек, это еще старый человек» [Бердяев, 1990, 324]. Стремление к новизне типично для многих утопических построений. Напомним о декларациях сенсимонистов о новом боге, новой морали, новой политике, новой жизни.
Хенрык сталкивается с идеей утраты личностного Я – теперь его заменяет «Мы». С этим нивелирующим «Мы» Красиньского перекликается название романа Замятина. В лагере бунтовщиков царит сексуальная свобода и распущенность. Возможно, что, вводя этот мотив, Красиньский опирался на сообщения о жизни утопических коммун, в проектах которых разрабатывалась концепция новой любви. В этом отношении он также сходен с русским писателем.
Если Хенрык, взирая на лагерь бунтовщиков, видит перед собой дистопию, то сами бунтовщики мечтают об утопии со счастливым концом. То есть они нацелены на другой вид утопии, неразрывно связанной с революцией. Они стремятся к обладанию вещами, отвергая труд. Презирают его как средство достижения богатства. Благополучие для них – это не средство и не способ жизненного существования, а главная цель. Блаженное ничегонеделание – обычное времяпрепровождение в странах, изображаемых в народных утопиях. Шляраффенлянд, страна Кокейн и другие чудесные земли, населенные жителями, купающимися в изобилии, видимо, предстают в их мечтах. Но чтобы их реализовать, нужно пройти через голод и кровь, убийство и разрушение. Эта парадигма значений воплощается и в более поздних произведениях утопического характера, например, в «Чевенгуре» Платонова.
То, что Красиньский самым решительным образом восстает против разрушения старого мира и построения нового, очертания которого угадываются в зловещей картине лагеря повстанцев, не означает, что поэт вообще не принимал никаких утопических построений. У него была другая утопия, «утопия идеального отечества» [Е. Шацкий], отнесенная в прошлое.
* * *
Итак, поэт-романтик, проникая в смыслы истории, ввел в свое произведение некоторые утопические измерения. Красиньский придал их будущему, которого страшился и которое отрицал. Поэтому рисовал его в дистопических тонах. Дистопия в целом у него не развернута, но тем не менее она участвует в сложении поэтического видения истории. Соответственно, прошлое поэт рисует как регрессивную утопию.
Целостную утопию создал Е. Замятин. В его романе «Мы» (1920) явно прослеживаются не только антиутопические, но и дистопические мотивы. Писатель создал принципиально иной вид утопического пространства по сравнению с тем, который есть в «He-Божественной Комедии» Красиньского. Если польского поэта XIX в. больше всего занимала идея перехода-перелома в истории, то русский писатель века XX сосредоточивается на том, что может произойти после этого события. Он показывает, как меняются человек и пространство после кровавых революционных событий. Если у Красиньского повстанцы бушуют в лесу на развалинах храма, то персонажи Замятина существуют в городе будущего.
Признаки пространства в романе Е. Замятина «Мы»
У Замятина культурное пространство отделено от природного, оппозиция город / природа значима для романа «Мы». Не случайно писатель называл утопию «городской сказкой». Его интерес к городу известен. Именно в городе, по его мнению, наглядно происходят наиболее значительные изменения. Вот что он писал в предисловии к произведениям Джека Лондона: «Наша городская жизнь уже устарела. Города по-стариковски укутаны от непогоды в асфальт и железо. Города по-стариковски боятся лишних движений и всю здоровую мускульную работу заменили машинами и кнопками» (цит. по: [Чаликова, 1992, 191]). Вспоминал Замятин о городе в эссе о Герберте Уэллсе: «Но представьте себе страну, где единственная плодородная почва – асфальт, и на этой почве густые дебри только фабричных труб и стада зверей только одной породы – автомобили, и никакого другого весеннего благоухания – кроме бензина…» [Там же, 18]. Действие романа «Мы» также происходит в городском пространстве. Оно расширяется, так как город этот равен Единому Государству.
Выстроено это государство-пространство по четкому регламенту, где функциональность не соседствует с эстетикой. Единое Государство, или Город, в котором живут счастливые люди, не переносится на далекие планеты или в отдаленные и недоступные места на земле. Оно существует там, где некогда текла иная жизнь. Писатель обращает внимание не столько на удаленность утопического «места», сколько на его изоляцию. Он помещает действие своего романа в XXIX век, но основное внимание уделяет категории пространства, а не времени. Подробно показывает, как и какими способами жителям Единого Государства удалось отгородиться от другого мира, построить новую среду обитания.
Через весь роман проходит тема закрытости пространства. Люди отделены от остального мира. Между ним и Городом высится Зеленая Стена. Эта Стена – великое достижение нового общества, новая жизнь без нее невозможна: «Я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною» [Замятин, 1989, 15]. Ей возносятся беспрестанные хвалы: «О великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преграда! Это может быть величайшее из изобретений…» [Там же, 68]. Все страшатся ее исчезновения: «Неужели обвалились спасительные вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы – как наши далекие предки?» [Там же, 104]. Стена, действительно, однажды разрушается. Открытость пространства так пугает жителей Города, что после взрыва они вновь строят Стену, правда, временную, из высоковольтных волн.
Стена необходима, чтобы охранять Город не только от других, но и от природы, которая порой напоминает о себе: какие-то птицы с карканьем бросаются «грудью о прочную ограду из электрических волн» [Там же, 86]. Стена охраняет жителей и от самих себя. Закрывая их от внешнего мира, она сторожит их, не давая покинуть страну вечной радости. Стена – это граница, разделяющая два мира – мир естественной свободы и мир вынужденного счастья. Это она прежде всего определяет закрытость пространства.
Это свойство стены спорит с противопоставленным ему, с открытостью. Будучи отгороженным от мира, Единое Государство открыто для обозрения, так как создано из стекла – нового, «хрустально-непоколебимого», вечного, как золото, и прочного, как сталь. Писатель постоянно подчеркивает его мнимую бесплотность. В некоторых случаях стекло становится невидимым. Это происходит, когда на Город опускается туман. Материал, из которого он выстроен, вбирает в себя значения, которыми наделяется художественное пространство романа в целом, через него ведется тема призрачности и иллюзорности этого открыто-закрытого мира.
Зеленая Стена – также стеклянная, но мутная и непрозрачная. Стекло специально сделали таким, чтобы жители Города не видели, что творится за его пределами. Из стекла же выполнена машина Интеграл, которая отправится в космос. Новый мир «просвечивает» постоянно. Мостовые испещрены стеклянными брызгами, прозрачные дома блестят. Этот мир способны наблюдать не только жители Единого Города. Иногда его видят люди, оставшиеся на лоне естественной дикой природы и пережившие биологическую трансформацию. Итак, отгороженное от остального мира пространство Города является закрытым и открытым одновременно. Одно свойство пространства уничтожается, снимается другим, чтобы затем вновь появиться.
Хотя создатели нового мира уверены в его прочности и незыблемости, на самом деле, он способен к изменениям. Эти изменения, как и постоянное колебание между закрытостью и открытостью, происходят в зависимости от точки зрения человека, находящегося в пространстве. Чтобы видеть мир «правильно», человек должен не шевелиться и смотреть прямо перед собой. Если он взглянет вверх или вбок, опустит глаза, то увидит искаженный, перевернутый мир: «Вот какие-то машины – фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже – скованное толстым стеклом мостовой небо» [Там же, 65]. В зеркальных мостовых перевернутый мир отражается.
Различные точки зрения на пространство, искажающие его, свидетельствуют о его искусственности. Оно всегда готово измениться под взглядом человека. Это пространство безжизненно и вдобавок не столь уж и устойчиво. Благодаря смене точек зрения на него оно делается мнимым.
На основании характеристики материала, из которого строится пространство, писатель создает противопоставление старого и нового мира. Старый мир для главного героя, Д-503, – это Древний Дом, также не лишенный стекла, так как он одет в стеклянную скорлупу из-за своей дряхлости и ветхости. В нем самом стекла слишком мало: «Наше теперешнее – прекрасное, прозрачное, вечное – стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон» [Там же, 25]. Этот дом слеп. Он удивляет героя своими непрозрачными стенами: «Я определенно почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни» [Там же, 26]. Непрозрачность представляется ему дикостью. Сразу скажем, что «дикий вихрь древней жизни» находится в ассоциативной связи с категорией свободы.
Стены Древнего Дома сделаны из кирпича. Герой с удивлением замечает, что жилище может быть не только непрозрачным, но иметь массу и вес, что для его строительства могут использоваться различные материалы помимо стекла. Здесь он впервые касается тяжелой медной ручки. Есть в Древнем Доме и деревянные певучие двери. Закрытость этого дома – особая, с трудом переносимая героем. Спокойно существовать Д-503 может лишь за прозрачной Зеленой Стеной, в стеклянных комнатах. Хотя он и тяготится своей вынужденной открытостью, его пугает возможность частной, индивидуальной жизни, скрытой от глаз других.
Замятин явно связывает пространство с человеком, который напрямую зависит от него. Однажды прежние люди названы «каменнодомовыми». Когда Д-503 входит в так называемую «квартиру», совершенно нелепую, на его взгляд, он рассматривает ее и думает, что, видимо, также дико был устроен прежний человек.
Закрытое-открытое пространство Города дано в геометрических измерениях. Заметим, что также в геометрическом пространстве разворачивается роман А. Белого «Петербург» [Топоров, 1995, 231]. Сверху Единый Город представляется идеальным чертежом, лишенным неправильностей. Внизу распростирается «выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни» [Замятин, 1989, 138–139].
В романе «Мы» Замятин рисует идеальную архитектуру, линии которой четки и прямы. Это мир прямых, где нет тупиков и закоулков, где кривая не может поразить своей неожиданностью: «Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – прямейшая из линий…» [Там же, 9]. Таким образом, прямая линия – это и символ государственной власти, в котором герой ищет и находит красоту. Кривая же косвенно знаменует свободу. Она дикая, а дикость, с точки зрения жителей Единого Города, есть главная ее примета.
Прямые линии исчерчивают Единое Государство. В нем выделяются квадраты, просматриваемые повсеместно. Д-503 они видятся во всем. Он слышит в музыке «целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов» [Там же, 20]. Белые страницы воспринимает как «четырехугольные белые пустыни» [Там же, 86]. Люди, живущие в квадратных домах, вышедшие на прямые проспекты, видятся ему четырехугольниками. Они идут рядами по четыре человека. В аудиториумах их головы склоняются над работой «циркулярными» рядами. Д-503 пугается, воображая свою квадратную комнату круглой, но боится квадратного солнца. Он уверенно рассуждает о своем «квадратном» положении, которое порой кажется ему странным.
Д-503 беспрестанно мыслит о квадрате и его красоте. Для него квадрат – единственно возможная геометрическая фигура, одухотворенная, наделенная способностью мыслить: «Представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно» [Там же, 21]. Ч. Коллинз полагает, что «город, где происходит действие, – модель сознания, угнетенного почти абсолютной властью рационального» (цит. по: [Чаликова, 1992, 185]).
Напомним, что квадрату, параллелепипеду, кубу посвящена отдельная глава в «Петербурге» А. Белого. Его герой, Аблеухов, любил прямолинейные проспекты, дома и кареты казались ему кубами, успокаивал его квадрат. Тему квадрата развивал и С. Кржижановский («Квадратурин»). «Черный квадрат» К. Малевича в визуальной форме представляет эту геометрическую фигуру.
В квадратный город вписана площадь Куба, где происходят казни. Квадрату противостоят и другие геометрические фигуры. Свою возлюбленную, О, герой воспринимает как круг, что не является для нее высшей похвалой. Другой человек для него – парабола. В человеческом лице ему видится треугольник, «странный, раздражающий икс» [Замятин, 1989, 12]. Отношения с женщинами он описывает как треугольник, пусть не равнобедренный. Посещения Древнего Дома для него – начало координат его любовной истории.
Ни о каких эстетических свойствах городского пространства речи не идет. Главное в нем – правильность. Прямые улицы «непреложны». Их невероятная прямизна заставляет людей ходить только прямо, никуда не сворачивая, ступать по стеклянным плитам прямых мостовых и лишь изредка описывать гипотенузы. Чаще всего их движение направлено по катетам. На этих улицах человек не петляет и не скашивает углы. Все ходят, вычерчивая бесконечные квадраты. Выполняя предписания доктора, Д-503 два часа ходит по стеклянным прямолинейным проспектам, которые воспринимает как пустыню. Улицы города не бесконечны. Иногда они прерываются отдельными зданиями. В конце одного проспекта, например, высится «аккумулирующая» башня. Так художественное пространство набирает признаки пустоты и однообразия. Героя восхищает мир, рассчитанный алгебраически. Хотя Замятин и говорит об алгебре расчетов, геометрическое пространство у него всегда на первом плане.
Дом привлекает героя больше, чем улицы. Он для него важнейший элемент пространства. Дом, как и улица, геометрически правилен. В нем нет никаких отступлений от прямой линии и квадрата. Этот «божественный параллепипед» вторит Городу, уменьшая его в масштабах. Находясь в своей комнате, Д-503 видит только прямые линии, радующие его: «Такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота» [Там же, 29]. Он раздражается из-за того, что сосед двигает кресло, – «все вышло из установленного габарита, стало неэвклидным» [Там же, 35]. Его видение мира, города и дома ориентировано только по прямой. Потому отсутствие прямых в Древнем Доме пугает Д-503. Он не усматривает в нем никаких следов организации, ибо там господствует кривая. Перед ним «исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели» [Там же, 25]. Прежний уют для него – это хаос, исчерченный кривыми.
Так, прямая и противопоставленная ей кривая структурируют два вида пространства – нового и старого, а также два вида времени. Их противопоставление проходит через весь роман и дополняется описанием древнего разрушенного города, в котором также выделена кривая – в нем множество закоулков и тупиков. Отмечена вертикаль – обгоревшая печная труба.
Возвращаясь к дому, скажем, что наряду с «прямизной» постоянно подчеркивается его прозрачность. Дом – это «светлая, насквозь просолнечная глыба» [Там же, 36]. В домах все сидят в своих стеклянных комнатах, обозревая друг друга. В комнате R, соседа Д-503, «все точно такое, что и у меня. Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати» [Там же, 35]. Здесь все сделано из стекла. В таком жилище некуда укрыться от глаз других. Человек, вечно омываемый светом, живет за стенами, сотканными из сверкающего воздуха, он всегда на виду. Все вокруг него пронизано солнцем: «Солнце – сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное – снизу» [Там же, 35]. Справа и слева герой видит как бы самого себя, свою комнату и одежду, свои движения – все доступно обозрению и все одинаково. Так входит в действие принцип зеркального отражения, что еще раз свидетельствует о таком признаке пространства, как однообразие, а также о затрудненности идентификации человека.
Мир героя – это мир зеркал, в которых он отражается бессчетное количество раз. С осознанием своего Я он начинает бояться окружающего его прозрачного мира. Его сочинение, например, может увидеть сосед, который тоже что-то пишет. Д-503, даже еще не обретя любовь, через которую он приходит к самоосознанию, знает, что за человеком есть право на частную жизнь, скрытую от глаз других. Так через «стеклянные» образы проводится тема отчуждения человека от пространства, которое неуклонно стремится его поработить.
Утопическое пространство у Замятина приобретает признаки чистого и грязного, естественно противопоставленные. Уже первые критики романа отмечали, что писатель постоянно настаивает на таких свойствах Единого Города и стеклянной квартиры, как чистота, порядок, блеск, комфорт. Это пространство столь стерильно, что, кажется, будто здесь нет места пыли, грязи, прихотливому беспорядку. Единое Государство очищено «от тысячелетней грязи». Потому лицо земли стало сияющим, и жители Города гордятся его чистотой. Д-503 вспоминает, как однажды в детстве он плакал из-за того, что на его одежде появилось едва заметное пятнышко. Оно испугало его, так как новые люди уже не знали грязи и страшились ее чрезвычайно. Чистота, доходящая до стерильности, существенно дополняет характеристику пространства. Она еще раз отрывает человека от реальности, где есть место всему, в том числе и грязи. В идеальном пространстве по новым законам человек не может оставлять какие-либо следы. Пространство должно быть безупречным.
Характеристики нового мира дополняются введением цветового кода. Цвет однообразен, как и очертания Единого Города. Он весь окрашен в холодные тона. Дома стоят серо-голубыми шеренгами. Такого же цвета одежда людей. Все освещено умеренным синеватым цветом. Ночью серо-голубой цвет меняется на зеленовато-стеклянный. Только значимые в этом пространстве вещи имеют другое цветовое решение. Сверкает золотом и пурпуром Часовая Скрижаль, распоряжающаяся человеком. Золотом блестят буквы на вывеске Бюро, на Операционном и Медицинском учреждениях, пугая своей торжественностью.
Живя в холодном голубоватом мире, герой только во сне различает краски, вспоминая их. Перед ним мелькает что-то зеленое, оранжевое, синее, красное, желтое. Когда он влюбляется, то и наяву начинает различать цвета и радоваться им. С первой встречи с 1-330 он все видит золотым, розовым, красным и жемчужным. Перед ним в разных красках предстает раннее утро. Он неожиданно для себя замечает, что воздух «розоват». Восприятие мира в цвете все больше усложняется. Д-503 пугается, что все его дни окрашены желтым. Ему кажется, что перед ним распростирается стеклянная желтая пустыня. Так вновь возникает намек на такой признак сконструированного пространства, как пустота, только теперь через цветовой код.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.