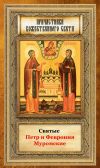Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 61 (всего у книги 72 страниц)
Зная традицию представления вертепов, распространенную на родине Димитрия Ростовского, можно было бы предположить, что и здесь был сооружен вертеп [Софронова, 1995], но скорее всего пастухи взирают на икону Рождества Христова. Заметим, что Я. Штелин в своих «Записках» сообщал о том, что при постановке ростовского действа на сцену выносилась икона. Так или иначе, смысловое ядро «Рождественской драмы» было неподвижным и невидимым для зрителя. О нем лишь повествовал один из пастырей. Семантически отмеченный эпизод, следовательно, лишь подразумевался.
Эпизод Волхвов (Царей) Димитрий Ростовский, с одной стороны, сблизил с источником, а с другой – отодвинул. Следуя за Евангелием от Матфея (Мф. 2. 2–5), он вводит в действие Посланника «от триех царей». Тот беседует с царем Иродом и его Сенаторами на ломаном языке. Словесный портрет Посланника не только свидетельствует о его «чужеземности», но, помимо этого, создает определенный комический эффект. Следовательно, в эпизоде волхвов, как и пастырей, намечено комическое начало.
Цари появляются перед яслями Христовыми непосредственно после беседы с Иродом, отправляющим их в путь: «За посещение вам благодарю зело, / Землю ми Июдейску проходите смело» [Ранняя русская драматургия, 1972, 248]. Они сетуют на то, что Спаситель дарует людям «порфиры и мяхкия одежды», а сам бедствует на сене в глубоком вертепе. Следовательно, и перед царями, как и перед пастухами, находится невидимое для зрителя изображение.
Трудно сказать, как обстояло дело еще в одной пьесе, в «Действии на Рождество Христово». В аргументе его седьмого явления сказано, что Волхвы отдают дары Христу, при этом присутствуют Мария и Иосиф, а ангелы воспевают «Славу в вышних». Волхвы обращаются к Спасителю, принося ему злато, смирну и ливан. Из их слов не следует, что Святое Семейство принимает участие в действии. Оно остается невидимым и неподвижным, потому и в этой пьесе центральное ядро Рождества, видимо, передавалось лишь изобразительными средствами. Вряд ли слова Волхов были обращены в пустоту.
В «Программе Рождественской драмы», опубликованной В. И. Резановым, аллегорические фигуры слагают просвещенные сердца у ясель. Из программы никак не следует, что ясли показывались на сцене. Поэтому В. И. Резанов полагал, что в этой пьесе «участвовала» икона Рождества. Некоторые авторы рождественских мистерий, как Митрофан Довгалевский в своем «Комическом действии в честь, похваление и прославление», шли еще дальше. Он ограничивался введением царей-астрономов, оказывающихся в родстве с Валаамом. С ним они советуются, сверяя его пророчество со Священным Писанием. Затем встречаются с Иродом и отправляются в путь. Конечная точка пути на сцене не представлена. Зато показано, как цари возвращаются к Ироду и рассказывают ему о рождении нового царя, в основном, сосредоточиваясь на Вифлеемской звезде, непохожей на все те звезды, которые известны «астрономской хитрости», так как в ней «дивне светится образъ самой слави» [Драма українська, 1927, 172].
Если Димитрий Ростовский сделал рождественский сюжет видимым только для персонажей, то избиение младенцев он показал в немой картине, представив «убиение отрочат неслышимое, но зримое» и сохранив дистанцию по отношению к священному источнику. Этот эпизод – один из вариантов живой картины на школьной сцене, о чем нам уже приходилось говорить. Митрофан Довгалевский не показал избиения младенцев и сосредоточился на эпизоде Ирода, «до которого выходит Гневъ и поощряет его, до вскоре пославъ вой своя во ВиѲлеемъ избиетъ дети» [Там же, 175]. Этот драматург опустил также плач Рахили. Зато он вывел на сцене Декрет Божий, призывающий Смерть и Дьявола, которые и умерщвляют Ирода.
В пользу предположения о том, что на школьной сцене могли выставляться иконы, в том числе и сокрытые от глаз зрителя, говорит то, что в школьном театре не раз слышалось: «Приидите, отроцы все зде вы сущий. <…> Станите пред образом Спасителя Христа, / Отверзите своя зде с вещанием уста / Во правде» [Ранняя русская драматургия, 1974, 130]. Следовательно, иконы выносились на сцену довольно часто, как бы отражая реальную ситуацию вхождения сакрального в светский мир. «Мир Руси издавна старательно „насыщался“ знаками святости: взаимопроницая друг друга, реальный и семиотический планы „работали“ в заданном направлении – в направлении освобождения от земного и имитации неба» [Тарасов, 1996, 76].
Икона на сцене удваивает это движение. Она замещает самостоятельный эпизод, который не мог появиться на сцене в силу своего высокого статуса. Даже оставаясь невидимой для зрителя, икона высвечивает смысл представления, концентрирует в себе и излучает сакральные смыслы действия, в котором участвует. Этот «вещественный и выраженный знак невещественной и невыразимой сущности божества» [Лотман, 1995, 98] выполняет функцию сюжетного эпизода, замещая его.
Драматурги не концентрировали внимание на иконе, как и на смысловом ядре Рождества. Они сосредоточивались на движении к нему персонажей, т. е. оставляли за ними право приблизиться к средоточию святости, к яслям Христовым, изображенным или воображаемым. Движение становилось не простым проходом персонажей, а осью драматического действия. Это было движение ритуализированное, направленное к сакральному, освященное звездой Вифлеемской, которое иногда решительно сокращалось до простого упоминания о нем.
Могла икона вставать на место персонажа, выступать иносказанием, замещать священное имя. В «Успенской драме» Димитрия Ростовского Богородицу заменяет икона. Судя по ремаркам, икона находилась во гробе: «Ангели прочиим поющим приходят ко гробу и вземлют образ» [Ранняя русская драматургия, 1972, 189]. В киевском «Действии, на Страсти Христовы списанном» на сцене выставлялся «образ самаго Христа во вертограде молящагося» [Драма українська, 1925, 90]. Двенадцать Юношей описывают его, обращаясь непосредственно к зрителю: «Зри, человече, како Богъ возлюби тебе, / Егда твоея ради любве даде Себе / На смерть» [Там же]. Они последовательно объясняют, что Христос в Гефсиманском саду бодрствует и молится, преклонив колена. Рассказывают, как ангел приносит ему чашу, которую он готов принять за грехи человеческие. Затем «образ самаго Христа, страждущего у столпа, поставляется» [Там же, 94]. Юноши подробно повествуют о Страстях Христовых. Также образ Спасителя в терновом венце выносится на сцену, и вновь Юноши рассуждают о нем. Завершают этот ряд образ Спасителя, несущего крест на Голгофу, и образ Спасителя распятого. В поэтических комментариях, их сопровождающих, постоянно слышатся призывы к зрителям взглянуть на них. Выносятся они последовательно, позволяя зрителям увидеть динамику пасхальных событий. Так сближаются изображение и слово, создается их синтез, столь типичный для барокко, но сам пасхальный сюжет на сцене не показывается.
Сворачивая цитату до изображения, школьный театр не нарушал культурных запретов эпохи на показ святых таинств веры. Так он находил новые способы «воспоминания», не прикасаясь к священному и не переводя его в сценическое действие. Иногда перевод происходит на уровне имени. Драматурги переназывают евангельских персонажей, сохраняя за ними комплекс присущих им значений, и только подразумевают их действия и свойства. Не Иисус, а Милость Божия появляется в мистерии «Торжество Естества Человеческого». Естество благодарит ее за освобождение, а Ад между тем «ярится». Это имя не закреплено за Господом окончательно. По мере развития действия Милость Божия преображается в Победу Христову, вступающую в сражение с Адом. Победа его крепко «связует» и вдобавок обезглавливает семиглавого змея. Премудрость Божия замещает на школьной сцене Бога Отца.
Таким образом, аллегорические фигуры переводят сакральное имя в новый план выражения. При этом оно окончательно не исчезает. Вводя аллегорических персонажей, замещающих вышние силы, драматурги прямо указывают: «Премудрость или Богъ» [Драма українська, 1925, 286]. Подобный прием используется не раз: «Яко Любовь – Христос Спасител наш страждетъ и умираетъ» [Там же, 89]. В этих высказываниях, толкующих смысл аллегорий, раскрывается принцип цитирования, дается ключ к прочтению цитаты.
Не только аллегорические фигуры, но и ветхозаветные префигурации по давно сложившейся традиции подменяли собой евангельских персонажей. Они выступали наподобие цитаты, но только свернутой. Префигурации несли в себе комплекс значений, свойственных евангельским персонажам. Не просто имя ветхозаветного персонажа, но весь комплекс значимых действий, им производимых, событий, которые с ним происходят, приспосабливался к евангельскому образу, который драматурги не имели права выводить на сцену. Префигурации замещали высокое и священное, и эпизоды Евангелия будто скрывались под ветхозаветными событиями.
Ремарки «Действия, на страсти Христовы списанного» подчеркивают, что сам пасхальный эпизод не будет представлен на сцене, что он «показуется и ветхаго завета образами и новой благодати изображением страданії Христа» [Там же]. В этом «Действии» на сцену выходит Иосиф Прекрасный, Иов и другие персонажи, прообразующие Христа. В «Торжестве Естества Человеческого» смысл искупительной жертвы Христа также передается через образ Иосифа. Кроме того, вводится параллельный по смыслу эпизод Авраама и Исаака.
Префигурации, аллегории, «переназывающие» евангельских персонажей, эпизоды, в которых они участвуют, сложным и косвенным образом цитируют евангельские события. Более экономным способом цитирования было введение в пьесу вещного символа, имевшего огромное значение и участвовавшего в раскрытии смысла мистериального действия.
В одной «Рождественской драме» на сцену выходило Эхо и рассказывало о том, что Христос родился. В доказательство сказанного эта фигура так заключала свое выступление: «Се принесохъ истекши елей зрима града /Ив зиме прозябшія цветы з винограда» [Драма українська, 1927, 194]. Зритель, таким образом, только слышал о Рождестве от этой фигуры, а также от Ангела, выполняющего роль вестника, но сам эпизод Рождества оставался «за сценой». Его замещало собой не только слово, но и вещные символы – елей и виноградная гроздь. Так план словесного выражения сворачивался и переводился в зримый символ, к которому и привлекалось внимание зрителей. Священное приобретало зримую наглядность, символ вбирал в себя значения евангельских сюжетов.
В «Успенской драме» Димитрия Ростовского Иаков во сне видит богородичный символ – лествицу, о которой ангелы поют: «И восход готов ко небеси, се бо / Лествица з земли до небес досязает, / Ко Богу дерзает. Лествица дщер ти, а степенни – дела / Добрий» [Ранняя русская драматургия, 1972, 174]. Еще раз значение этого символа объясняет Иакову Ангел: «Та лествица к небеси, имей ко мне веру, / Чрез море-мир к небеси мостом будет миру» [Там же, 177]. В последнем явлении этой пьесы ангелы выходят со «знамениями» Богородицы. Один несет Митру Церкви, объясняя, что она символизирует чистую Деву – Церковь. Другой – «венец раю», ибо Богородица есть рай мысленный. Третий – «крила ангельский», четвертый – сердце как знак Неопалимой Купины. Следующими шествуют ангелы с ключом от рая, свещой, щитом, руном и другими богородичными символами, как бы обрисовывая недоступный зрителям священный образ с разных сторон.
Аналогичный прием использован в пьесе «Образ страстей мира сего». Страсти Христовы, как всегда, на сцене не показаны, но зато Ангел благовествует о том, что Господь «Смерть смертію во животъ претвори во веки» [Драма українська, 1925, 387]. Вслед за ним выходит на сцену череда других Ангелов с орудиями страстей. Они несут бич, розгу, веревку, гвоздь, клещи, молот, трость, губку, лестницу, столп, венец и крест и несколько разрозненно пересказывают эпизод страстей. Держа орудия страстей в руках, они даже на них не указывают, и не о них они ведут речь. Ангел с тростью говорит о столпе, к которому привязан Иисус, Ангел с гвоздем – о том, что незлобивого Иисуса ударили в ланиту. Только Ангел с венцом упоминает корону. Все они призывают верующих восхвалять Господа.
Можно утверждать, что слова их направлены не только к зрителям, но и к каждому верующему. Заметим, что в сходной по строению пьесе «Действие, на страсти Христовы списанное» Юноши обращаются не только к зрителям, но и к самому Спасителю, шествующему на Голгофу: «Іисусе уязвленный, градеши, мой камо» [Там же, 99]. Так намечается диалог верующего с Господом.
Драматурги школьного театра создавали запутанные, сложные ассоциативные ряды со своим источником, «запрятывали» сакральный сюжет в имя аллегорической фигуры, в вещь-символ, в котором таился микросюжет, свободно соединяли слово с изображением. Они постоянно использовали метод подстановки, переводили евангельские цитаты в аллегорико-символический план. Передавая сакральные смыслы такими сложными способами, они непременно снабжали их дидактическими рассуждениями, как, например, в «Жалобной комедии об Адаме и Еве»: «Человеческое житие, еже по Бозе <…> имеем и в немъ содержаны бываем, – во оном такожде все прохлаждение и радость взыскуем; но обретаем скорбь и беду. Ей, взыскуем в нем меру, но что же обретаем? Несмирение и бран; взыскуем посмешение, но обретаем плач и рыдание: взыскуем в нем здравие, но обретаем болезн и недуг» [Ранняя русская драматургия, 1972, 116]. Так вечные сюжеты приспосабливались к дидактическим задачам школьного театра, что существенно дополняло цитаты, извлекаемые драматургами из Священного Писания.
Цитата не только усекалась, сокращалась, переписывалась. Могла она распространяться и переводиться в визуальный план, как в «Жалобной комедии об Адаме и Еве». Лаконичный рассказ о грехопадении (Быт. 2. 7) автор развернул и сопроводил многими подробностями. Цитируя Книгу Бытия, драматург будто тяготился краткостью истории грехопадения прародителей и их изгнания. Он описывает, как беспечно ведут себя в раю Адам и Ева, которая не чувствует никакой опасности при общении со Змией. Ева вступает с ней в светскую беседу: «Змия любимая! Иди же тогда со мною, зане зело желаю то прекрасное дерево видети» [Ранняя русская драматургия, 1972, 120]. Так действие по сравнению с источником разрастается и движется не прямо, а толчками и с торможением. Драматург замедляет его, чтобы зритель успел разглядеть все, что происходит на сцене. Он неожиданно делает вечный сюжет зримым, насыщает деталями и лишает библейской повествовательности.
Суд над Адамом также распространяется. В нем участвует множество персонажей: архангелы Гавриил, Уриил, Рафаил, Михаил, хотя в Книге Бытия назван только Бог. Подает в суд на Адама и Еву сама Змия, обвиняя их в непослушании. Она и притаскивает на суд Адама и Еву, трепещущих от страха. Если в источнике сам Бог ведет беседу с Адамом, то в «Жалобной комедии» его заменяет архангел Гавриил. Правда, в дальнейшем, во второй сени IV действа Бог Отец и Бог Сын вступают в действие вопреки всем правилам школьной поэтики. Их окружают аллегорические фигуры, к ним взывающие, которые также рассуждают о том, что случилось в раю.
Таким образом, «Жалобная комедия об Адаме и Еве» – это развернутая цитата, приближающая к зрителю высшие смыслы прежде всего через зрелищное начало. Высокие истины остаются здесь без изменений, но форма их выражения, как мы показали, свободна от запретов. Бога Отца и Бога Сына не замещают аллегорические фигуры. В этой пьесе цитаты из Книги Бытия разворачиваются, явно театрализуясь. Это еще один способ построения цитаты. Он намечает путь воплощения на сцене высоких истин, противоположный тому, который можно полагать основным. Тем не менее и эта пьеса прочно опирается на свой источник.
Заметим, что не только в «Жалобной комедии» на сцену выходит Бог Сын. В украинской пьесе «Слово о збуреню пекла» прямо сказано: «Потомъ самъ Христосъ приходитъ и мовитъ» [Драма українська, 1926, 90]. В русском «Действии о десяти девах, о пяти мудрых и пяти юродивых», цитирующем притчу о десяти девах «в персонах», появляется Христос, отгоняя дев неразумных и призывая мудрых войти во врата рая. Выводя Господа на сцену, драматурги в ремарках иной раз указывали на то, что не Господь, а человек, осмелившийся его представлять, точнее, означивать, участвует в действии. Он выступает «от лица Бога» [Ранняя русская драматургия, 1975, 140]. Эта ремарка свидетельствует о многом.
Разобранные выше косвенные цитаты находятся на уровне сюжета. Драматурги переносили в пьесы и словесные цитаты. Для поэтики того времени знаменательно отношение к готовому слову. Автор распоряжался им, «но только в той мере, в какой безусловно не принадлежащее ему слово позволяет ему распоряжаться собою как общим достоянием или реальностью своего рода» [Михайлов, 1997, 117]. С некоторым преувеличением можно сказать, что школьные драматурги ничего не сочиняли, а брали готовое и переносили в тексты пьес или, точнее, компилировали их, что соответствует общей направленности барокко, которое, по словам А. В. Михайлова, есть «не что иное, как состояние готового слова традиционной культуры – собирание его во всей полноте, коллекционирование и универсализация в самый напряженный исторический момент» [Там же, 168].
Вероятно, позиция драматургов по отношению к сакральному слову объяснялась тем, что, по наблюдениям С. С. Аверинцева, ветхозаветное слово (думается, что и вообще слово священного текста. – Л. С.) принадлежит всякому человеку, говорящему с Богом, что оно «принципиально неавторское слово» [Аверинцев, 1996, 20]. Драматурги испытывали к этому слову пиетет, определяющий характер цитирования. Они вели его по правилам, твердо зная, чего должны остерегаться и какие запреты не разрешают им свободно переносить священное слово на сцену.
Вроде бы из-за высочайшего статуса слова драматурги должны были оставлять его неизменным, но поэтика эпохи требовала явного вмешательства. Драматурги имели право это слово изменять и вводить в иной контекст, украшать тропами и фигурами, но только не наделять дополнительными значениями, противоречащими основным. Готовое слово священного текста, следовательно, переживало некоторые трансформации, так как в новом для него контексте оно встречалось с готовым словом другого вида – словом риторическим.
Попадая в театральный контекст, словесные цитаты не разрушались и не переосмысливались, а лишь интерпретировались, но таким образом, что интерпретация превышала по объему цитату. Она занимала гораздо больше места, чем сама цитата. Интерпретация при этом не выбивалась из контекста. Произведение барокко, в том числе и школьная драма, являло собой свод-объем, в который входили комментарии, указатели, отсылки к источникам [Михайлов, 1997, 123]. Они не разрушали целостность произведения, а «вдвигали» ее в более широкие пределы культуры.
Словесная цитата, попав в пьесу, задавала ее параметры и структурировала ее. Эта цитата не испытывала неудобства в непривычной среде, оставалась независимой и самоценной, интенсивно влияя на свое ближнее и дальнее окружение, распространяя воздействие на пьесу в целом, поддерживая ее позиции на границе светского и сакрального. Цитата необязательно вступала в диалог с авторским словом и внешне будто сливалась с ним. Она даже могла выпадать из контекста, стоять особняком, но тем не менее она всегда повышала ранг пьесы, так как открывала доступ к миру высоких значений.
Текст барокко, в том числе театральный, отличался, например от современного, особой мозаичностью. Та эпоха предпочитала столкновение, а не стяжение различных языков культуры, и проводилось оно в основном по правилам противопоставления высокого и низкого, мирского и священного. В результате в драматическом тексте «совмещались цитатное и нецитатное пространства» [Запольская, 2003, 488].
Драматурги доносили евангельское слово до зрителей, чтобы в их сердцах оно стало «глубже писанным». Они обходили «в вертограде Божественного писания сюду и сюду», взыскивали «от Ветхаго и Новаго Завета действию нашему примера подобнаго» [Ранняя русская драматургия, 1974, 317]. Как в научных изданиях, они указывали книгу, главу и строфу Священного Писания, т. е. выстраивали цитаты с атрибуцией [Фатеева, 2000, 122–126].
В «Розмышлянях о муке Христа Спасителя» Иоанникия Волковича перед рассказом Вестника о положении тела Иисуса во гроб сказано: «И снемъ и Иосифъ обви Плащеницею, и положи въ гробе изсечение» (Лк. 23. 53)». Перед выступлениями других Вестников цитируются Евангелие от Матфея и от Иоанна. В пьесе Симеона Полоцкого «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных» указание на источник цитаты делается иначе. Отроки, уже находясь в пещи, произносят слова молитвы из Книги пророка Даниила. Симеон не приводит молитву полностью, может быть, из-за ее большого объема. Кроме того, ее текст был хорошо известен. Он ограничивается напоминанием после первой приведенной строфы молитвы: «И прочая, яко же есть у Даниила в главе 3» [Ранняя русская драматургия, 1972, 167]. Таким путем авторы пьес помогали зрителям, а также исполнителям ориентироваться в соотношении пьес с текстом-источником и демонстрировали их тесные связи с ним. Можно сказать, что перед нами некое подобие научной работы с текстом. Всякие сомнения в происхождении цитаты благодаря ей снимались.
Драматурги указывали источник цитаты и в том случае, когда цитата пародировалась, как, к примеру, в «Комедии униатов с православными» Саввы Стрелецкого. Герои этой пьесы – униатские священники, похваляющиеся своей ученостью друг перед другом. Например, когда Декан рассказывает о годах своего учения, то ссылается на святое Евангелие: «Со i ewangelia powiada sancta» [Драма українська, 1929, 196]. Драматург уточняет эту ссылку, замечая в скобках: Math. Cap. 10. Савва Стрелецкий постоянно делает подобные пометы, отсылая к источникам, например: Псалом 65, Псалом 17, Первое Послание святого Апостола Павла к Коринфянам. Персонажи обращаются со священным словом достаточно вольно. Предупреждая об опасности общения со злыми людьми, они делают неверную ссылку: «С преподобным преподобен будеши, а со строптивым развратишися» (Псалом 17).
Находясь в пространстве пародийного текста, евангельская цитата изменяла свое положение. Так продолжалась давняя традиция церковной пародии, естественно, не утрачивающая своего основного значения. Создавался эффект отчуждения от священного текста, включался в действие механизм двойного прочтения цитаты, чему способствовал ее светский контекст.
Цитата могла появляться в названии пьесы, в диалогах и монологах персонажей. В некоторых пьесах она вкладывалась в уста аллегорических фигур и даже разносилась «по разным голосам», распределялась между ними. Так было в восьмом явлении первой части «Торжества Естества Человеческого». Фигура Побожности в поисках Иисуса восклицает: «Пойду искати многими стезями, / Камо піествова любимий стопами. <…> Пойду на стогни, пойду на калуги, / На распутия, непреходъни Луги. <…> Граду ко граду, ви ли рцете, тщери, / Не у вас ли зде женихъ на вечери / Радостьну вина чашу исполняетъ» [Драма українська, 1925, 239]. В Книге Песни Песней мы читаем: «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя» (Песн. 3. 2); «Заклинаю вас, дщери иерусалимские: если вы встретите возлюбленнаго моего, что скажете вы ему?» (Песн. 5. 8).
Давалась цитата и неким пунктиром, в косвенных упоминаниях. Во «Властотворном образе человеколюбия Божия» Авель, уже находясь ваду, вспоминает, как он «от единоутробна жизни лишихся». В пьесе Георгия Конисского «Воскресение мертвых» развиваются цитаты из евангельских притч о зерне, о пшенице и плевелах [Софронова, 1992]. Вопрос Земледела о том, в каком виде люди восстанут после Страшного суда, – это не его собственные слова, а цитата из Первого Послания Павла к Коринфянам: «Но скажет кто-нибудь: „как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?“» (1 Кор. 15. 35).
Итак, школьные драматурги всегда указывали на соотнесенность своих пьес со Священным Писанием, маркировали эту соотнесенность и выносили на поверхность как на уровне слова, так и сюжета. Концентрируясь вокруг знаменательных событий священной истории, они цитировали ее в плане вербальном и акциональном. Постоянно приникая к священному источнику, драматурги никогда не шли прямыми путями. С одной стороны, они непосредственно обращались к священному, так как не нуждались в аллюзиях, скрытых указаниях на свою зависимость от сакрального ядра культуры. Драматурги прямо объявляли об этой зависимости, и их заявления становились частью создаваемого им художественного целого. С другой стороны, евангельские цитаты не механически переносились на сцену, а проходили сложную эстетическую обработку. Сохраняя их значение неизменным, драматурги обращались с ними, как и со всяким готовым словом-высказыванием, попадающим в пьесу, и направляли в русло барочной поэтики.
Цитата становилась органической частью пьесы, которая, как всякое барочное произведение, была построено особо. Каждый ее элемент был подчинен целому, но одновременно он не утрачивал своей самостоятельности. Мастер барокко, в том числе и драматург, не сглаживал, не выравнивал швов между отдельными частями создаваемого им произведения, никогда не делал вид, что оно создано из одного и того же материала. Напротив, он маркировал границы между частями, старательно показывал, что использует, казалось бы, несовместимые источники. Драматург никогда не скрывал «искусственности» своего произведения и не присваивал его себе окончательно.
Поэтому евангельские цитаты выделялись в тексте, занимали в нем особое положение не только в силу своей сакральности. Если они оказывались на уровне сюжета, то чаще всего выступали как цитаты косвенные, усеченные или, напротив, значительно распространялись по сравнению с источником. Если цитаты опускались и только через их окружение зритель мог проникнуться смыслом представляемого на сцене, то они все равно подразумевались. Кроме того, цитаты были исходной точкой жанра мистерии.
На уровне слова евангельская цитата – это прежде всего прямая цитата, хотя и здесь с ней были возможны самые различные операции. Во всех своих вариантах она – непоколебимая основа школьных пьес, определяющая их жанровую структуру, их положение в культурном пространстве эпохи. Может эта цитата быть косвенной и даже невидимой, как в «Мастере и Маргарите» Булгакова, который, опираясь на евангельский текст, приближался к жанру мистерии. В своем романе писатель представляет все ярусы мира, один из которых, ад, сращивает с землей, точно так же, как Красиньский в «He-Божественной Комедии». Священная книга всегда присутствует в культуре, поддерживая ее память.
* * *
Очевидно, что не только сакральное ядро культуры вступает в отношения со светскими текстами. Значительные взаимодействия происходят и между светскими текстами. При этом они могут не совпадать по рангу и по значимости, относиться к разным историко-культурным эпохам. Совершенно необязательно, что их авторы осознанно налаживают межтекстовые отношения. Иногда происходят совершенно неожиданные и трудно объяснимые совпадения. Так, видимо, активизируется память культуры. Связи, заимствования, литературные вкусы и пристрастия автора, конечно, играют роль при обращении к тексту, особенно, если он имеет неоспоримое приоритетное положение.
Но бывает так, что вдруг «всплывает» текст давно забытый, притом в произведениях, вошедших в культурный фонд. «Каждый текст не только преобразует сложившуюся литературную ситуацию, но и входит во все множество когда-либо созданных текстов одного плана, принадлежащих к разным областям общения. Это означает, что семантическое строение текста может быть интерпретировано не только как реализация индивидуальных установок автора или как продукт историко-культурного развития, но и в качестве одного из проявлений универсальных, постоянно действующих особенностей человеческого сознания» [Смирнов, 1978, 195].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.