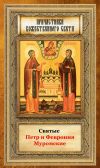Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 72 страниц)
Кратко можно сказать о мимике персон, опираясь на ремарки и слово монологов. Мимика, как и в школьном театре, не развита. В основном, говорится о взорах. Царь Давид в «Истории о царе Давиде и царе Соломоне» произносит свою речь, «взирая на небо» [Ранняя русская драматургия, 1975, 118]. Главный герой «Акта Ливерского» говорит, взглянув «кверху». Поднимаясь на трон, он также ввысь «пускает» свой взор». «Взглянув к небесам» [Ранняя русская драматургия, 1976, 403], он начинает битву с французами. Также ремарки отмечают, на кого и на что должна смотреть персона, произнося свои монологи. В пьесе о Калеандре один мудрый Волхв толкует сон Неонилды, смотря в небо; другой – глядя на свои инструменты. Князь Петр Златых Ключей произносит речь, смотря на портрет прекрасной Магилены. Точно так же, взирая на портрет прекрасной Тигрины, выступают Агролим и Алколес в «Акте о Калеандре».
Итак, двигаясь или находясь в покое, персоны жестикулируют. Жесты, позиции и типы движения заданы, их число ограниченно. Они как бы передаются от одной персоны к другой. Так происходит обмен жестами. Обычно только одна персона воздевает руки, другие стоят или сидят вокруг нее неподвижно. Довольно редко кто-то на протяжении одного эпизода стоит, сидит и лежит. Эти позиции распределены между персонами, что создает четкий рисунок мизансцен. Они никогда не бывают насыщенными частой и всеобщей сменой позиций. То же происходит с движением. Обычно одна персона движется, в то время как другие сохраняют статичное положение: «Стоящим кораблеником четырем, един выходит из-за шпалер» [Там же, 421]; «Идите вы скоро, то дело творити, аз бо на вас буду издали смотрети» [Там же, 310]. В массовом движении участвуют только Воины, отправляющиеся в поход.
Такое экономное использование жеста, позиции, движения создает «прозрачность» пространства старинного театра. Каждое, едва обозначенное движение персон становится заметным. Его смысл легко прочитывается. Действия на сцене никогда не бывают непредсказуемыми, как жесты и позиции, смена которых обязательно подчеркивается. Они осуществляются по установленным правилам.
Таким образом, не выходя за пределы предписанных движений, позиций и жестов, актер овладевал своим телом. Он активно двигался, а не просто произносил монологи. Вступал в физические контакты, разнообразил типы перемещения на сцене, постоянно чередуя их, пользовался различными жестами и даже мимикой. Очевидно, что и движение, и жест, и позиция не менялись от пьесы к пьесе и не были индивидуальными. Каждый персонаж мог использовать только те из них, которые были предписаны. Но весь набор средств они меняли таким образом, что создавался целостный образ игры. Актер не только играл телом. Тело становилось объектом игры.
Не сдерживаемый прежними школьными запретами, театр расширил список телесных тем и реализовал их в акциональном плане, который уже не дублировал слово и утратил свою иллюстративность [Пави, 1992, 377]. Это происходило преимущественно в тех эпизодах, где развивались темы смерти и любви. Бестелесные персонажи на «охотницкой» сцене почти исчезли, хотя неокончательно. Например, таковыми оставались аллегории, хотя и они уже проявляли телесную активность.
Перед тем как рассмотреть основные проявления телесности, обратимся к телесному коду на уровне слова. Персоны охотно рассуждали о теле. Если ранее они вели разговоры все больше о душе, то теперь обнаружили, что их тело также может стать объектом размышлений. «Пропадай мой дух и весь корпус тела, / Ежели не получу сего дела» [Ранняя русская драматургия, 1976, 69], – жалуется Кавалер Мальтийский в «Действии о короле Гишпанском». Этот «корпус» постоянно занимает персон. Зритель слышал слова Алколеса о том, что «состав» его телесный оцепеневает. Партулиан сообщал, что он «утружден премного в тучном своем теле» [Там же, 197]. Так телесность оказалась значимой.
С помощью телесного кода все более интенсивно передавались эмоциональные состояния персон, отражающиеся на их внешности. Так, Астарба, побывав в каморе у благородного Сарпида, замечает, что «бе бо зело нечто злобен и очи имать мрачный» [Там же, 87]. Элвира скорбит о Леоноре, «зря на смертном одре помраченно лице» [Там же, 109]. В телесный код переводились размышления персон о своих страданиях. Узнав о побеге невесты с другим, Алкалеретес объявляет, что меч пронзил его сердце. Оклеветанная Царица жалуется, что ощущает в сердце «глубочайшу язву». Граф Фарсон сообщает, что печаль мелко раздробляет все его члены. Частое появление подобных оборотов косвенно свидетельствует о телесности человека на сцене, которая существовала в акциональном плане и обыгрывалась.
В «охотницких» пьесах человек вглядывался в другого и в речах пытался создать его портрет, пусть краткий и условный. В нем преобладало перечисление частностей, с трудом организовывавших целое. Внимание привлекали только детали, которые тут же переводились в общий план и становились абсолютно условными. Опора на взгляд со стороны другого при создании словесного портрета имеет давние традиции, продолжающиеся и в «охотницком» театре, где задача создания развернутого словесного портрета от первого лица не ставилась. Только в интермедиях персонаж сам говорил о своей внешности, как, например, Раскольник: «Стару веру держу, ношу браду тако» [Ранняя русская драматургия, 1975, 530]. В остальном предпочитались косвенные описания.
Библейский Олоферн в пьесе «О премудрей Июдифе» передает впечатление, которое на него произвела красота Юдифи, следующим образом: «И лице твое язвит сердце мое красотою» [Ранняя русская драматургия, 1976, 455]. Также выражали свое восхищение другие персоны, редко отваживаясь на непосредственную реакцию. Правда, наконец узнав Индрика, Меленда трогательно говорит: «Вижду, хотя и светлость лица твоего зарасла власами, / Однакож прежную любовь признаваю с вами» [Там же, 530]. В основном, персоны обходятся общими рассуждениями и сравнениями. Неонилда восхищена красотой Армелины: «Не видах прекрасной таковой девицы, удивляюсь много сицевой зеницы. Нет ей краснейши нигде не видала, такой преясной нимало слыхала» [Там же, 351]. Калеандр, любуясь Шпиналбой, сравнивает ее с Венерой и удивляется тому, что богиня сошла с небес. Иногда описания красоты бывают очень краткими и сводятся к определениям. Царица, например, именуется «лицезарной». О красоте гишпанской Королевны свидетельствуют слова рыцаря Евгенуса и Кавалера Мальтийского: «За красоту королевны хощу умрети» [Там же, 73]; «За красоту твою аз здесь бился» [Там же, 74]. Развернутые описания внешности этой Королевны отсутствуют. Также о Леоноре в пьесе о Сарпиде кратко сказано, что она прекрасна, в красоте «преизрядна». Остальные девицы лаконично называются благополезными или прекраснейшими. Пожалуй, в этом отношении повезло Диалде в «Акте о Калеандре», к которой обращены такие слова: «Вижду, дражайщая, як солнце сияеш, красотой же ныне, как крин процветает» [Там же, 174], а также прекрасной Магилене.
От подобной условности персоны порой стараются избавиться. Граф Фарсон так оплакивает свою разлуку с Кралевной: «Лице бело твое тело, превосходит вся, что есть» [Ранняя русская драматургия, 1975, 394]. Прекрасная герцогиня Кризанта, плененная Калеандром, «похваляет» красоту его и «увеселяетца, зря на его персону». Ее восхищение не сводится только к словам о том, как он процветает «прекрасными виды». Она, склонясь над спящим Калеандром, «указует» на его лицо. Далее развивается эпизод, вторящий эпизоду Амура и Психеи. Кажется, монолог Кризанты – это единственное описание мужской красоты в старинном театре.
В основном, составляются портреты главных персон. Но внешность второстепенных также подлежит описанию, часто в косвенной форме. Несчастная палестинских стран Царица, встретив Мужа Старого в пустыне, спрашивает его, человек ли он или ангел, посланный от Бога. Эта реплика ясно свидетельствует о благообразии старца.
Интермедиальные персонажи, вообще сосредоточенные на телесности, предпочитают конкретные ее описания, как бы походя говоря о приятном внешнем виде другого. Арлекин описывает потенциального любовника как «хорошинкого, пригожинкого, милинкого, чистинкого, опрятнинкого». Старуха предлагает Дворянке-вдове свести знакомство с замечательным господином, на что та задает вопросы, касающиеся его внешности, но не положения в обществе: «А как он собою? / Стар или молод, бреетца или ходит з бородою?» [Там же, 628]. Старуха отвечает в лучших традициях смеховой культуры: «Личиком кругленок, как ворона ясна, / На голове кудри, борода безвласна, / Гласки самого свинцового цвету, / Носок долгонек» [Там же, 628–629]. Основное внимание она концентрирует на «нижнем» носе: «Такой носок, что всякому будет жило».
В интермедиях явственно проступает тенденция назвать то, что называть вслух не принято. Монах в интермедии «Старец, Баба, Цыган», завидев Бабу черноброву, просит: «Ну-ка, Келейница, по чарке поднеси, / Да жопой та потреси» [Ранняя русская драматургия, 1976, 700]. Интермедиальные персонажи отмечают свои физиологические реакции. Гаер, повествуя о страшных приключениях, которые ему пришлось пережить, уверяет, что волосы у него встали, как щетина.
Если красота довольно мало интересует персон, то безобразие они описывают с большим тщанием, не скупясь на детали. Мерзкий татарин Агролим «страшнея диявола взором превосходит, на лютаго зверя лицем он походит» [Там же, 146]. Он «злообразен», «сатанинский образ на себе имущ», но наделен огромной силой. Персоны не стесняются в выражениях, характеризуя его внешность: «Что се за чючела и дурная рожа? Вот какая харя! экая пригожа» [Там же, 144]. Так прекрасная Тигрина издевается над своим женихом и решительно заявляет отцу, что отказывается выходить замуж: «А то сыскал жениха, демону подобна, всякому страшилищу истинно удобна» [Там же, 146]. Аллегории, приобретшие конкретный внешний вид, также рассуждают об облике других в весьма нелестных выражениях. Гениюш, например, называет Совесть «пакосной машкарой».
Интермедиальные персонажи с видимым удовольствием усиливают негативные характеристики – как свои, так и чужие. Их герой по определению безобразен, и его безобразие всегда осмеивается. Сваха в «Интермедии о Гарлитинской свадьбе», готовая сосватать Гаеру невесту, в ужасе от его внешности: его рожа «очюнь непригожа». Она боится, что невеста его испугается. Гаер и сам недоволен своей внешностью: рожа больно страшная, особенно нос, да и уши не как у людей, и глаза, как у рака. Не лучше о нем думают другие персонажи: «Ах ты, чучела дурная, / И рожа твоя как свиная!» [Там же, 722]. Зато он хвалится своей силой и ловкостью. Он способен сразиться с артелью комаров и убить муху. В пьесе о Сарпиде этот персонаж так доволен свой внешностью, что с притворной скромностью замечает: «Кажется не уродок» [Там же, 119].
Внешность интермедиальных персонажей постоянно обыгрывается. Безобразных непременно выдают за красавцев – Цыган представляет Гаера как красивого молодца. Сваха уверяет, что он высокого роста и хорош собой. Но кто же ей поверит, так как и на лицо его «страшно зрить». Мошенники не раз указывают Ставленнику на то, что он плешив: «То плешь, посмотрите ка, / Куда как пропасть, как право велика! <…> Тьфу, кутья толоконна, плешь!» [Ранняя русская драматургия, 1975, 476]. Не нравится им и его брюхо: «Да что и он, как просвирня, развалил брюхо коровье?» [Там же].
Возрастные характеристики также интересуют персон. Например, сыновья царя Целюдора в пьесе о Калеандре говорят, что царь пребывает «при древней старости», ожидает смерти украшенный сединами. О «веема престарелых летах» другого царя рассуждают Сенаторы. Рыцарь Ланцылонт обещает обращаться с князем Петром Златых Ключей в бою, как с маленьким мальчиком, намекая на его юность. Аллегорические фигуры не раз говорят о своей молодости, как Купида в «Акте о Калеандре», выводя из терпения Зависть. Она называет его мальчишкой, который забавляется «во младенстве». Эта характеристика постоянно сопровождает бога любви. Интермедиальные персонажи принципиально смешивают старость с молодостью. Купцу, покупающему Гаера, например, кажется, что он уже старик. Старость всегда осмеивается. Шут называет старого Панталона «табашной бородой».
Итак, в рассуждениях о внешнем виде другого выражается восхищение или неудовольствие. Персона получает, пусть условные, но все же явные внешние характеристики. В акциональном плане телесность уже была наглядной, выступала важным моментом игры. Используя возможности, предоставляемые новым отношением к ней, актеры открыто играли физические страдания и смерть. Наиболее четко телесность проявлялась в сценах жестоких сражений и смерти персон. Они жалуются на раны, им нанесенные. То Неонилду ранят в колено, а потом в бок, и сделал это Калеандр, который еще хочет «приколоть» ее шпагой. То Калеандр вопит: «Ах, руку перешибло и главу прошибло!» [Ранняя русская драматургия, 1976, 333]. Петр приходит в монастырь к Магилене, ища приюта. Она обещает врачевать его тяжкие раны своими руками. Калеандр просит, чтобы оруженосец Дурилло излечил его, что тот делает незамедлительно. С ранеными не всегда обращались столь милосердно. Победители повергали их на землю, вставали на грудь, что должно было символизировать их превосходство. Затем все же велели им вставать: «Ну-те, братцы, пора вам вставати, разве тово хотите, чтоб смерти предати» [Там же, 232].
Представления об изувеченном теле, существенно дополняющие акциональный ряд, присутствуют на уровне слова. Персоны угрожают врагам выпустить «черевы». Обещают, что их тела не будут «процветать», так как они «раздробят» их на части. Они всегда готовы утопить свой меч в крови и обещают мстить до тех пор, пока их собственное тело не будет «изъяденно» червями. Желают рассечь своих противников «на штуки» и истерзать их. Гаер по этому поводу сообщает: «Свяжу ноги и руки, / выколупаю язык и оки, / щоки и боки обломаю» [Там же, 97]. Царь в пьесе о невинно оклеветанной царице хочет предать ее огню, для чего велит принести дрова и развести костер. Всех жестокостью превосходит прекрасная Неонилда, требующая в результате очередной жуткой неразберихи убить Калеандра и принести ей его главу. Главы никто не приносит, но речи о ней ведутся часто.
На «охотницкой» сцене персоны не раз расстаются с жизнью. Смерти их бывают самые разные. Целюдор погибает неожиданно, Атигрин – на руках у Тигрины. Эдомир тонет еще в младенчестве. Целюдор уходит из жизни в своей постели, окруженный Сенаторами и родственниками. Персоны постоянно «сочиняют» баталии и убивают друг друга самыми различными способами. Кому-то отсекают голову в бою. Кого-то рассекают мечом. В целом, смерть утрачивает условность и приобретает конкретные очертания. Казни и убийства постоянно происходят на глазах у зрителей. Приведем несколько примеров.
Туркоман отсекает главу мнимому Калеандру, «вонзает» ее на копье и уносит. Ложного Индрика также лишают головы, а тело повергают на землю. Индрик велит отрубить голову Сенатору, задумавшему разлучить его с Мелендой: «Тогда Сенатор становитца на колени и Спекулатор главу его отсекает и отходит» [Там же, 541]. Королевич аглицки, похваляясь перед боем, обещает, что голова его противника будет без тела валяться. Рыцарь Ланцылонт уверяет, что этот королевич скоро потонет в крови, как камень. Сенаторы желают отрубить голову Фарсону, но потом избирают другой вид казни. Голову врага еврейского народа Олоферна выносит на сцену Юдиф. В «Истории о царе Давиде и царе Соломоне» в одной ремарке сказано: «По окончании сея речи, пасть на колени, а Иванию отсещи главу» [Ранняя русская драматургия, 1975, 131]. Скифская царица Тамира то же самое делает с Киром. Орест мечом убивает Памфила.
Мертвые тела неоднократно раскладывают на сцене. Лежит мнимо убитый Ураний, распростерто тело царицы Беляндры перед неутешным сыном. Иполит закалывает Раба и «отвлечет за полы». Живые не страшатся этих тел. Мертвого Атигрина окружают сочувствующие Сенаторы. Меленда желает облобызать мертвые руки Индрика, страдает, что не видит «очей его зрак»: «Несть здесь твоея главы, ни же зрак персоны! <…> / Вижду мертво тело и несть языка <…> любезнаго лика, / К тому не узрю любезнаго лика» [Там же, 516–517]. Он же, увидев мнимо мертвую Меленду, говорит о том, что земная персть снедает красоту его возлюбленной. Примерно в тех же выражениях Меленда оплакивает Индрика, уже будучи в монашеском чине. Гаер, осмеивающий повешенного Зимфона, описывает его смерть через разложение тела: «А где ж твое око? / Ау, уж нет и рожи! / или обшит в кожи?» [Там же, 126]. Ритуальному осмеиванию подвергается павший от руки Полиартеса Агролим. Над ним «надсмехаетца» Предуведение. Смерть хохочет над умершей Кризантой. Аллегории вообще не обходят смерть своим вниманием. Совесть угрожает Целюдору в таких выражениях: «Смерть бо его горкая во гробе положит <…>, толко кроме савона савсем изубожит» [Там же, 177].
В некоторых пьесах персоны намереваются или действительно совершают самоубийство. Они желают смерти, если жизнь невозможна, стремятся умереть, чтобы не утратить честь. Всегда готовы уйти из жизни из-за любви: «Не зря бо Ореста, не могу более жити» [Там же, 105]; или спасая друга: «предам на смерть за него мое тело» [Там же, 114]. Тигрина в отчаянии готова принять скорую смерть. Она уже достает «из кормана пуйнал», но фигура Разсуждения спасает ее от неминуемой смерти. Также Алколес готовится «закалать» себя, но тут приходит Полиартес и спасает его. Таким же чудесным образом решается судьба Партулиана, который, плача, ожидает смерти: «Смерте любезна, нимало не медли, вскоре мою душу от мене отъемли» [Там же, 282]. Кризанте удается покончить с собой, в чем ей помогают аллегорические фигуры: Совесть вручает ей «пуйнал», а Смерть – «савон». Калеандр становится свидетелем ее самоубийства. В «Акте Ливерском» королева Беляндра, повстречав разбойников, также сводит счеты с жизнью. По окончании «слезного» монолога она «ударит себя шпагою и упадет» [Там же, 395]. Кончает жизнь самоубийством Кралевна в пьесе о графе Фарсоне: «А я более не могу на свете жити / И чем себя веселити, / А кем веселилась! / И того лишилась (Тогда вынуть шпагу и заколотца)» [Ранняя русская драматургия, 1975,410].
Конечно, подобные эпизоды можно рассматривать как проявление жестокости, присущей старинному театру. «Закон барокко – дробность композиции, множество сюжетных линий, масса персонажей, обилие всевозможных ужасов, убийств, преступлений – красочный, движущийся, не поддающийся регламентации хаос» [Большаков, 2001, 69]. Этот закон еще действовал на русской сцене XVIII в. Так создавался очередной аффект, воздействующий на зрителя, так театр привлекал его кровавыми сценами. Этот способ и до сих пор входит в коммерческое искусство и является доминантным в некоторых кинематографических жанрах. Оставив в стороне современную линию визуального искусства, заметим, что главной составляющей жестоких сцен «охотницкого» театра является тело. Оно, а не орудия убийств или пыток, в первую очередь становится объектом изображения. Обезображенное, изувеченное, мертвое тело присутствует в условном театральном мире и в сценическом слове.
Рыцарские сражения, заканчивающиеся смертью, снижаются в смеховом мире. Интермедиальные персонажи не столь жестоки. Они обходятся драками. Бьют и прогоняют Херликина, а он кричит: «Ой, ой, ой, вить было хорошо!» [Ранняя русская драматургия, 1976, 567] и просит не бить его в рыло. Он и сам горазд вступать в драку, колотит Судью и Секретаря. «Вчинает» драку Старик с Женой. Бьет Хозяйку Господин. Колотят Попа Старец и Подьячий. Дама бьет Гаера по роже. Мошенники костыляют Ставленника в шею, в плешь «заезжая грешною рукою». И вообще в конце каждой интермедии «все будут дратца и уйдут за ширмы» [Там же, 657]. Иногда интермедиальные персонажи все же ожесточаются. Бьет и топчет ногами Гаера Купец. Неверная Жена призывает Любителя растоптать его ногами. Сам Гаер усердно колотит Старуху, предварительно ее связав. Иногда и персонажи серьезных пьес обещают наказать обидчика «прутом», т. е. шпагой, отнюдь не в высокопарных выражениях: «Сим моим прутом росчибу твое рыло, / Разсеку твои губы, / Что не соберешь, где лежат твои зубы!» [Ранняя русская драматургия, 1975, 377].
Еще одним важным проявлением телесности на сцене является болезнь [Одесский, 1995, 158]. Персонажи страдают в темницах, мучатся там от жестоких язв, о чем и сообщают. Выставляют напоказ раны, как князь Петр, который жалуется на болезнь и тяжкое горе. Царь Атигрин пребывает в унынии. Он лежит теперь на «смертной постеле» и видит «струпы гнойны на всем <…> теле» [Ранняя русская драматургия, 1976, 207].
В интермедиях болезнь необязательно предвещает смерть. Она поддерживает тему бедности и голода и решается в традициях народной смеховой культуры, где противопоставление телесного верха и низа имеет решающее значение. Вот как жалуется Гаер в пьесе о Сарпиде: «От хлопотни афендрона и во лбу стучало» [Там же, 113]. Все болезни подобных персонажей концентрируются именно там: «Ненасье великое во афендроне, / а по-вашему в жопе, а по-нашему в гузне, / а по-руски в седалищи, / а по-словенски на металищи» [Там же, 105]. Здесь, как и во многих других случаях, телесный код снижается до мотива фекалий. Желудочная болезнь описывается как страшный холод, мороз, ворчащий в брюхе. Гаер подробно перечисляет всевозможные недуги, которыми страдает, на время отвлекаясь от болезненного состояния желудка. Здесь и «меленкония», и «лихоратка», и «превеликий жар», и понос, и кашель. От всех этих болезней он ужасно исхудал, «Слово в слово хут, как слон, стал» [Там же, 714]. Чудесной лекаркой оказывается для него Молодица.
Персонажи интермедий страшно кашляют, как Гаер, Панталон и тот Мужик, которого иностранный Доктор решил вылечить от кашля «клистиром», от одного вида которого тошнит Шута. У них так сильно болит голова, что они идут к Доктору, просят помощи у Цыгана, что заканчивается весьма плачевно. Не меньше страдают они от побоев: «И так брюхо от кулаков опухло /ив глазах кажется рухло» [Там же, 128]. Похмелье мучит Гаера: «Ох, ох, ох, ох, ох, много уж я примечал, / что всегда мне с похмелья печаль. / Шумит, гремит, звенит, дренит. / Голова на мне бутто иная, / кожа и рожа кажется свиная <…>. Да и глаза не те никак, все видится круги да дуги, / а в костях великия недуги» [Там же, 102]. В аналогичном состоянии находится Посацкой, который выпил пять ведер пива и наелся соленых сазанов: «Слышу я, что во мне жар горит как во аде, / Не можно ль ти лду сыскать хоть мало в посаде?» [Ранняя русская драматургия, 1975, 550]. Слуга предпочитает привести священника, но появляется Литвин, которому Посацкой рассказывает, как он поднимается прямо в небо. Часто болезнь бывает притворной. Хозяйка делает вид, что больна, так как боится, что Муж заметит спрятанного у нее под юбками любовника. Она даже уверяет, что ей пришла пора родить.
Высокие персоны мучатся от любви. Как только Леонора видит, что ее возлюбленного Ореста уводят в тюрьму, она восклицает, обращаясь к придворной даме: «Ах, не могу терпеть, сие зрящи, / доведши, положи мя на одре, не медлящи! / Ах последняго моего издыхания» [Ранняя русская драматургия, 1976, 109]. Она лежит на одре до тех пор, пока не встречается с возлюбленным вновь. Прекрасную Магилену снедает непонятная болезнь, которую Мамка называет несносной. Отвергнутый Кралевной Фарсон, обращаясь к ней, взывает: «Из очей моих спознаешь, всю болезнь душевную. <…> Ты, сама, душа, увидишь, как я буду мертв лежать» [Ранняя русская драматургия, 1975, 394]. Он не концентрируется на физическом своем состоянии, но оно таково, что смерть неминуема. Алколес жалуется, что печаль болезненно терзает его утробу и члены, Атигрин – что его сердце от печали «хворо».
Телесное начало сказывается в любовных эпизодах. Через него передаются интимные отношения персонажей, причем не только интермедиальных, которые всегда ведут себя на сцене более свободно, чем герои серьезных пьес. Конечно, это пока подступы к реализации взможностей актера в этом плане, но и они уже значимы. Пьесы полны эпизодов, изображающих невинную любовь, чувствуя которую, персоны не обходятся только словами и не остаются статичными. Они позволяют скромные знаки внимания друг к другу.
Леонора и Орест любезно друг друга приветствуют и «натурално между собою действуют». Дукс берет за руку Лушницу и уводит в сад. Многие целуются при встрече, как Индрик и Меленда, Цесарь и Цесарева. Штелла «слезно» целует Урания. Шпиналба целует и обнимает Калеандра, Тигрина – Палиартеса. «Армелина, ухватя его (Алкобеля. – Л. С.) и обнем, поцеловав» [Ранняя русская драматургия, 1976, 239]. Алкобель же берет ее за руку и тоже целует. Так они целуются, а Купида их обнимает и, взяв за руки, уводит со сцены.
Другие идут еще дальше и затворяются в отдельные «каморы», как Калеандр со Шпиналбой. Он, забыв о том, что обещал блюсти чистоту, соблазняет ее, просит, чтобы она «с ним плоцки пребыла»: «Мы уединенны с тобою зде будем, на сем поединке со мной днес пребудем. Утоли во мне огнь, тобою возженны; аз к тебе любовию веема сопряженны» [Там же, 270–271]. Только после этого он объявляет ей свое имя. Она же, «веема распаленна» пламенем «купидинским», желает, чтобы Калеандр с ней «амур сотворял», на что тот радостно соглашается. Они направляются в «комару», несмотря на увещевания аллегорической фигуры Чистоты. Зато Купидо очень доволен и, смеясь, уходит со сцены.
Египетский царевич Ураний, прибыв к трапезонскому царю Полиартесу, сразу влюбляется в его дочь Штеллу и даже перед тем, как дать ей пароль, сообщает, что его плоть ныне огнем «раскаленна». Граф Фарсон с Кралевной также уединяются. Она не прямо приглашает его на свидание, а подсылает Пажа, который передает ему требование выходить на «шпажное блистание». Фарсон отправляется на поле сражений и доверчиво ждет противника, но Гофмейстерша приглашает его войти в особые покои, куда приходит Кралевна «под мушкаратом» и призывает: «Ляжем на сию кровать / И будем вместе спать» [Ранняя русская драматургия, 1975, 379]. Фарсон боится, что им будет тесно вдвоем, но Кралевна успокаивает его, говоря, что «будет обоим место». Фарсон доволен: «Ты меня будеш грети, / А я тебе буду радети» [Там же, 380]. Остаться наедине с прекрасной Магиленой мечтает князь Петр: «Счастлив бы я человек могл назватца в свете, / чтоб всегда разговаривать в вашем кабинете» [Там же, 334]. Но красавица велит ему отправляться на свою квартиру. Петр пытается овладеть Магиленой, открывает ее белые груди, когда они остаются в лесу. Греху помешал ворон, укравший узелок с перстнями.
Телесных радостей не чуждаются и библейские герои. Евнух Вагаф объясняет Олоферну их суть следующим образом: «Ничто в мире тако всем весело бывает, / Яко тело свое кто плотски услуждает. <…> Телеси своему улучити исправу / Светлою женою, котора яви ти славу» [Ранняя русская драматургия, 1976, 456]. Олоферн немедленно приказывает привести эту светлую жену, т. е. Иудифь, на свое ложе. Царь Давид, завидев Ависану, берет ее за руку и просит выпустить «тверды мраз» из его сердца. Для этого она должна «взойти» с ним «на мяхчайшеи ложе» и во всем ему угодить. Царь обещает, что девство ее будет сохранено всецело. Иногда о любви говорится в резко отрицательных тонах, как например, в пьесе о Сарпиде: «Веси бо, яко з девицами страшно есть спати, / многия отого успеша пропасти. / Сей одр, аще кто к нему прилепится, / той всячески умом омрачится. Тая мяхкость сокрушат и вся кости, / и одежда нанесет ти презлешия злости. / Беги, Зимфоне, от сего яда готова» [Там же, 89]. Некоторые персоны проявляют страшную ревность и верят злым наветам. Как предполагает Царь в пьесе о преславных палестинских стран Царице, его супруга почивает «днесь с прелюбодеем».
Персоны не раз сосредоточиваются на половой идентификации. Когда Калеандр в рыцарском уборе Неонилды появляется в покоях Шпиналбы, она предлагает ей (ему) выйти замуж за ее брата Туркомана, но Калеандр открывает свой пол: «Как муж с мужем может в супружестве быти?» [Там же, 270]. Когда обезумевшая от любви к Калеандру Кризанта принимает за него Неонилду, то Неонилда также говорит ей, кто она такая. Традиционный прием неузнавания обогащается репликой и жестом. «Коли не вериш, смотри мои груди!» (Кажет ей груди)» [Там же, 262], – просит Неонилда. Про этот жест хорошо помнит Кризанта. В своих скитаниях она, рыдая, рассказывает, что та ей «оказала груди», чем весьма удивила. Аналогичная ситуация происходит у Неонилды с Харизой и, гневаясь на ее отца, царя Пранду, она заявляет: «Как то можно мне ей учинити, девка да у девки ж так брюхо добыти?» [Там же, 285]. Харизе приходится признаться, что брюхо ей «добыл» Партулиан. Сходный эпизод представлен в интермедии, в которой Муж пристает к Любовнику жены, переодетому кружевницей. Он хватает его (ее) и целует.
Интермедиальные персонажи не ограничиваются поцелуями и нежными признаниями и всегда мечтают о более рискованных любовных играх, и добиваются их: «Ныни мне ни в чем нет недостатка, кроме любезной моей женушки, с которою бы мне спать» [Ранняя русская драматургия, 1974, 372]; «Во мне многа есть притчины, / хотя б доступить и до девчины. / А что бабушка или молодушка, / то моя душка» [Ранняя русская драматургия, 1976, 119]. Веселые женки не отстают от любвеобильных Гаеров и Любителей. Оставшись одни, они немедленно посылают за любезным другом, желая с ним сердечно обняться. Встретившись, целуются, как в интермедии «Муж-купец, Жена, Старуха, Любитель, Гаер»: «Вижу твою любезную персону, / Как зрю такую у себя особу. <…> / Приступи ко мне, радость, да тебя облобызаю» [Там же, 634]. Садятся пить вино да пиво, танцуют. После недолгих танцев «любители» приглашают жен опочивать.
Монах, завидев Бабу, вообще отказывается плясать и сразу предлагает лечь. Все интермедиальные персонажи, только увидев приятную и любезную молодицу, обнимаются с ней и немедленно «ложатся». Гаер всегда готов «завалитца» с вдовой либо с молодицей и, как только представляется возможность, залезает к ней под одеяло. Будущая невеста Гаера в «Шутовской комедии» рассказывает, что, оставшись с ней наедине, он гладит ее по щекам, целует руки, хотя она его и отпихивает. Щупает пульс, заботясь о ее здоровье, на что отец, услышав об этом, укоряет скороспелую невесту: «Я чаю ты тоже разумеет, где пуле у него!» [Ранняя русская драматургия, 1974, 389].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.