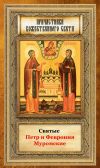Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 68 (всего у книги 72 страниц)
Как видим, Замятин не стремится создать прямую параллель между человеком и машиной. Для него машина – источник метафорических образов, с помощью которых описывается человек, неуклонно стремящийся к бездушной машине. Писатель каждый раз применяет к нему различные подходы. Нагромождение различных, сходных по функции механизмов, замещающих человека, должно усиливать ужас перед технизацией личности. Замятин не выверяет подробностей возможного перехода человека в мир машин. Он предпочитает иной путь.
Писатель использует прием, обезличивающий человека, – наделяет его «нумером», заменяющим имя. Чапек также снабдил номерами роботов, хотя некоторые из них имеют имена. Так Замятин указал на отсутствие индивидуальности в человеке, Чапек – на опасную внешнюю неразличимость совершенных механизмов. То, что Замятин лишил своих героев имени, есть знак их одинаковости. Они все похожи друг на друга, но не настолько, насколько роботы Чапека, которые вообще неразличимы. Создавшие их люди пугаются тому, что не в состоянии их идентифицировать. Также роботов можно сделать по чьему-то образу. Тогда на первый взгляд они вообще становятся обычными людьми. Одинаковость «нумеров» бросается в глаза, но все-таки у них есть явные физические различия, которые, например, Д-503 замечает постоянно. Роботы также – не совсем люди, что можно вычислить по их движениям и выражениям лиц.
И Чапек, и Замятин следят за процессом становления души своих героев. Только у Чапека ее обретают человекоподобные роботы, пережившие глубинные трансформации, а у Замятина – человек, на время вырвавшийся из тотального процесса машинизации. У тех и у других душа растет с любовью, которой они ранее не знали. Д-503 занимался сексом по расписанию. Lex sexualis подчинил всех жителей Единого Государства и лишил чувств. Но Д-503 посещает любовь, и вместе с ней к нему приходят страдание, страх, ревность, превращающие его в человека подлинного, но ненадолго. Но все же на какое-то время он становится им, причем не только внешним, но и внутренним, способным любить и страдать. Кстати, в момент первого поцелуя Д-503 ощущает себя уже не машиной, а самостоятельной планетой, несущейся по еще не вычисленной орбите, т. е. из мира машин на одно мгновение он вырывается в космос, в стихийный мир природы. Он пробудет там недолгое время и вернется в мир машин после того, как ему сделают операцию по удалению фантазии. Вот в чем, по Замятину, состоит главное отличие человека от машины. Теперь Д-503 перестает испытывать чувства, которые на время резко оторвали его от машинного мира. Он вновь подчиняется единому мерному ритму, объединяющему человека и машину.
У роботов изначально нет души, что тонко чувствует Нана, нянька Елены, называющая их язычниками и нехристями. Душа вызревает у них постепенно благодаря вмешательству человека, и рост ее начинается от противного. Сначала их в интересах производства научают чувствовать боль. Затем роботы получают новые физические свойства, порождающие чувство ненависти и агрессию, в результате чего они «перестают быть карикатурой на людей, а становятся скорее их явными и относительно полнокровными противниками» [Яноушек, 2000, 239]. Теперь это уже не машины, а существа более совершенные, чем люди. Роботы, предусмотрительно лишенные их создателями половой функции, проявляют способность любить. Пройдя через страдание, очищающее зародыш их души, они познают это чувство. Вместе с любовью приходит ранее неведомый страх смерти, готовность отдать жизнь за другого. Диапазон их чувств стремительно расширяется. Они смеются и проливают слезы, и последний человек на земле, Алквист, воспринимает эти проявления как возвращение на землю истинных людей, как знак будущего возрождения планеты.
Героям Замятина не удается вырваться из машинного мира. Они остаются в его пределах. Так происходит окончательное снятие оппозиции человек / машина, не получающее при этом овнешнения. Жители Единого Государства пытаются восстать против машин, но терпят поражение. У Чапека восстание начинают роботы, ненавидящие людей, и люди выступают против них, так как роботы захватывают их право на труд, лишают людей работы и, наконец, осуществляют свою тотальную власть над ними. Оппозиция человек / машина затем снимается, потому что роботы приобретают человеческие характеристики.
Люди в пьесе Чапека погибают в созданном ими искусственном мире, не сливаясь с машиной, подобно Д-503, но рывок за его пределы в пьесе все-таки совершается, но только не людьми, а роботами. Заданное овнешнение оппозиции человек / машина оказывается исходной точкой развития новых людей. Очеловечивание роботов сначала оборачивается всемирной катастрофой, но затем дает надежду на повторное развитие человечества, ведущее свое начало от преображенных роботов – Прима и Елены.
Через имена, которыми их называет Алквист, они соотносятся с прародителями – Адамом и Евой. Д-503 также однажды назван Адамом, а его возлюбленная – Евой. Обращался к этому ветхозаветному мотиву и М. А. Булгаков в пьесе «Адам и Ева» [Никольский, 2003, 394]. Венгерский писатель И. Мадач в своей «Трагедии человека» также дает своему герою имя первого человека [Куренная, 2002, 86]. Этот финальный эпизод перекликается с началом пьесы Чапека. Там тоже идет речь о сотворении, но не человека, а робота.
Домин рассказывает Елене об открытиях старого Россума, и в его монолог отнюдь не случайно вторгается упоминание о древе жизни, от которого «пойдут все животные, начиная какой-нибудь туфелькой и кончая… кончая самим человеком» [Чапек, 1958, 101]. Богоборческая идея этого замысла в некоторой степени осознается повествователем, правда, утверждающим, что Бог пошел бы по их пути, но он просто не имел представления о современной технике. Повторить же акт творения человек не в состоянии. Созданные человеком подобные ему машины, но лишенные души, мстят за содеянное.
Чапек отнюдь не рассматривает эту ситуацию как проявление гнева Божия, но все же не раз отмечает полную отчужденность роботов от Господа, поручив эту тему старой няньке Елены. Она прямо называет производство роботов кощунством и оскорблением божественных сил. Вторичное сотворение человека происходит без вмешательства Бога и человека – Прим и Елена через любовь обретают человеческую сущность, и потому Алквист называет это событие праздником дня шестого, подтверждая свои слова распространенной цитатой из Книги Бытия [1. 26–28. 31].
Роман «Мы» также содержит эпизод, соотносимый с актом творения человека от противного. Он снижен до хирургической операции, превращающей человека в робота. У Замятина, в отличие от Чапека, отсутствуют носители христианского сознания, но все же о Боге, давшем человечеству мучительные искания, вспоминает Д-503. Он же отрицает божественное начало в человеке и существование Господа: «Наши боги – здесь, с нами – в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали как мы: эрго – мы стали, как боги» [Замятин, 1989, 246].
Преображая роботов в людей, Чапек вторит библейскому эпизоду сотворения человека и потому обращается к соответствующему локусу. Он совершенно не случайно помещает свой R.U.R. на остров, где производство достигает такого совершенства, что люди начинают думать, что они уже пребывают в раю. Рай этот не дает им вечного покоя. Зато они уподобляются первой паре людей, не знающих первородного греха. Один из персонажей пьесы так объясняет полное отсутствие рождаемости на земле: «Потому что это ненужно. Ведь мы в раю, понимаете?» [Чапек, 1958, 132]. Этот рай он потом проклинает, понимая, что создать его здесь и сейчас невозможно. Также герои пьесы прозревают рай в будущем – так активизируется миф о вечном возвращении. У Замятина рай уже существует. Это Единое Государство.
Сакральный локус в обоих произведениях вызывает к жизни оппозицию натура / культура, противопоставленную оппозиции человек / машина, что было прекрасно понято современниками писателей. Г. К. Честертон, по наблюдениям О. М. Малевича, вообще воспринял смысл пьесы Чапека как призыв вернуться к природе. Он действительно звучит в пьесе, и не раз. Сначала окруженные вооруженными роботами люди мечтают создать крошечную образцовую колонию, построить дома и вести скромную пастушескую жизнь. Эта идиллия не состоится. Ее способны реализовать лишь влюбленные роботы. Это они с восторгом наблюдают за восходом солнца и прислушиваются к пению птиц. Они удивляются миру природы, как и Д-503 у Замятина, впервые попавший за Зеленую Стену и видевший ранее цветы только в Ботаническом Музее. Женщина в паре роботов точно так же, как в романе «Мы», находит заброшенный дом в саду, куда и зовет возлюбленного. Этот дом явно соотносится с Древним Домом, дающим приют влюбленным – Д-503 и 1-330.
Замятину, вероятно, ближе не начало, а конец истории. Его роман, как уже говорилось в IV главе книги, пронизан апокалиптическими мотивами. Чапек также вводит их в пьесу. Борьба роботов с людьми воспринимается некоторыми героями как конец света, как Страшный суд. Люди попадают во тьму, и кровь течет повсюду.
Пьеса Чапека и роман Замятина имеют много общего, так как оба автора не обличали действительность, не выражали страх перед историей, ограничиваясь общими рассуждениями или привычными образами. Они нашли путь к мифу, оба избрали тот его вариант, который противопоставляет человека не-человеку, и этот не-человек у них одинаков. Это машина. Этим их произведения объединены между собой и отличаются от других, посвященных технической идее. Оба автора мифологизировали образ машины и поставили в ряд с опасными персонажами, стерегущими человека на границах его пространства. И Чапек, и Замятин верны памяти жанра, так как оба работают в рамках утопии, для которой всегда характерна регламентированность, приводящая в конце концов к подчинению человека тоталитаризму.
И пьеса, и роман целостны не только как художественные произведения. Они являют целостность другого плана – оба писателя сконструировали систему отношений человека и общества, человека и машины. Они возвратились к архетипам сознания, активизируя оппозицию человек / не-человек. Эти соответствия знаменуют общность того культурного пространства, в котором они находились. Отвечают их произведения и запросам времени – двадцатым годам XX в… Это обеспечило им глубинное сходство, несмотря на значительные формальные различия.
Таким образом, Замятин и Чапек пришли к сходному решению не только потому, что работали в одном времени. Они находились в одном круге культуры. Не будучи знакомы с творчеством друг друга, они не просто обратились к одной из важнейших для их времени концепции – технической, но сумели «пропустить» ее через мифопоэтические представления об опасном, сформулированные в оппозиции человек / не-человек. Они не стали воспевать технику и противопоставлять ее человеку как совершенное несовершенному. Они оба увидели в технизации общества большую опасность и, чтобы представить ее во всей полноте, каждый по-своему разработал устойчивую семантическую оппозицию, заложенную в памяти культуры, которая в их время еще не лежала на поверхности. Они извлекли ее и обновили, не лишив изначально присущих ей значений.
Ранее человека окружали многочисленные опасные персонажи. Они образовывали некий круг, войти в который для человека всегда было губительно. Теперь к этому кругу присоединились машины, фантастические технические новинки и изобретения. Они, по мысли обоих авторов, не только не способствуют прогрессу и процветанию, но лишают человека главного – духовного начала. Схождения пьесы Чапека и романа Замятина, появившихся в один и тот же год, следовательно, обеспечиваются обращением к глубинным пластам культуры.
* * *
Многочисленные переклички между литературными произведениями, как мы показали, проявляются на всех уровнях художественного текста. Возможны они и на уровне жанра, который содержит в себе информацию о структуре произведения, определяет взаимную зависимость между темой, сюжетом и стилем. Своей устойчивостью обеспечивает преемственность в культуре, так как всегда помнит о прошлом и о своих началах. Жанр повторяется и воспроизводится, но, естественно, не вплоть до мелких деталей. Он всегда сохраняет свой смысловой ареал. «Жанровая форма не всегда равна себе, она колеблется: жанры могут и не иметь четких очертаний, модели жанров не всегда устойчивы и могут распадаться» [Сазонова, 2003, 170].
Одни жанры живут в культуре долгое время, другие исчезают, оставаясь показателем одной определенной эпохи. Конечно, исчезновение это никогда не бывает окончательным. Жанр может быть извлечен из памяти культуры, переработан. При этом он обязательно сохраняет свои основные признаки. Переживая подобные операции, жанр почти что обязательно меняет место, ранее отведенное ему в пространстве. Появляясь через продолжительное время вновь, он уже не входит, например, в центр нового для него пространства, а перемещается на периферию. Для него всегда характерно движение в пространстве культуры. «Жанры принадлежат к довольно подвижной части категорий поэтики, и нормальным состоянием средневекового жанра следует признать его известную неопределенность, расплывчатость, текучесть и в связи с этим определенное жанровое своеобразие» [Там же]. Эти жанровые черты проявляются и в последующих эпохах, что бывает довольно часто.
Silva rerum Юлиана Тувима
Возможно, что воспроизводится не только уже основательно забытый жанр, но и некоторые жанровые образования, которые можно определить как циклы или как собрания наиболее значимых или просто популярных текстов своего времени.
Сделаем небольшое отступление. Б. И. Ярхо, пользуясь телесным кодом, классифицировал произведения и их циклы по признаку целостности. Он исходил из того, что их границы бывают неопределенными, и проницательно заметил, что существуют «аморфные агрегаты», т. е. альманахи, сборники, и «изоморфные агрегаты», «объединенные общим характером всей формы, но так, что каждое из произведений вполне понятно вне целого» [Ярхо, 2002, 70]. Подобные «агрегаты» существуют в разные эпохи. Они связываются единой темой, т. е. проявляют изоморфность. Объединяет их прагматическая функция. Например, все произведения, входящие в такое образование, характеризуются рекреативной функцией. Она может быть не единственной, так как легко дополняется другими, например, познавательной или дидактической.
То же самое можно сказать о «садах» (hortus) и «лесах» (silva), ведущих начало еще из средних веков, популярных в эпоху барокко в Польше, а затем известных и в России. Польские «сады» и «леса» можно причислить к «домашней» литературе. Они, в основном, собирались, хранились и дописывались членами одной семьи. Могли они принадлежать и одному автору, что более характерно для России. Таким «садом», как справедливо указывает Л. И. Сазонова, был «Сад божественных песен» Григория Сковороды, и, конечно, «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого – единый в духовном плане [Simeon Polockij, 1996].
Подобного рода образования скрепляет рамочная конструкция, объявленная в его заглавии: «Сад, или цветы стихов», «Сад фрашек», «Поэтический цветник». Как сад может вбирать в себя новые растения, так «сад стихов» может дополняться новыми произведениями. «Сад» имеет явно выраженную структуру. Уже в названии он метафорически предполагает оформленность – в саду не может произрастать что и где попало; отгороженность – сад всегда «окаймлен» оградой; и, следовательно, закрытость – туда нет доступа всем и всякому. Кроме того, «сад» подразумевает возделывание, выращивание – в саду не может быть диких растений, а растения культурные подлежат тщательному уходу.
Следовательно, в таком жанровом образовании, как «сад», просматривается единство. «Сады», по мысли Л. И. Сазоновой, строились так же правильно, как регулярный сад эпохи, в которую они существовали [Свирида, 1994]. Они были формой, вбиравшей в себя самые различные тексты, но между ними обязательно протягивались нити, связывавшие их. Например, «книги-сады складывались также из стихов, объединенных тематической близостью» [Сазонова, 1991, 175]. Но в то же время каждое из произведений, входивших в это достаточно свободное образование, могло из него извлекаться и существовать самостоятельно.
Кроме «садов», как мы уже сказали, существовали также «леса» (silvae rerum). Их название указывает на гораздо большую свободу по сравнению с «садами». Заметим, что подобные собрания назывались также olla potrida, что указывает на возможность невероятного смешения всего со всем. В «лесу» не произрастают культурные растения. Он не отгорожен от остального пространства. В этот «лес» может зайти всякий. «Silva rerum» разрешал неожиданные столкновения высокого и низкого, бытового и духовного, серьезного и комического. Здесь встречались самые различные жанры или их фрагменты. «Лес» вмещал в себя самые разные сведения о повседневном мире, исторические анекдоты, поэтические произведения. В него входили панегирические стихотворения, фрашки, фацеции, т. е. жанры, бытовавшие в повседневной литературной культуре. В них также записывалось все то, что создатель такого собрания считал интересным и важным для себя.
Он и был главным его адресатом. Рассчитывал он также на интерес со стороны семьи, друзей, но не более того. Интерес этот явно проявлялся, так как некоторые silvae rerum переписывались и активно при этом дополнялись. «Лес вещей» был продолжающимся жанровым образованием, всегда мог быть дополнен и не сдерживался тематическим единством, хотя попытки его тематической организации все же существовали [Zachara, 1985]. Следовательно, между «лесом» и «садом» существовали некие соответствия.
«Леса», в отличие от «садов», авторы которых были нацелены на создание эстетических ценностей, прежде всего были занимательны. Их также можно рассматривать как своеобразную школу поэзии, так как многие читатели, обучавшиеся в школах, научались, как они полагали, поэтическому искусству. Подлинные поэты сокрушались по поводу порчи языка авторами подобных творений: «Jeszcze nie umie u kozy zawiązać i chwostu, / A już słowom ogony związuje, / Na rzeczy nie znając, jak sroka koło płotu skruszy» – «Еще у козы хвост завязать не может, а словам хвосты уже завязывает, ничего не зная, он, как сорока, стрекочет на заборе», – писал Б. Зиморовиц.
Занимательность в то время сосуществовала с дидактическим началом, от которого «леса», в отличие от «садов», были практически свободны. Они были рассчитаны на человека любознательного, тянущегося к знаниям, но не верифицирующего их. Он просто желал быть пораженным чем-то необычным. Эпоха, породившая «леса», отдавала предпочтение курьезам. Их можно обнаружить не только среди вещей, которыми так было увлечено уже высокое искусство маньеризма, но и в слове. Как пишет А. М. Панченко, «раритеты стихотворных сборников Симеона Полоцкого и курьезы петровской Кунсткамеры – это явления из одной области» [Панченко, 1977, 105]. Читатели «лесов» доверчиво впитывали в себя самые недостоверные сведения, восхищались творчеством доморощенных сочинителей наряду с подлинно поэтическими произведениями.
Появление «лесов» и «садов» Л. И. Сазонова замечательным образом связывает с тем, что в эпоху барокко «жанровые формы разбухают, назревают, готовятся к перестройке. Возникают суперформы: художественные произведения стремятся стать энциклопедическими сводами исторического и морально-поэтического знания» [Сазонова, 1991, 175]. Этот процесс автор прослеживает во многих своих работах. В одной из последней она показывает, как зарождаются «объединяющие жанры» «сложного состава на основе входящих в них более мелких жанров – „первичных“» [Сазонова, 2003, 159].
«Сады» и «леса» ушли вместе с эпохой, но по прошествии времени подобные собрания стали не только объектом филологических исследований, но и неоценимыми источниками для реконструкции литературной культуры, как и близкие к ним по композиции старинные энциклопедии. Они, кроме того, сохраняются в памяти культуры и проявляют способность к своеобразному возрождению, несмотря на то, что уже давно вышли из круга значимых и популярных произведений.
Очутившись в новом культурном контексте, они налаживают связи между эпохами, естественно, набирая новое звучание. Очень часто создателя таких обновленных циклов ведет не только интуиция или ученость, но и подлинный интерес к истории культуры во многих ее аспектах. К устаревшим жанрам обращаются отнюдь не только в целях подражательства, пародирования или цитирования. «Лес» оживает потому, что автора ведет функция жанрового образования. Как пишет Л. И. Сазонова относительно литературных жанров средневековой Руси, «в вертикально организованном корпусе генезис текста и его форма обусловлены функцией, которую данный текст призван был выполнить, а эта функция отражала в свою очередь потребности и иерархию одной или более социокультурных систем» [Там же, 162]. Наблюдения исследователя можно распространить и на старопольскую литературу.
Примечательно, что сам Мицкевич не упустил из виду эти старинные жанровые образования. Его интересовали также различные виды мемуарной литературы, и он сожалел о том, что историки проходят мимо замечательных произведений, которые из поколения в поколение читала мелкая шляхта, переписывала и хранила, хотя они довольно редко входили в большие книжные собрания. Этой характеристики достаточно для того, чтобы объяснить, почему Юлиан Тувим обратился к циклическому «лесу».
Он прекрасно знал старопольскую литературу и культуру в целом, интересовался и просвещенным XVIII веком, и романтическим XIX. Особенно привлекала его литература прежних времен, притом вовсе не первого ряда. Тувим с большим интересом относился к энциклопедиям, «садам» и «лесам», явно осознавая их открытость и свободу. Для него было очевидно, что их прагматическая функция, а не эстетические достоинства, прежде всего стоит на первом плане. Он относился к ним как к своду знаний, притом самых невероятных, как к демонстрации владения пером, отнюдь не всегда удачного, зато столь популярного в прежние времена.
Отношение Тувима к подобным собраниям не было пассивным, он реализовал его в своем творчестве. Тувим создал собственное энциклопедическое собрание. Его основой стали не только старинные словесные раритеты, но и современные или недалеко отстоящие от него по времени. Он собрал их воедино и, пародируя старинное жанровое образование, назвал свое собрание «Cycer cum caule, czyli groch z kapustą. Panopticum i archiwum kultury» – «Cycer cum caule, или горох с капустой. Паноптикум и архив культуры». Обратим внимание на то, что 3. Красиньский в письме Ю. Словацкому, описывая время действия «Балладины», назвал его хаотическим, а также «социальным горохом с капустой, такой мешаниной еще непереваренного христианства и язычества, уходящего с поверхности земли» (цит. по: [Мочалова, Стахеев, 2002, 194]).
Итак, «прообразом» собрания Тувима является «silva rerum». Кроме того, Тувим обожал старопольские энциклопедии и прекрасно знал многие из них, как, например, энциклопедию Б. Хмелевского, которого с иронией именовал «нашим архиученым энциклопедистом». Энциклопедические сведения также нашли свое место в его «лесе вещей».
Тувима в его работе вела отнюдь не любознательность или пытливость старинного читателя. Он представлял собрание фактов «теневой» линии культуры. Он совершенно не собирался вводить их в научный оборот. Тувим нашел для них иной угол зрения, благодаря которому они превратились в курьезы – литературные или историко-культурные. Этот угол зрения трудно назвать одним словом. Тувим, с одной стороны, смеется над многочисленными проявлениями невежества, подобно просветителю. С другой – высоко ценит проявления низовой и срединной культуры. Они не только смешат современного читателя, но и позволяют проникнуть порой в суть культурных процессов прежних времен, которые происходят не только на высоком уровне культуры. Для писателя совершенно ясно, как выглядело «опускание» высоких образцов, порождающее графоманию. Он явно умеет вычитывать из самых разных нелепостей очень важную историко-культурную информацию. Вдобавок ирония освещает все собранные им факты. Видимо, его собрание можно считать внутрилитературной пародией.
Итак, Тувим продолжил старинную традицию, как бы следуя за многочисленными собирателями курьезов, но одновременно он подверг эти курьезы анализу, отнюдь не развернутому. Ему хватает иногда двух-трех слов, чтобы они заняли должное место в истории польской повседневности.
Писатель сохранил композицию старинного «леса вещей», но «разорвал» его на части, печатая отдельные эпизоды своего труда в журнале «Problemy». Тем самым он явно продемонстрировал открытость интересующего его жанрового образования. Только после смерти автора его «лес» был издан целиком и приобрел законченную форму. Видимо, не случайно в одном воображаемом ответе редакции, создавать которые Тувим был великий мастер, он упомянул «лес вещей», естественно, не в историко-литературном ключе: «Nie, proszę pani, stanowczo nie! Silva Rerum nie była królową bułgarską. Niesłusznie jest również przypuszczenie pani, że Włoch napisał operę „Carmen“» [Tuwim, 1958, 167] – «Нет, прошу Вас, решительно нет! Сильва Рерум не была королевой болгарской. Неверно также Ваше предположение о том, что некий итальянец написал оперу „Кармен“». В этом пародийном высказывании выступает свойственное Тувиму стремление сделать языковую игру важнейшим литературным приемом.
Писателя интересовала не только языковая игра, о которой мы скажем позже, но и курьез как таковой, не только литературный. Конечно, он с жестокой радостью ценителя поэзии, перепечатывал в своем, длящемся во времени сборнике несуразные вирши. Но он также выискивал загадочные объявления в провинциальных газетах, обращал внимание на «чудные» научные открытия, обещающие человечеству полное благоденствие. В результате кропотливой работы с памятниками старины, а также исследований литературной культуры более позднего времени, как и разнородных проявлений ментальности общества, зафиксированных в слове, Тувим создал «лес вещей» XX в.
Он выдержал правила составления сборника («леса вещей»), создав на него внутреннюю пародию, в которой очень четко вырисовывается образ не только доверчивого, но и необразованного читателя. Его он имеет в виду постоянно, вызывая на споры и имитируя его поведение. Например, он пишет от имени такого читателя самые невероятные послания в редакцию. Также сборище незадачливых авторов предстает в сочинении Тувима. Авторов, не способных увидеть мир в его реальных связях и отношениях, не знающих, как взяться за перо, но тем не менее сочиняющих.
Представляя пестрое собрание самых неожиданных заметок, Журнальных статей, неуклюжих поэм, откликов читателей, писатель объединяет их своим отношением к ним. Если Тувим пародировал silva rerum, вторя его прихотливой и свободной композиции, то единство своей энциклопедии он создает благодаря приданию ему единого модуса – он вводит «лес вещей» в смеховую зону культуры. Осмеянию здесь подлежит все: и само жанровое образование, и читатель, и автор.
Пример, приведенный выше, который Тувим сам и сочинил, – свидетельство этому. Он доказывает, что писатель переводит весь собранный им разнородный ученый и литературный материал в план комического и сам сочиняет в том же духе. Конечно, Тувим не просто развлекает собранными им курьезами читателя, но и стремится сохранить ту часть наследия прежних времен, которую можно назвать маргинальной, или периферийной. Его собрание вбирает в себя явления срединной и низовой культуры. Писатель прекрасно понимает, что она, со всеми ее мелочами и нелепостями, будучи содержанием повседневной жизни человека, так же важна, как и высокое культурное наследие, и потому хочет донести ее, выявляя в ней приметы абсурда и одновременно любуясь прелестным простодушием безвозвратно ушедшего прошлого.
Известно, что и те достижения человечества, которые станут затем всеобщим достоянием (рентген, телевидение), ранее вызывали недоверие и стояли в культурном сознании общества в одном ряду с невероятными вымыслами и нелепыми изобретениями. Отношение к ним Тувим выдвигает на первый план, предлагая современному читателю самому прочитать реляции о достижениях науки и техники. Он выписывает из «Энциклопедии для детей» (1891 г.) сообщения о бензине, который, главным образом, служит для выведения пятен. Так наука становится мерилом уровня культуры, который можно представить по популярным журналам разного времени. Псевдонаучные попытки заново описать мир также заслуживают внимания писателя и кропотливого собирателя. Авторов, работающих в этой «области», он именует «космогонио-маньяками». Писатель XVIII в., И. Красицкий, называл таких ученых «шарлатанами мудрости».
Тувим не проходит мимо «синтеза» науки и искусства, зарифмованных научных текстов. В средние века подобные стихотворные формы, не имеющие никакого эстетического значения, выполняли чисто мнемо-техническую функцию. Считалось, что научные истины легче запомнить в стихах, к качеству которых не следует придираться. Эти архаические способы внедрения знания появлялись и гораздо позднее, в XIX в., как медицинские рекомендации типа: «Częste mycie nóg, rąk, twarzy / Zdrowiem i humorem darzy» [Tuwim, 1958, 63] – «Здоровье и настроение дарит нам частое мытье рук, ног и лица». Не менее интересны в «поэтическом» отношении юридические справочники, как «Nowa ustna procedura sądowa». Тувим приводит мазурку со словами, роль которых выполняют химические формулы, утверждая, что она была напечатана в собрании песен «Echo polskie». Естественно, что такую чудесную вещь он смастерил скорее всего сам.
Конечно, и самые разнородные сведения о повседневной жизни прошлого преподносит Тувим читателю. Из его собрания мы узнаем о правилах этикета и невероятных способах их нарушения, о средствах от всевозможных болезней. Например, в конце XIX в. некоему доктору чудодейственным образом удалось спасти одну даму от головной боли, надев ей кастрюлю на голову. Мы читаем о сарматских пирах и охоте, о варшавских кофейнях – этом втором доме литераторов. Некоторые посещали их по нескольку раз в день и потому считали, что в конечном счете пальто обходится им дешевле, чем чаевые швейцару. Так в собрании вырисовывается стиль эпох, притом самых разных. Между сарматскими пирами и варшавскими кофейнями – огромный разрыв, но и те, и другие введены в сочинение Тувима, так как демонстрируют самые различные способы проведения свободного времени. Из его собрания, как видим, можно почерпнуть многое и о научных суевериях.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.