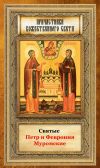Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 72 страниц)
Теперь кратко остановимся на одном ораторском жанре, развивающемся в пределах сакрального круга культуры на Украине. Имеются в виду проповеди, явно вбиравшие в себя театральное начало. Их чтение на новый манер, пришедший из Польши, требовало поистине актерского искусства. Проповеди обогащались не только интонацией, но мимикой и жестикуляцией, что сурово осуждалось в православном мире, а также вызывало возражения и в католической среде. Против актерствующих проповедников не раз выступали в Польше. Католическая церковь порой тяготилась излишней театральностью, которую позволяли себе проповедники. Их не раз укоряли за чрезмерную аффектацию и театральные жесты. Но в целом отношение к театральности у католиков было, конечно, иное, чем у православных. Уже с давних пор святую мессу они приравнивали к трагедии, священника – к трагическому герою, а сам храм – к театру [Modzelewski, 1964, 5]. Следовательно, проповеди, по сути дела, могли иметь театральный характер.
Иоанн Вишенский, суровый ревнитель благочестия, так говорил о проповедниках, влекущих свою паству к благочестию нечестивыми путями: «Латинских басней ученицы, зовомые кознодеи, трудитися в церкви не хочут, токмо комедии строяти играют» (цит. по: [Иваньо, 1981, 54]). Он же уверял, что католический Рим опирается не на Священное Писание, а на разум, ищущий оправдания «во тме поганских наук» и в «комедийном и машкарском набоженстве». Такое отношение к подобному характеру общения с паствой сохранилось и гораздо позднее. В XIX в. строгому киевскому обличителю вторил Гоголь: «Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, все бы подвигнулось…» [Гоголь, 1994, 34].
Пример проповедей важен не только сам по себе. Он показывает, что театральность постоянно искала путей для проникновения в мир сакрального. Деятели православной культуры, конечно, ощущали явное присутствие театрального начала в церкви и так оправдывались перед возможными наветами католиков: «Если же они (католики. – Л. С.) будут укорять нас за пещь отроков, то нисколько не поразят нас, потому что мы не зажигаем пещи, а уподобляем восковые свечи с огнем и возносим по обычаю фимиам Богу и изображаем ангела, но не посылаем человека» (цит. по: [Всеволодский, 1929, 244]). Имеется в виду то обстоятельство, что в пещь, где томились отроки, спускали изображение ангела.
Церковь с давних пор относилась к театру отрицательно. Его связывали с антимиром, помещали на границе, разделяющей «тот» и этот мир. Занятый игрой, представляя кого-то, человек не просто забавляется. Он вступает в смеховой мир, четко отделенный от серьезного, как нечистый от чистого. Тертуллиан прямо писал о том, что «мы знаем, что имена и изваяния умерших – ничто, но знаем и то, что под личиной статуй скрываются нечистые и злые духи. Следовательно, театральные действа посвящены тем, которые прикрывали себя именем их изобретателей; а потому и составляют идолопоклонство, ибо учредители их считаются богами» (цит. по: [Любимов, 1998, 29]).
Игровые элементы, как и игра в целом, прямо ассоциировались с адскими силами, что сказалось в религиозной дидактической литературе, резко противопоставлявшей храм театру – этой школе порока и блуда. Тот же Тертуллиан называл театр храмом Венеры. Его резкие осуждения не были забыты. Продолжая давние традиции, один испанский епископ XVII в. уверял, что комедий следует остерегаться, как адского пламени [Силюнас, 1998, 36]. Церковные соборы запрещали священникам присутствовать на зрелищах, «позорищных представлениях на браках или пиршествах» (цит. по: [Любимов, 1998, 11]). Детям священников ставили на вид участие в них: «Детям священников не представляти мирских позорищ и не зрети оных. Сие же и всем Христианам всегда проповедуемо было, да не входят туда, где бывают хуления» [Там же, 10].
Составлялись правила, по которым не следовало показывать позорищные игры в воскресные дни и тем более во время великих праздников. Они с течением времени становились все более строгими: «Никому из числящихся в священном чине, ни монаху, не позволяется ходити на конские ристалища, или присутствовати на позорищных играх. <…> Никто из мирян и клириков впредь да не предастся предосудительной игре. <…> Святый Вселенский Собор сей совершенно возбраняет быти смехотворцем, и их зрелищам, такожде и зрелища звериные творити и плясания по позорищи» [Там же, 11]. Обратим внимание на знак равенства, поставленный между конскими ристалищами и театром. Иоанн Златоуст к ним добавлял еще игру в кости. Подобное отношение к театру длилось долгое время. Его объясняли тем, что «профессиональное актерство опасно <…> легким усвоением многочисленных личин, за которыми собственное „я“ („образ и подобие“) растворяется в многочисленных личинах» [Там же, 13].
Если даже отношение к игре было более спокойным, все равно ее тайная связь с антимиром осознавалась. Одно из поучений Симеона Полоцкого называлось: «О еже <…> не пети бесовских песней и не творити игр» [Афанасьев, 1983, 96–99]. Даже Григорий Сковорода в последние десятилетия XVIII в. оживил противопоставление церкви и театра, сказав, что «инако» поют в костеле, а «инако» – в маскараде. Помнили об этом противопоставлении и на рубеже XIX–XX вв. Иоанн Кронштадтский, упрекавший театр в язычестве и идолопоклонстве, утверждал, что «все небесное, святое, носящее печать христианства, чуждо театру <…>. Театр – противник христианской жизни; он – порождение духа мира сего, а не Духа Божия. <…> Иные даже сравнивают Литургию со сценой в театре! Бесконечная разница той и другой как между небом и землей. Литургия есть вполне небесное служение на земле, а театр – произведение чисто земное, проникнутое всевозможными земными страстями…» (цит. по: [Любимов, 1998, 15]).
Эти противопоставления можно описать в терминах обряда и игры. Литургия обрядова по своей сути и генезису, и, как всякая обрядовая форма, рассчитана на визуальное восприятие. В ней высокие смыслы сливаются со зрелищным началом, которому церковная служба обязана своим происхождением. В ней есть не только явные зрелищные элементы, но и пластика, ритм движения.
Если рассматривать литургию в светском аспекте, то в ней можно обнаружить особую организацию пространства: «Разве не напоминает, например, самое устройство православного храма конструкцию древнегреческой сцены? И там и здесь – декоративная стена (греч. скене) с тремя выходами (иконостас)» [Белецкий, 1923, 41]. Присутствуют в литургии диалогические отношения священника с паствой, а также священника и хора. Есть в ней музыкальное начало. «В церковном обиходе одни молитвы произносятся священнослужителями в первом лице множественного числа (например, в ектений), а другие поются „ликом“ (т. е. хором) или „людьми“, т. е. самими молящимися в храме» [Всеволодский-Гернгросс, 1988, 114]. Знаменательно, что граница между мирянами и священниками иногда нарушается, так как миряне участвуют в совершении некоторых обрядов – таких, как крестный ход.
Несмотря на это явное движение в сторону театральности, восприятие службы подчиняется символическому прочтению. В ней беспрестанно взаимодействуют символические значения действий и жестов, слова и вещи. Вот как об этом писал Гоголь: «Собранье молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных служителей Церкви, как бы на самого Спасителя, исходящего в первый раз на дело Божественной проповеди» [Гоголь, 1994, 342]. Следовательно, зрелищное начало службы отступает на второй план, хотя церковь не уставала «отображать истины веры; жизни Христа и событий священной истории в своих обрядах, храмах, в мельчайших бесконечно умноженных мелочах культа» [Карсавин, 1992, 58].
Сакральная культура того времени была, по выражению А. Ф. Лосева, идеальной стихией символа. В каждом феномене вещного мира и истории она находила символы-знаки Божественного Промысла, чтобы затем истолковывать их и отображать также с помощью символов. Следуя символической направленности, человек, находясь в церкви, проникал в суть вещей и в символическом плане воспринимал зримое. Элементы зрелищности, хотя и развиты в литургии, не главенствуют в ней. Потому театральность так никогда и не состоялась в церкви – ни в православной, ни в католической, хотя у католиков зрелищность явно стремилась перерасти в театральность. Здесь обрядовость и театральность смешивались. Но и у католиков, и у православных главенствовал обряд, и литургия никогда не была инсценизацией.
Театральность и обрядовость находились в разных сферах культуры – в светской и в сакральной. В сакральном пространстве храма ничто и никогда не представляется, но обозначается и символизируется. Здесь нет перевоплощения, но есть прообразование, которое происходит с помощью жеста, движения, слова. Здесь эстетическое полностью подчиняется религиозным значениям. В православной церкви зрелищность как бы застыла на начальной стадии, церковь сдерживала ее преднамеренно. Зрелищности «чуждалось строгое византийское воззрение нашего духовенства. XVII век всего менее благоприятствовал развитию храмовой драмы» [Тихонравов, 1861, 20]. Но все-таки в церкви существовал особый способ воспоминания евангельских событий, который породил некие «сгустки» зрелищности и стимулировал ее накопление.
Имеется в виду литургический театр, обязанный своим появлением тропам Пасхальной и Рождественской служб и существовавший в католических храмах с XI в. Тропы развернулись в минимальные драматические эпизоды. Они оттолкнулись от обряда, противореча ему и одновременно подпитываясь им, став его «театральным продолжением». «Как только заканчивалось собственно богослужение, начиналась игра. С ее началом часть алтаря обретала функции Гроба Господня, у которого развивалось дальнейшее действие; таким образом, в воображении верующих происходила смена пространственного „кода“» [Колязин, 2002, 10]. Священники участвовали в действии. Они облачались в иные одежды, замещали не только мужских, но и женских персонажей священной истории. Миряне, находившиеся в храме на время исполнения литургической драмы, становились публикой. Так функция обряда оказывалась поддержанной мощным зарядом зрелищности. «Истина разыгрываемой в этом театре драмы будет так велика, что она уничтожит принципиальную ложь подражания» [Андреев, 1989, 15].
В литургической драме театральное начало не высвободилось окончательно. Но она приняла в себя слово, обогатилась элементами игры. В ней наметилось художественное пространство, противопоставление зрителей и участников представления. Этот театр, существовавший еще в пределах храма, носил ярко выраженный символико-аллегорический характер, и символ здесь был дан вещественно, конкретно, осязаемо. Литургические драмы были синтезом обряда и театра. «Опыт литургических богослужений и пасхальных игр (добавим, и рождественских. – Л. С.) приучал его (зрителя. – Л. С.) считывать одновременно целое многообразие смыслов: речевого, музыкального, театрально-зрелищного, символически-ритуального, религиозно-символического и давать им свою эмоциональную интерпретацию, конечно, в каждом случае более или менее индивидуально развитую» [Колязин, 2002, 14]. Постепенно литургический театр был вытеснен на городскую площадь.
Наряду с ним значительное место в религиозной католической культуре занимали паратеатральные действия, процессии, в которых М. Модзелевский замечает тенденцию к динамическому развитию зрелищности и театральности, как и в католической службе. Весь свой анализ паратеатральных церковных процессий этот исследователь ведет в театральных терминах. Например, сравнивает пальмовые процессии с оперой («Пальмовая процессия XV века в определенных моментах принимает формы оперного представления»). Врата храма приравнивает занавесу («Мы имеем здесь еще примитивный прототип занавеса, который до сих пор не был известен пальмовой процессии»). Одеяния священников описывает как сценические костюмы («Костюм здесь – важный элемент обряда, способствующий театральному воплощению креста, являющегося объектом поклонения»). Пространство, в котором происходит процессия, сравнивает со сценой.
В православной церкви театральным началом, пусть достаточно скупым, характеризовались такие моменты, как вынос плащаницы, неделя Ваий, шествие на осляти, крестный ход, обряд омовения ног, пещное действо. Они не касались Рождества и Пасхи, на которых держался католический литургический театр. Приближение к театральности при выносе плащаницы или в обряде омовения ног будто намечали путь к архаическому действу типа литургической драмы, но никогда не достигали ее.
Почти приблизилось к нему только пещное действо с его развитым художественным пространством, намеками на сценический костюм, аксессуарами. Для его представления в церкви ставили пещь, «древяну, решетчату», рядом с ней шандалы. Халдеев одевали в «юпы красного сукна, шеломы». В руки им давали пальмовые ветви (плаун-трава). Халдеи вели диалог с отроками. Все участники действа активно двигались, а также нечто изображали: например, разводили в пещи воображаемый огонь. За счет халдеев пещное действо вырвалось на улицы, стало зрелищем, «шагнувшим в уличное празднество» [Понырко, 1984, 160]. Затем оно было переложено на язык театра Симеоном Полоцким.
В этих зрелищных эпизодах не изображались евангельские события, но содержались указания на них. Их участники лишь означивали библейских персонажей и ни в коей мере не уподоблялись им. Даже относительно католической литургической драмы исследователи полагают, что, «одеваясь в костюмы Марии и Ангела, актеры показывали небесных персонажей; разыгрывая литургическую драму, наглядно представляли их зрителям, но понимали, сколь кощунственно было бы здесь перевоплощение, – не посягали на него» [Борисова, 1989, 12]. Эти слова еще в большей степени применимы к православному опыту. В православном круге славянской культуры никогда не ставилась задача перевоплощения, не было попыток перевести события священной истории в визуальный ряд. Возможно было дать лишь намеки и своеобразные знаки-сигналы.
Православная символика чрезвычайно скупа в отборе материала, должного передать высокое содержание. Она не стремится к соединению в символе высокого духовного и телесного, тварного. Потому во многом на православной почве литургический театр не состоялся. Между ним и школьным театром существует временное зияние. Они никак не связаны между собой. Исключение составляет лишь пьеса Симеона Полоцкого «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных». Хотя в универсуме православной культуры школьный театр и литургический, конечно, соприкасаются.
Паратеатральные действия, названные выше, чрезвычайно трудно отнести к театру. Они лишь приближаются к нему и преднамеренно застывают на значительном от него расстоянии. Правда, Н. С. Тихонравов назвал этот особый способ воспоминания евангельских событий предтеатральными явлениями, немыми представлениями, первыми ступенями формирования театра [Тихонравов, 1861, 18]. Но вряд ли возможно считать их таковыми за счет четкой границы, разделяющей в ту эпоху светское и сакральное.
Примечательно, что Авраамий Суздальский, побывавший на представлении Благовещенской мистерии во Флоренции на Соборе 1437–1440 гг. и оставивший его описание, глубоко осознал его условность и, повествуя об увиденном, постоянно подчеркивал, что видит перед собой не Деву Марию, а благоразумного отрока, читающего книгу, что он только по подобию напоминает Богородицу, что сам он зрит не пророков, а людей, наряженных наподобие их. Увиденное зрелище Авраамию понравилось, и он назвал его умильным и исполненным несказанным веселием, дивно устроенным. Этот пример знаменателен, так как свидетельствует о потенциальной возможности принятия театральности в сакральной зоне культуры и в православном мире.
Как видим, Авраамий сразу четко отделил изображаемых священных персонажей от служителей церкви, их замещающих. Он осознал символический характер представления. Его не испугало то, что символ в католической театральности создается из осязаемых вещных явлений и тут же переводит их значения в план высокой абстракции. По словам А. Ф. Лосева, такой символ дан «символически-вещественно» [Лосев, 1993, 901]. Латинский мир, по наблюдениям философа, передает высокую идею через вещественный символ, не страшась видимого мира. В православном мире вещественное отстоит от этой идеи. Соединение тварного с телесным для него невозможно. А. Ф. Лосев утверждает, что в католической культуре сильно развито личностное отношение к Богу и к обряду, что в ней всегда ощущается психологизм, что также противоречит православию. «Восточному монаху не важен он сам, почему тут и мало „описаний“ внутренних состояний подвижника. Западному же подвижнику, кроме Бога, важен еще и он сам» [Лосев, 1993, 890–891].
Итак, католическая культура впускает в храм человека, уже готового стать исполнителем роли, в ней энергично развивается театральное начало. С точки зрения М. Л. Андреева, это происходило еще и потому, что в памяти культуры была жива народная театральность. Она и явилась причиной зарождения литургического театра [Андреев, 1989, 57], который дал толчок для развития театра религиозного. Основными его жанрами стали мистерии и моралите. В этом отношении исследователь абсолютно прав, как и в том, что он искусственно не разделяет разные театрализованные формы культуры средних веков.
Мистерии, выросшие из литургической драмы, вышли в открытое пространство на площадь, а затем вернулись в стены духовных школ, оказались на пограничье светского и сакрального. Какое-то время они пребывали в храме. Как пишет В. Ю. Силюнас, «сейчас даже трудно представить степень такой театрализации, приводящей к тому, что неоднократно издавались постановления, указывающие на то, что не следует разыгрывать в церквах светские спектакли, и позволяется играть только „комедии на сюжеты из Священного Писания“» [Силюнас, 1998, 35–36]. Речь идет об Испании времен Кальдерона. В православном мире подобное было невозможно, ибо здесь продолжалась линия, заданная еще отцами церкви. Он придерживался ее гораздо более последовательно, чем мир католический.
Мистерии ослабили привязанность к обряду за счет разворачивания цепи светских эпизодов, но не лишились ядра сакральных значений, связи с церковным календарем, хотя и оказались в десакрализованном пространстве, на городской площади, которая все же примыкала к пространству сакральному, к стенам храма. Мистериальный сюжет, помещенный в непривычную для него среду, не отказался от первообразца, но продолжал требовать такой организации пространства, которая повторяла бы символическое строение христианского космоса. Театральный код оказался пригодным для передачи высоких истин, которые ранее доносились с амвона. Позднее возникли и другие жанры народного религиозного театра – моралите, миракли, которые затем вместе с мистериями вобрал в себя западноевропейский школьный театр. Все эти жанры на глубинном уровне связаны с церковным ритуалом, что прочитывается в способе обработки сюжета, в организации системы персонажей.
Народная средневековая мистерия и примыкающие к ней жанры не навсегда остались на площади. Они, как мы уже говорили, были востребованы другой сферой культуры, а именно – системой образования. К мистерии обратились деятели духовных школ, так как видели в ней огромные возможности религиозного воспитания. Очевидно, что в результате этого мистерии претерпели серьезные изменения, проделав на пути своего развития своеобразную петлю. Зародившись в храме, они вышли в открытое пространство города, из сакральной зоны – в светскую, а затем покинули ее, вернувшись на пограничье светского и сакрального.
В польской культуре, как и во всем католическом мире, также существовал литургический театр, на основе которого выросли мистерии. Храня в себе обряд, они, как и примыкающие к ним жанры, долгое время продолжали свое существование, предпочитая представлять отдельные евангельские эпизоды не прямо, а с помощью символов и аллегорий, в которых все равно проступали связи с церковным обрядом. Именно с этим вариантом школьного драматического искусства встретилась украинская культура и приняла его. В этом состоял ее единственный путь к театру.
Его появление в восточнославянском ареале можно считать результатом польско-украинских связей, особенно активизировавшихся в эпоху создания театра. Эти связи объясняются не только стремлением Польши к культурной и политической экспансии. Их причина кроется глубже. Она заложена в особенностях украинского культурного пространства, открытого для иновлияний. Границы, расчерчивающие его, были самого разного рода, а культурные пограничья, можно сказать, просто «исполосовывали» его. Одной из наиболее значимых была граница между католичеством и православием.
Эта граница не только служила разделению, но и способствовала проникновению в православный мир католического опыта. Благодаря этому произошло знакомство с театром католических польских школ, и в Киевской академии стали играться пьесы, прежде всего мистерии, против которых резко выступал Иоанн Вишенский, называвший их комедийным и «машкарским набоженством».
Связи между Польшей и Украиной лежат на поверхности. Они хорошо различимы, но вряд ли только они способствовали появлению театра в Киево-Могилянской Академии. Всякие культурные связи многослойны. Под ними всегда находится ряд пластов, которые, может быть, в становлении культуры играют более решающую роль, чем те, которые можно обозреть. В нашем случае это пласт обрядовых значений, реально обеспечивший становление киевского школьного театра. Без него театр бы не состоялся. Он дал ему разрешение на развитие, что само по себе можно считать культурным парадоксом.
Церковь, с одной стороны, отрицательно относилась к театру, с другой – вдруг резко приблизила его к себе, введя в систему духовного образования. Внешне это произошло потому, что культурная жизнь Украины испытывала сильное польское влияние. Многое из польской культуры стало образцом для украинской, который, конечно, подвергся сильным трансформациям, но тем не менее он хорошо узнаваем.
Украинские деятели культуры восприняли опыт польских школ, где театр служил чисто педагогическим целям. На Украине эта его направленность сохранилась, но, выполняя заданные цели, деятели культуры как бы заодно приняли сам театр, пусть только в той форме, которая ему была предложена. В этом заключается новаторство деятелей культуры того времени. Религиозный и дидактический театр школы не просто был повторен, он дал возможность для развития светских театральных форм, не только на Украине, но и в России, где уже существовали формы придворного театра с конца XVII в., но все же их было недостаточно для окончательного становления искусства сцены.
Начала московского школьного театра были положены украинцами, переехавшими в Россию и поставившими в Москве первую школьную пьесу «Ужасная измена сластолюбивого жития». Здесь, как и в других русских городах, был повторен киевский опыт, но – что еще более важно – театр очень быстро проник в светскую зону культуры, о чем свидетельствуют панегирические пьесы и репертуар любительского, «охотницкого» театра. Тем не менее и в России школьный театр, не порывавший с обрядом, сыграл важнейшую роль. К нему относились, может быть, еще более настороженно, чем в Киеве. Вырвавшись на свободу, он стал частью празднеств, маскарадов, торжественных встреч государей, что обеспечивало ему право на существование.
Вновь вернемся к украинскому школьному театру. Конечно, нельзя сказать, что он в точности проделал обратный путь к обряду или непосредственно взял его за основу. Он не мог решиться на такое, так как находился с ним в одном культурном пространстве. Обряд не стал его прямым источником, отдаленным или непосредственным предшественником. Школьные драматурги Киева не прошли тех ступеней, которые были уготованы западноевропейской театральной культуре. Здесь не наблюдалось постепенного исторического движения. Время, отпущенное театру на встречу с обрядом, также было сжатым. Не соприкоснувшись с обрядом античным, лежащим в основе древнего театра [Топоров, 1979], киевский театр, вслед за западноевропейским, встретился с обрядом – уже христианским.
Если для западноевропейского театра встреча с обрядом была уже второй, то для восточнославянского театра – первой. Трудно предположить, что польский школьный театр и украинский взаимодействовали непосредственно. Украинский театр, используя польский опыт, эти отношения не акцентировал, так как прежде всего двигался к «своему» обряду, а не к польским образцам.
При столкновении римских и православных традиций украинская культура не в полной мере восприняла театральный заряд, так как то пространство, в которое попал театр, явно его подавляло. Потому в этом театре сочетались сдержанность визуального ряда и тенденция к созданию полноценного театрального действия, недоверие к игре и стремление представить действие и уравнять его в правах со словом. Этот театр двигался вспять, к обряду, чтобы оправдать не свойственный его культурному ареалу художественный язык и верифицировать его. Обряд не сковывал энергии театра, ведь «именно в ритуале создаются предпосылки выходу творчества в новые широкие пространства особой интенсивности» [Топоров, 1994, 18].
Обратившись к обряду, притом косвенно, через несколько ступеней, которые являют собой литургическая драма и выросшие на ее почве мистерии, украинская культура вынесла затем это обращение на поверхность, переведя его, соответственно, на язык круга православной культуры, уже имевшей барочные риторические черты. Это и дало театру право на существование.
Театр этот возник не исторически и не стихийно, а зародился в искусственно созданной среде. Он требовал обращения к обряду для подтверждения своего статуса. Если бы он не нащупал с ним живительных связей, то мог бы погибнуть или вообще не зародиться, так как одной дидактической функции для его приживания на новой почве было бы недостаточно. Театр же стал искать свои корни, и, убедившись в их наличии, начал путь, проявив осторожность и даже консервативность.
В отличие от польского театра, украинский не стремился к новациям и сохранял мистериальное ядро на всем протяжении своего существования. Получив мистериальный заряд, он никогда не отказывался от него. Также на киевской сцене ставились моралите, «исторические» пьесы, которые по мере развития школьного театра не вымещали это ядро. В этом основная специфика и огромная значимость киевского театра – он донес мистерию почти до конца XVIII в. Он сохранил ее в целостном виде как доказательство своей преемственности, как знак вхождения в высокую культуру, из которой исходил обряд.
Его отношения с обрядом не были стихийными. Они были заданы школой, но, несмотря на это, культура нащупала реальные соотношения искусства сцены и обряда. Так на поверхность вырвалось до тех пор скрытое движение к театру. Как праздничные службы воссоздают смысл церковных праздников, повторяют, вспоминают Пасху и Рождество, как всякая служба в течение года вбирает в себя круг значений всего литургического цикла, так и школьный театр встал в ряд воспоминаний событий священной истории.
Таким образом, элементы зрелищности и театральности, присутствующие в народных обрядах, в этикетных формах или проповедях, образовывали лишь контекст, благоприятствующий развитию театра. Непосредственным его источником стал обряд церковный, явственно проступавший в мистериях – рождественских и пасхальных. Но стимулом для него был обряд католический.
Как обряд имел постоянное место своего воспроизведения, так и театру было предписано постоянное место исполнения – зал школы. Его пьесы нельзя было играть где угодно. Их могли ставить в храме: «Мы за твое пилъное, слухачу, слухання Зичимъ в небе з рожденнимъ Христомъ кролеваня. <…> За то, жесте слухали бозкой в церкве хвали» [Драма українська, 1926, 181]. Н. И. Петров и В. И. Резанов полагали, что эти слова свидетельствуют о том, что рождественскую драму ставили в церкви. В трагедии Андрея Скульского «Христос Пасхон» говорится: «В церкви нам верным, з уживаня поданный. <…> И мы теды, ту, с хутью в церкви ся скупивши». То есть, и здесь местом действия указывается храм.
Так же, как и обряд, мистерии имели предписанное время исполнения. Они зависели от основных дат церковного календаря. Театральные представления закреплялись за великими праздниками и масленицей. В конце учебного года, в основном, читались декламации. Эта закрепленность определяла характер жанровой системы театра. Мистерию нельзя было поставить с наступлением вакаций, а моралите – на Рождество. Моралите игрались перед Великим постом. Таким образом, театр совершал годовой круг. Пасхальная мистерия – рождественская – моралите на масленицу – вот основные точки этого круга. В пьесах, как в трагедии «Христос Пасхон», есть указания на время представления: «в Пятокъ Великій». Так театр во временных измерениях втягивался в обряд.
Мистерии нацелены на создание высших смыслов, складывающихся из ритуально повторяемых слов и действий. Как и обряд, школьный театр стабилен. Он постоянно повторяет самого себя, воспроизводит уже известные формы, варьируя их. В школьном театре, как и в обряде, игра – не самостоятельное явление, не самоцель. Она не высвобождается из целого и служит сакральным целям, хотя они сосуществуют с дидактической направленностью пьес. Зритель не вовлекается в игру, она для него не важна сама по себе, так как мистерия несет гораздо более ценную информацию, нежели эстетическая. В ней воссоздается картина мира, сотворение мира и человека, путь человека к Богу. Потому школьный театр, подобно обряду, требует к себе особого отношения – торжественного и серьезного. В нем не творится иллюзия; она – стихия театрального спектакля. Театр участвует в устроении миропорядка, отчего его дидактическая и рекреативная функции отступают на второй план.
Его художественное время сходно со временем обряда, ибо оно не историческое. Действие мистерий происходит теперь и всегда. Часто в пьесах встречаются перебивы во времени: оно опережается: настоящее и будущее, настоящее и прошлое совмещаются, потому что время мистерий – это время мифологическое, время совершения обряда. Так, Богородица заранее знает, что произойдет на Голгофе: «Маю тебе видете на горе Голгофе! / Ахъ, повеж ми, сину мой, чи юж неотменный / Декретъ, бысь мелъ умрети, бывши Богъ безвинный?» [Драма українська, 1926, 193].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.