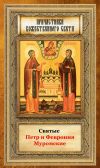Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 72 страниц)
Дом отражает состояние семьи и хозяина дома, чутко реагирует на изменения в их жизни. Со смертью хозяина он разрушается, как бы повторяя путь, пройденный хозяином в небытии. «Дом покойника противопоставляется дому живого как разрушающийся, гибнущий, темный, холодный» [Там же, 121]. Во всех плачах, которыми провожают хозяина, он описывается как брошенный, разрушенный, переставший быть надежной защитой от тягот жизни и от смерти. Более того, он может олицетворять смерть и идентифицироваться с ней. Так проявляется глубокая внутренняя связь человека и жилища. «Через код дома в плачах передается противостояние жизни и смерти» [Там же].
Соотношение и взаимодействие двух миров, противопоставление жизни и смерти в IV части «Дзядов» реализуются в образе дома, заключающем в себе архаические представления о смерти и загробном мире. В поэму дом входит на правах «реальности». Отшельник рассказывает о доме своей умершей матери. Так начинается сравнение дома мертвого с домом живых, домом Священника – обжитым, уютным, объединяющим трапезой и молитвой всех членов семьи и гостей. Дом матери активно приобретает развернутые мифологические коннотации.
Густав рассказывает, что застал дом своего детства в руинах. Он разрушился, и теперь, как человек, медленно умирает. Рассказ о нем насквозь мифологичен. Еще в монологе о любви Густав как бы невзначай бросает реплику: «Nie mam domu; gdzie przyjdę, tam posłanie moje» [Mickiewicz, 1955, 65] – «Нет спальни у меня, сплю нынче, где попало» [Мицкевич, 1952, 77]. Затем подробно развертывает картину опустевшего дома. Так возникает образ дома – пустого, заброшенного, почти развалившегося. Со смертью матери он потерял границы, которые отделяли его от внешнего мира, – сломан забор. В усадьбе, как на кладбище, все заросло мхом и полынью. «Niedawno odwiedzałem dom mojej nieboszczki matki, / Ledwie go poznać mogłem! już ledwie ostatki!» [Mickiewicz, 1955, 74] – «Недавно посетил я дом покойной мамы / Все, все разрушено. Едва узнал я прямо! / Руины, пустошь, тлен…» [Мицкевич, 1952, 85]. Старая собака сторожит ворота без замка. Эти ворота в повествовании Густава тут же превращаются в рассыпающийся забор: «Z płotów koły, z posadzek wyjęto kamienie» [Mickiewicz, 1955, 75] – «Разбитые калитки, / В траве перед крыльцом лежат паркета плитки» [Мицкевич, 1952, 85]. Это – дом без хозяина, дом, подвергшийся разбойному нападению. Поэт даже ввел эпизод с ночными грабителями. Он построен столь детально, так явно выделен в тексте, что мифологическая подоснова мотива дома после смерти хозяина не вызывает сомнений.
Какой хозяин умер? С помощью известного мотива – верная служанка встречает хозяина, вернувшегося с чужбины, – Мицкевич вводит тему смерти Густава: «О paniczu nie słychać, pewnie juz nie żyje» [Mickiewicz, 1955, 76] – «Где ж барич молодой? – Должно быть, тоже помер!» [Мицкевич, 1952, 86]. В доме слышен странный стук, обычно предвещающий появление пришельцев из другого мира. Встреча Густава со старухой-служанкой, которая появляется неожиданно, – это встреча двух привидений. Только один появился из загробного мира, а другая – из светлого мира детства и юности героя. Кроме того, дом несет на себе печать смерти матери Густава.
В IV части «Дзядов» явно звучит тема матери. Романтический герой, отторгнутый социумом, противопоставленный ему, разрывающий узы с семьей, обычно сохраняет духовное родство с матерью. Но Мицкевич говорит о нем, опираясь на образ дома, притом опосредованно. Л. Г. Невская пишет: «Мать – опекунша дома / семьи <…> образует с ним такое единство, что осиротевший ребенок лишается не только матери, но и дома, со смертью матери подвергающегося разрушению» [Невская, 1983, 201].
Густав осиротел, у него нет дома, и сам он пришелец из другого мира. Тема смерти, таким образом, усиливается благодаря коду жилища. Дом этот не только покойной матери Густава, но и его собственный. Пустой, заброшенный, он символизирует и его собственную смерть. Таким образом, тема смерти вписана в смысловое единство IV части поэмы через мотив дома, организующий семантическое пространство народных похоронных плачей. Он одновременно проводится в «реальном» ключе и в мифологическом. Заметим, что в письме к Я. Чечоту поэт явно мифологизировал посещение собственного родительского дома.
Создание портрета матери не является творческой задачей поэта, зато огромное внимание он уделяет состоянию дома после ее смерти. Произошло это не потому, что поэт решил сделать лирическое отступление и задался целью описать таинственные развалины. Сознательно или бессознательно, он следовал мотивам народной культуры. В предельно сжатой и тщательно закодированной форме поэт воссоздал представления о жизни и смерти, о смыслах человеческого бытия, опосредованно опираясь на похоронный обряд.
Об этом обряде Мицкевич вспоминает еще раз, когда вводит мифологический мотив: свадьба / похороны. Свадьба и похороны – это переходные обряды. Они символизируют переход к другой жизни, то есть от своих к чужим. Только обряд похорон однонаправлен. Он приводит в страну смерти, а обряд свадьбы в конечном итоге «воскрешает» невесту для новой жизни в «чужом» мире. Смерть и свадьба в народных представлениях настолько тесно связаны, что могут служить друг для друга источниками для образования переносных значений. Соединение элементов свадьбы и похорон встречаются в свадебном ритуале и в погребальных плачах.
В похороны девушки, холостого мужчины включаются элементы свадебного обряда (подруги, подвенечный наряд). Прослеживается соединение этих мотивов и в песнях (смерть как свадьба на чужой стороне), в гаданиях, в загадках, где одно и то же явление может предвещать или обозначать и свадьбу, и смерть. Свадьба может кодироваться через смерть. Чужое пространство в свадебном обряде воспринимается не только как пространство жениха, его семьи и рода, но и как пространство другого мира, «того света». Граница, т. е. место, в котором останавливается свадебный поезд, является одновременно границей двух миров, а не только двух родов. Пространство свадебного обряда воспринимается как двойственное [Байбурин, Левинтон, 1978].
Устойчивое противопоставление свадьба / похороны возникает в беседе Густава со Священником о его покойной жене: «Ach, i moja wspólniczka szczęścia i niedoli, / Małżonka moja, którą kochałem tak szczerze!..» [Mickiewicz, 1955, 56] – «Расстался я с возлюбленной женою, / Моей подругой в счастье и в недоле» [Мицкевич, 1952, 69], – говорит Священник. Густав тут же замечает, что это ее вторая смерть, что в первый раз она умерла, когда была жива: «Żona twoja przed śmiercią już była umarłą» [Mickiewicz, 1955, 57] – «Жена твоя была мертва еще живая!» [Мицкевич, 1952, 70].
Затем развивается типичный фольклорный мотив смерти через брак [Байбурин, Левинтон, 1990]. Мицкевич в столкновении похорон и свадьбы стремится отразить представления о жизни и смерти, создать сложный комплекс ассоциаций, углубляющих и дополняющих темы двоемирия и вселенской любви. Густав определенно описывает свадьбу как смерть. Священник не должен сокрушаться из-за смерти жены. Она умерла в тот момент, когда переступила порог дома мужа. Ведь девушка похоронена в тот момент, когда ее называют женой. Она отказывается от всего того, что ее окружало, от всех тех, кто был ей дорог. Стоя на чужом пороге, она находится на границе двух миров – своего и чужого. «Gdy na dziewczynę zawołają: żono! / Juz ją żywcem pogrzebiono! / Wyrzeka się przyjaciół, ojca, matki, brata, / Nawet… Słowem, całego wyrzeka się świata, / Skoro stanęła na cudzym progu!» [Mickiewicz, 1955, 57] – «Дева, нареченная женою, / Как будто заживо сокрыта под землею! / Ведь от отца, от матери, от брата / И ото всех, ей дорогих когда-то, / С чужого отреклась она порога!» [Мицкевич, 1952, 70].
Мотив свадьба / похороны в этой части «Дзядов» переплетается с романтическими представлениями о жизни без любви как смерти духа. Возлюбленная Густава как бы жива, но она постепенно умирает, хотя полна сил, здоровья, красоты: «Kwitnie życiem, Kwitnie zdrowiem, / Taką śmiercią umarła <…> straszniejszą daleko, / Gdy trup z rozwartą, ot tak, powieką» [Mickiewicz, 1955, 60] – «Ее жизнь цветет, она цветет здоровьем… Такой страшной смертью умерла, она страшнее, чем мертвец с открытыми глазами». Заканчивается этот монолог рассуждением о вечной смерти – именно так намеревается умереть сам Густав.
Еще раз свадьба и похороны, жизнь и смерть сближаются в воспоминании о свадьбе возлюбленной. Густав падает без чувств под окнами ее дома – умирает – сходит с ума. Так стягиваются воедино все возможности отчуждения от мира романтического героя. Густав сравнивает этот день с днем Страшного суда. В соответствии с «прообразом» этого мотива смерть (безумие, потеря чувств) происходит во время пира, танцев, веселья [Цивьян, 1973, 99]: «Jak trup samotny, obok weselnego tłumu, / Leżałem na zroszonej gorzkim płaczem darni» [Mickiewicz, 1955, 81] – «Там веселились. Я, как труп безгласный, / Лежал в траве, слезами орошенной» [Мицкевич, 1952, 91].
Итак, и IV часть поэмы поддерживает обряд – не только поминальный, но и колядование, похороный, свадебный. Поминальный обряд не стал ее акциональным планом, но зато участвует в сложении ее семантики. Все его варианты не развернуты, существуют в виде аллюзий (трудный путь, заброшенный дом, смерть / свадьба) и подчинены теме любви. Из таких тематических взаимодействий вырастает IV часть «Дзядов».
В этой части можно усмотреть примечательную тенденцию к расширению картины мира. Густав в своих монологах неоднократно обращается к туманному пейзажу. Его очертания размываются, а реалии превращаются в многозначные символы, одновременно меняя свою форму. Это пространство, противопоставленное дому Священника, создается в воображении Густава. Не в доме и не в долине разворачивается истинное, но скрытое действие этой части. Это – космическое пространство, образуемое теми смыслами, которыми оперируют персонажи «Дзядов», играющие мистерию любви. Эта мистерия создает на земле и ад, и рай, обрекает на чистилище.
Так пространство вытягивается по вертикали, повторяя строение христианского космоса. Оно творится в поэме не сразу, а с развертыванием концепции романтической любви, не исчезающей и после смерти: «Chyba tam! Gdy nad podłym wbijemy się ciałem, / złączy się znowu jedność, dusza z duszą zleje» [Mickiewicz, 1955, 53]. – «А что там! Может быть, расставшись с плотью грубой, / Сольются, наконец, душа с душой, как прежде» [Мицкевич, 1952, 66].
IV часть завершается, как и начиналась, упоминанием дзядов. Поминальный обряд как бы скрепляет ее. Вспоминая этот обряд как самый прекрасный праздник, как свидетельство того, что мир одухотворен, Густав просит Священника вернуть его во всей его первозданности. Он решительно не принимает новой обрядности, в которой близкие покойного стараются выказать не печаль, а свое богатство. Но слеза бедного человека перевесит пред Господом фальшивые слезы и новую глупую обрядность – платный кортеж и печатные сообщения о кончине ближних, которые затмевают истинный смысл похорон и ухода в тот мир. Не только скромную свечу поставит простой человек на могилу. Он принесет молоко и мед, мукой посыплет могилу, т. е. совершит обряд жертвоприношения, в котором раскрывается глубинная связь двух миров. Священник упирается. Он твердо уверен в том, что дзяды не нужны, что это предрассудок, с которым следует бороться. Так в диалоге Густава и Священника разум и просвещение спорят с верой и чувством, а новая обрядность противопоставляется народной.
Теперь обратимся к «Дзядам-представлению», которую Ю. Клейнер называл драмой мировоззрения. Мицкевич здесь изображает обряд-шествие, фиксирует движение к сакральному пространству, к кладбищу, где должен произойти обряд поминовения. Колдун ведет на кладбище крестьян, которые несут жертвенную пищу. Он призывает участвовать в обряде всех, кто «отчаивается, вспоминает и желает». Значит, сам обряд здесь не представлен, к нему лишь приближаются все персонажи этой части.
Густав, блуждая по лесу, встречает посланца того мира, Черного Охотника. Опять перед нами пара героев: посланец того мира (Охотник – это один из вариантов неприкаянных душ) и страдающий человек. Они становятся носителями главных смыслов I части. Действие ее еще только обещает развернуться. Шествие на кладбище и юные герои, еще не встретившие друг друга, – это «двудольное зерно» всех частей «Дзядов». «Дзяды-представление» экспонирует их ведущие темы и пробует переложить на язык театра. Они концентрируются в балладе «Заклятый юноша» – значимой вставке I части.
В III части «Дзядов» нет поминального обряда как такового. Только заключительная, девятая сцена имеет некоторые его реминисценции. Вызванный на дзяды Женщиной в трауре, еще одной ипостасью вечной возлюбленной, Конрад несется в кибитке по заснеженным дорогам, следуя по пути изгнанников, предсказанному Петром. В этом эпизоде сливаются мифологическая и патриотическая темы, темы романтической любви и служения отчизне.
Указание на обряд содержит дата преображения Густава в Конрада: 1 ноября 1823 г. Это день всех святых, день поминовения. Потому можно сказать, что и III часть «Дзядов» зависит от обряда. «В виленских „Дзядах“ к нам приходили души знакомых и родных, просили помочь и облегчить страдания и оставляли взамен предостережения от ошибок на пути жизни. Дрезденские „Дзяды“ ведут нас на другой праздник умерших, на котором появляется вставшая из гроба национальная традиция, чтобы удостовериться, что кровь героев была пролита не напрасно, чтобы напомнить об идеалах геройства, свободы, человечности, которые делают народ великим и благородным» [Życzyński, 1932, 63]. Из виленского процесса над студентами поэт создал трагическую картину неправого суда и отомстил судьям за изгнание, солдатские погоны и кандалы друзей юности. Он сохранил память о филоматах, которые под его пером превратились в символ и легенду. Потому и эту часть можно считать обрядом памяти, памяти о погибших. Она – поминовение трагических событий, предвещавших революцию 1830 года. Это тоже дзяды, но национальные, политические.
В этой части Мицкевич обращается еще к одному обряду – церковному обряду изгнания дьявола. Его проводит священник Петр, который хочет излечить Конрада от безумия. Этот обряд, как и другие, Мицкевич не стремился воспроизвести в точности. Петр не имеет при себе обязательных епитрахили и святой воды, которой должен был бы окропить безумца. Он действует только словом. Не может быть, чтобы Мицкевич не знал этих деталей обряда. Мир, где мертвые опекали живых, а дьявол скучал в аду и, появившись на земле, бил окна в костеле, был ему хорошо знаком. Он знал, как происходит обряд изгнания дьявола, но предпочел выявить его суть и столкнуть между собой силы добра и зла.
Можно сказать, что поэт даже снизил его, переведя в комический диспут Петра с дьяволом. Данный очень сжато, он поддерживает обрядовость всей поэмы. Сцена экзорцизмов – не только дань традиции комического изображения посланцев ада. Она знаменательна как столкновение священника и богоотступника. Петр здесь выступает как искренний носитель веры. Конрад же колеблется в вере и даже вызывает Бога на спор. Но Петр спасает грешника, изменяет и обращает. Изгнание дьявола реализует тему сражения добрых и злых сил в душе человека. Петр побеждает дьявола, и Конрад родится заново, чтобы служить людям. Изгнание злых сил, как известно, входит в обряд крещения [Kubacki, 1949, 50, 51]. В этой сцене слышны отзвуки мистических учений эпохи.
Итак, в «Дзядах» прежде всего просвечивает поминальный обряд. Он воспроизводится подробно, хотя с отступлениями и изменениями. Обряд начинает и заканчивает поэму, выступая ее внутренней рамой, чье семантическое содержание явственно перекликается с содержанием всех частей поэмы, но особенно II и IV. Другие обряды появляются в свернутом виде. Поминальный обряд, восстанавливающий миропорядок, связывающий ушедших с живущими, Мицкевич сделал семантическим ядром поэмы. Он создал свой вариант обряда, неполный по сравнению с народным и измененный. Это не архаический обряд во всей его полноте. Поэт преобразовал мифологические знания о мире, зафиксированные в нем. Он существенно дополнил его темой любви. Так из обряда вырастает доминантная тема романтизма, но значимость его при этом не исчезает.
Во взаимодействии тем любви и памяти создается напряженность смыслов всей поэмы. В этой напряженности, приводящей порой к тому, что две ведущие темы поэмы разрываются, но всегда ненадолго. Тут же происходит соединение мира живых и мира мертвых, а также превращение живого мира, если он безлюбовен, в опасную зону смерти. Мир мертвых, если в нем живет чувство и существует любовь, напротив, обнаруживает способность к жизни. Любовь становится силой, преобразующей не только мир, но и пронизывающей смерть. Обращение к обряду в «Дзядах» превратило тему любви в надмирную [Piwińska, 1984, 568].
В «Дзядах» колеблются, взаимно обогащаясь, две системы художественного самопознания, «когда предметом „драматизации“ становятся отношения людей и природы и когда они заменяются межсубъектными отношениями» [Малявин, 1985, 218]. Тема памяти, заложенная в дзядах, возвеличивает любовь, переводит ее в разряд космических величин. Она же наполняет обряд живым смыслом. Так в обряде поэт претворил романтическую философию любви. Обращение его к народной мифологии переводит «Дзяды» из разряда романтических произведений, колеблющихся между театром и литературой, в разряд обрядовых текстов. «Дзяды» становятся подлинным обрядом польской культуры. Направляя поэму к обряду и полагая искусство обрядом, Мицкевич превращал свое произведение в обряд, обряд поминовения, но уже не предков, как в народном обряде, а юности, свободы и любви. «Такова в сущности функция всякого ритуала – в кризисный, гибелью грозящий час восстановить утрачиваемое status quo, вернуть угрожаемую жизнь к порядку истории, к времени в его органических и плодотворных связях. Подлинный ритуал восстанавливает не только время, но и всех, кто участвует в нем и, в частности, совершает его» [Топоров, 1989, 16]. Ритуал памяти разрешает Мицкевичу выразить «понимание значения и функции театра и вообще искусства в обществе» [Masłowski, 1978, 33].
Черты обрядовости можно усмотреть и в «He-Божественной Комедии» Красиньского. Они присутствуют в «Первой части Комедии», в эпизоде «Венецианские подземелья». Поэт проводит тему страдающей родины через погребальный обряд. Он представляет, как ее тело покоится на роскошном мрачном катафалке, окруженном черным занавесом, серебряными орлами и знаменами. Его обступают три карлика – три государства-захватчика.
Эта картина нарисована в духе сарматского погребального обряда. Перед нами истинная pompa funebris [Chrościcki, 1974; Тананаева, 1979, 198–207], а не просто поэтическая картина, созданная поэтом. Он проводит тему родины через погребальный код, обращаясь к устойчивым стереотипам. В эпоху барокко тема смерти входила не только в репертуар поэтических тем, наделяясь множеством значений, среди которых выделяются такие, как неожиданность прихода смерти или всевластие над людьми. Тема эта велась и театральными средствами.
Театр в ту эпоху доминировал в культуре. Известный топос жизнь – театр как бы ожил в то время. Стремление к театральности определяло многие сферы жизни. Театр захватывал области смежных искусств, что породило, в том числе, окказиональную архитектуру, т. е. декоративные постройки, сооружаемые в связи с различными событиями в общественной и частной жизни. Эта архитектура балансировала между живописью и театром, театром и архитектурой. Это были не только триумфальные арки, колонны, пирамиды, но и castra doloris. Эти временные сооружения дополнялись специально написанными по печальному поводу пьесами, живыми картинами. Сам обряд подвергся тогда особой театрализации. Похороны театрализовались в Италии и Испании, в Венгрии, а также в Польше. «Сарматское охранительство выразилось в погребальных церемониях больше, чем где бы то ни было. Поэтому они и стали очень заметной чертой жизни польского общества и, хотя подобные обряды в эпоху барокко отнюдь не были „польской специальностью“, именно здесь они приобрели размах и постоянство, обращавшие на себя внимание современников-иностранцев» [Тананаева, 1979, 199].
В тенденции к театральности видится столкновение вечности и мгновения, великолепия жизни и разложения в смерти. Это столкновение превращало театр жизни в театр смерти, реализуясь в сложном ансамбле символов и аксессуаров, в декоративном оформлении похоронной процессии и храма. На сцене жизни в последний раз появлялся покойный, которого окружали символы преходящести земной жизни, его былой славы – гербы, мечи, черепа. Один из родственников, одетый в траур или в одежды покойного, а иногда и загримированный под него, дублировал ушедшего из жизни. Это он ломал его воинские знаки отличия, а потом на всем скаку влетал в храм и падал, что должно было символизировать уход в тот мир. Это был последний взрыв жизни – живой символ бренности земной славы.
Храм, в котором провожали в последний путь покойного, драпировался богатыми тканями, окна завешивались, свечи и люстры создавали искусственное освещение. Повсюду развешивались не только изображения святых, но и портреты предков покойного. Катафалк был богато украшен, декорирован эмблемами. Он имел чисто символическое значение, означал вечное торжество добродетелей, глубокую скорбь, равенство бедных и богатых перед смертью. Вокруг него разыгрывался назидательный спектакль на тему обряда, притом чрезвычайно роскошный. Эта роскошь, кстати, вызывала критику. В. Потоцкий в «Хотинском сражении» выражал недовольство по поводу того, что во время похорон стены храма обиваются бархатом, катафалк украшается драгоценными камнями и стеклом. Чем больше «помпа», тем она дороже, заключал он. Излишества на похоронах тревожили и К. Опалиньского, который в одной из своих сатир писал, что все наследство теперь проматывается на покрывала для коней, свечи у катафалка, на погребальную «помпу».
Этот обряд – настоящий «театр в жизни, паратеатральное действие, в котором участвуют все присутствующие, как бы еще раз переживающие смерть того, кто взирает на всю эту сцену с высоты траурного катафалка» [Там же, 218]. Вспоминая этот обряд, Красиньский и выстроил выше названный эпизод с катафалком. Поэт не просто ввел в свою «Комедию» старинный обряд, через него он обратился к славной истории прошлого, возвеличил его, так как соотнес со страданиями своей родины. Естественно, поэт заимствовал только некоторые черты этого обряда, а другие видоизменил. Он, например, не стал развивать все мотивы, в нем присутствовавшие, представил его статичным, хотя на самом деле в нем присутствовала динамика. Двигались к месту последнего упокоения отряды солдат, священники, «по пути следования в придорожных костелах служились мессы» [Там же, 202]. Эпизод в «Венецианском подземелье» лишен движения, зато глубоко символичен.
Итак, польская романтическая драма была пронизана обрядовостью. Мицкевич обратился к народному обряду поминовения. Красиньский предпочел барочный похоронный обряд (pompa funebris). Если для Мицкевича в народном обряде сосредоточивались глубинные смыслы, представления о связи двух миров и он подошел к нему достаточно свободно, так как затронул переходные обряды и обходные, то для Красиньского обряд послужил лишь исходной точкой для создания живой картины, насыщенной символическим значением. Он воспользовался его барочной формой, чтобы воплотить мессианистские идеи об избранности страдающей Польши.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.