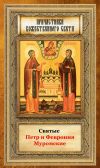Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 54 (всего у книги 72 страниц)
Если мир в цвете предстает перед героем в минуты наивысшего эмоционального напряжения, то Древний Дом сразу поражает его всеми красками. В нем «белая плоскость вверху», т. е. потолок. Всюду море красок: «темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза – канделябры, статуя Будды» [Там же, 25]. Для Д-503 это «дикая, неорганизованная, сумасшедшая <…> пестрота красок и форм» [Там же]. Цветовое описание Древнего Дома не раз повторяется, что усиливает противопоставление однотонного холодного мира прежнему буйству цвета.
Удивляет своими красками и город прошлого, точнее, его остатки. В нем превалирует красно-желтая гамма, невиданная в прозрачном и бесцветном мире: «Голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы – навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных всплесков» [Там же, 86]. Герою романа Замятина известно, что весь мир за Зеленой Стеной во время Двухсотлетней Войны был красочным. Только это были цвета смерти. Там «красное на зелени трав, <…> желтые, сожженные солнцем травы…» [Там же, 116]. Поднявшись над Городом на Интеграле, он видит запретный мир природы и различает в нем «янтарное, зеленое, синее».
В прозрачном и стерильном, геометрически правильном пространстве практически отсутствуют вещи, имеющие эстетическую функцию. Все они абсолютно одинаковы и никак не свидетельствуют о человеке, что вновь вызывает к жизни признак пустоты. Те вещи, которые окружают героя, наделены только полезными функциями. Главная среди них – Часовая Скрижаль, упорядочивающая человеческую жизнь до мельчайших деталей. Эта Скрижаль для нового человека священна. Она то же, что икона для древних. Скрижаль призывает к труду, заставляет спать и есть в одно и то же время. Она назначает все на свете, сливая всех людей в «единое, многомиллионное тело».
Есть здесь и «частные» новые вещи – электрическая зубная щетка, рентгеновские очки. Есть и старые – такие, как телефон, лифт, метроном. «Древней» вещью стала различно скроенная одежда. Д-503 со страхом смотрит на 1-330, когда она появляется в старинном платье. Еда почти что стала вещью, потеряла вкус, цвет и форму. Все едят лишь «прекрасную» нефтяную пищу. За Зеленой Стеной Д-503 предлагали нечто удивительное: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Он уже не в состоянии понять, что перед ним такое. Обычные вещи и пища с ее вкусом, цветом, запахом исчезли в Едином Государстве. Они покинули человека, но герой еще смутно помнит о них. Он, правда, не может, вспомнить, как называется бумажная трубочка, из которой идет дым, т. е. папироса.
Мир новых вещей раздроблен. Они не спаяны в единое целое, скучны и однообразны, как все в этом новом мире. Вещь, которой можно любоваться, а не только пользоваться, хранится в Древнем Доме-музее. Здесь сохранился прежний интерьер, густо населенный вещами. Нестерпимо пестрые диваны, кровати красного дерева, угрюмые шкафы, зеркала, громадный камин предстают перед взором Д-503. Вещи здесь не идеальны, не сверкают чистотой, а, напротив, запылены и испорчены. Через оппозицию чистое / грязное Замятин передает идею времени. Стерильно чистые вещи нового человека противостоят вещам прежним, несущим на себе знак прошедшего времени. Они никак не соответствуют представлениям о вещи идеальной. Тут каплет вода из умывальника, неумолимо скрипят двери. Здесь валится на бок забор, везде виднеются развалины. Это – мир вещей, переживших разрушение. Они уже готовы исчезнуть, как все элементы прежнего материального мира, хотя все еще несут на себе печать связанности с человеком. Смерть и исчезновение не грозят лишь прекрасному миру стеклянных полезных вещей.
Замятин противопоставляет правильно организованное пространство природе. Хотя выходы в нее очень редки, они чрезвычайно значимы. Тема природы постоянно звучит в романе и даже становится основополагающей, ибо это природа на самом деле определяет картину мира, созданную Замятиным, и образ человека в ней. Увидеть ее доводится не всем и не всегда. Выйти за пределы нового мира становится возможным только с разрушением Зеленой Стены.
Как выглядит природа, жителям Единого Государства неизвестно. Когда-то она была рядом, но «войной все дороги разрушились и заросли травой – первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных зелеными дебрями» [Там же, 15]. Природа для новых людей, как и свобода, – знак дикости, беспорядочности, хаоса. В ней нет логически правильных линий. Все в ней ужасно, потому новые люди «стеной изолировали свой машинный совершенный мир – от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных…» [Там же, 68]. Итак, природа не только не совершенна, но и безобразна, как может быть безобразно для нового человека все то, что не приносит пользы.
Теперь она находится за Зеленой Стеной, где распростираются «дикие равнины», населенные непонятными существами. Там герою удается увидеть нечто совершенно необычное, лишенное порядка и правильности: «раскрытые рты, крылья, листья, слова, камни – рядом кучей, одно за другим…» [Там же, 109]. Там есть не только невероятные цвета, но и удивительные запахи. Оттуда «ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов» [Там же, 9], что мешает логически мыслить. В Городе не осталось почти никаких примет природы.
Только небо все еще высится над головами жителей Единого Государства. Они продолжают дышать воздухом. Но небо это – особое: «синее, не испорченное ни единым облаком, <…> стерильное, безукоризненное небо» [Там же, 9]. Оно распростирается над людьми, бледное, стеклянное, сияющее огнями. На нем, конечно, мелькают облака, но их разгоняют машинами, так как они портят чистое небо, белея на нем бельмами. Облака все же можно увидеть, но только поднявшись на аэро. Облака эти такие нелепые и пухлые, что новому человеку на них противно смотреть. Потом, правда, герой все же вспоминает белое облако на синей майолике неба. Д-503, разглядывая его, задумывается о том, что находится там, выше. Это неизвестное, что-то «хрустально-синее, голое, непристойное ничто» [Там же, 47]. Наверное, невероятный холод царит в этих синих, немых межпланетных пространствах.
Земля жителям Города неизвестна. Однажды Д-503 вспоминает, что в ее недрах пылает огонь. Потом, вырвавшись за Стену, он видит ее и касается, неуверенно шагая и ощущая ее непривычную мягкость. Это «что-то отвратительно мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое» [Там же, 109]. Но все же, несмотря на отвращение, оказавшись на земле, а не на стеклянном асфальте, герой чувствует легкость и свободу. Море, которое вдохновляло художников и поэтов, которым раньше любовались, теперь подчинено людям. Оно стало домашним животным. Из шепота волн теперь добывают электричество. Новые люди приручили не только море, но и погоду. Теперь аккумуляторные башни справляются с грозами, и небо больше не бушует.
Что знает новый, логически мыслящий человек о природе? Ему известны цветы, но ему неясно, зачем они существуют. Потому сохранились они только в Ботаническом музее. «Я лично не вижу в цветах ничего красивого – как и во всем, что принадлежит дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену», – замечает герой [Там же, 39]. Потом, правда, он видит полынь на коленях у старухи, охраняющей Древний Дом. Однажды вспоминает рассказ о том, что есть растения, цветущие раз в сто лет. Деревьев он тоже не видел до тех пор, пока не проник за Зеленую Стену. Они кажутся ему корявыми, похожими на немые зеленые фонтаны. После взрыва Стены на мостовых лежат ветки – малиновые, зеленые, янтарные, нарушающие однообразие замкнутого стеклянного мира.
Животные также неизвестны новым людям, но однажды Д-503 столкнулся с чьими-то желтыми глазами, которые напряженно глядели на него через Стену. «Мы долго смотрели друг другу в глаза – в эти шахты поверхностного мира в другой, заповерхностный» [Там же, 68]. И в голову Д-503 приходит мысль: может, этот желтоглазый в грязной куче листьев счастлив? Это знаменательный эпизод романа, в котором происходит первая встреча человека с природой. В другой раз он встречается взглядом с птицей, у которой оказались круглые черные глаза.
Затем он и свою жизнь начинает воспринимать через природный код. Ему кажется, что от его возлюбленной идет легкий, «молнийный», озонный запах чистого воздуха. Он представляет, как весной пробиваются из земли растения, чтобы скорее выбросить ветки и листья, а потом зацвести. Побывав за Стеной, герой противопоставляет пронзительный писк птиц и шары куполов, кубы-дома с их геометрической красотой, уверенность в совершенстве которой уже поколеблена.
Так в романе решается противопоставление природа / город, и природа оказывается противопоставленной сконструированному воображаемому пространству. Она способна разбудить в человеке эмоции, которых он уже почти лишился. Она напоминает о том, что он уже давно забыл, – о свободе.
Итак, признаки пространства у Замятина все время колеблются. Они налагаются один на другой, как бы спорят между собой. Сказав, что пространство является закрытым, писатель тут же показывает, как оно превращается в открытое для каждого жителя Единого Государства, так как это пространство прозрачное. Оно колеблется не только между закрытостью и открытостью. В его характеристику включается оппозиция видимое / невидимое. Это пространство кажущееся, оно «минус»-пространство не только потому, что прозрачно. В этом невидимом пространстве человек ощущает себя погруженным в глубокий колодец. Он осознает, что он пленник и раб Города, хотя цепи, его опутавшие, невидимы. В этом состоит парадокс пространства, созданного Замятиным. Тщательно прописанное, геометризованное, оно отрицает самого себя, человека и жизнь [Топоров, 1995, 498].
Невидимое пространство никогда не отпускает человека на свободу. Скованность, зависимость человека от пространства проявляется в движении, его структурирующем. Оно демонстрирует всю степень несвободы человека. Его мир окружен не только Зеленой Стеной, но множеством предписаний, регламентирующих его поведение. Правильно построенный город, идеальное жилище привязывают его к себе и не отпускают. Человек все время на виду и не принадлежит сам себе. Он зависит от Города, он не обживает его, Город целиком его поглощает.
Человеку кажется, или должно казаться, что место, где он находится, Город, построенный на клочке земли, изолированный от всего мира нерушимой Зеленой Стеной, – это рай. В нем нет желаний, жалости и любви, здесь «блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) – ангелы, рабы Божьи…» [Замятин, 1989, 335]. Герои романа иронически противопоставляют своему раю рай подлинный, в котором двое «олухов» выбрали свободу и веками тосковали об оковах. Жители Единого Государства догадались, как построить новый рай. Для этого нужно отказаться от Бога, после чего все на свете станет простым, невинным, прекрасным и благородным – и добро, и зло.
Так утопическое пространство описывается через сакральные измерения, что встречается довольно часто. Иногда религиозная картина мира непосредственно выстраивается в утопиях, как, например, в «Трагедии человека» И. Мадача. Она «открывается сценой на небесах, где перед Господом и окружающими его ангелами и архангелами появляется Люцифер – „дух вечный отрицания“, который в благостную картину создания первого человека на земле вносит критические ноты, подвергая сомнению целесообразность такого шага» [Куренная, 2002, 87]. Герои Замятина сравнивают свой Город с раем, утверждая, что об этом блаженном месте говорится в «древней легенде». Однажды прямо называют его стеклянным раем.
Их новый земной рай заперт для тех, кто недостоин его. Рай за Зеленой Стеной хранит жителей Государства, их счастье. Он закрыт и огорожен, подобно раю небесному, вход в который доступен только праведникам. Рай, перенесенный на землю, не придает пространству вертикальной ориентации, так как ад в этой картине мира отсутствует. Хотя очевидно, что его очертания просматриваются как раз в новом, земном рае. Этот резкий перенос, типичный для утопий, Замятин совершает, предрекая усиление ужаса истории, определяющего изменение человеческой природы. Он явно обращается к апокалиптическим мотивам, которые находил и в жизни, утверждая, что «сегодня – Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты» (цит. по: [Чаликова, 166]).
Пространство Единого Города находится в противопоставлении с другим видом пространства. Возникает оппозиция старое / новое, через которую описывается Единый Город и Древний Дом. Она же лежит в основе описаний городских улиц и жилища человека. Знаменательно, что именно в Древнем Доме происходят любовные свидания героя. Здесь рождается не только его любовь, но и душа. Прежнее пространство, обжитое человеком и предназначенное для него, оказывается идеальным местом для развития личности. Только здесь Д-503 познает, что такое страсть и страдания, которые кажутся невозможными и непонятными в идеально расчерченном мире, где нельзя укрыться от чужих глаз.
В сконструированном пространстве человек не ощущает своих связей с космосом, он оторван от природы. Город тщательно охраняет от нее человека. Противопоставление природы и города организует художественное пространство романа. Через него решается важнейший вопрос всякой утопии: будет ли человек счастлив с приобретением богатства и удобств, о которых он так печется? Нивелировка городского пространства уравнивает людей и одинаково лишает счастья.
Категория свободы – центральная в романе «Мы». Замятин затрагивает вопрос и о целях ее достижения, что чрезвычайно важно. Рассуждая о свободе, Н. Бердяев писал, что даже такую прекрасную цель, как свобода, не оправдывают средства: «когда применяют злые, противоположные целям средства, то до цели никогда не доходят, все заменяют средствами и о цели забывают, или они превращаются в чистую риторику. <…> Никогда свобода не осуществляется через насилие, братство через ненависть, мир через кровавый раздор» [Бердяев, 1990, 273]. В романе «Мы» этот этап уже пройден. Невидимое прозрачное пространство захватило человека и лишило его свободы. Он желает лишь «идеальной несвободы».
Итак, утопическое пространство описано Замятиным очень подробно и в разных ракурсах. Оно тесно связано с человеком и гораздо в меньшей степени со временем. Писатель прослеживает, как, высвобождаясь из искусственного пространства, человек становится самим собой, и как оно вновь засасывает его, лишая свободной мысли, любви и счастья.
* * *
Если в романе Е. Замятина можно только усмотреть политические аллюзии – хотя не раз считалось, что это произведение возникло как ответ на революцию, – то роман Т. Конвицкого «Mała Apokalipsa» (1979) целиком построен на темах политических. Именно они порождают дистопические мотивы этого романа, действие которого отнесено к будущему, спроецированному на настоящее. Также узнаваемо и пространство, очерченное писателем. Это Варшава и – шире – Польша в скором и неотвратимом будущем. В этих очертаниях с особенной силой проступает соотнесенность романа с дистопией.
Дистопические мотивы в романе Тадеуша Конвицкого «Mała Apokalipsa»
Тадеуш Конвицкий как бы продолжает линию, заданную Зыгмунтом Красиньским. Здесь также проступают евангельские мотивы, а Апокалипсис вообще становится определяющим для семантической структуры романа, название которого на это прямо указывает. Сакральные мотивы вступают в соотношения с утопическими, образуя мощную антитезу, определяющую смысловой строй всего произведения.
Утопические мотивы в романе образуют комплекс, хотя и принадлежат к разным видам утопии, антиутопии и дистопии. Они сплавлены и не могут быть оторваны друг от друга, так как их исходной точкой является реальная действительность. Ее Конвицкий не просто противопоставляет утопическим картинам, что обычно является задачей автора утопии. Он эту действительность превращает в утопию, не выстраивая никакого сравнения с ней. «Писатель препарирует состояние психики польского общества середины 70-х годов, комплексы и стереотипы, владеющие умами, используя не только излюбленную им ироническую интонацию, но и карикатуру, гротеск, сюрреалистические средства» [Хорев, 2000, 9].
В результате в романе сама действительность, не лишенная реальных, хорошо узнаваемых примет, предстает как воплощенная утопия с отрицательным значением. Это происходит потому, что приметы эти доведены до логического конца и предстают как абсурд реальности. Конвицкий пишет об истории, политике, о частной жизни своего героя. Все эти пласты переплетаются в романе, и создавшееся в результате целое видится столь пугающим, что творчество, свобода личности, общественные идеи, политика, история и современность резко меняются и предстают не только как гротеск, но явно насыщаются признаками утопии.
Если антиутопия в романе Конвицкого выписана тщательно и развита в различных направлениях, в том числе, по наблюдениям О. Цыбенко, она обогащается «проникновенно-лирической интонацией», то дистопия присутствует почти что скрыто. Однако ее признаки рассеяны по всему роману. Они не доминируют, так как прикрыты разработанным политическим памфлетом, с которым они взаимодействуют так же, как и с антиутопией. Дистопические мотивы имеют трагическое звучание, несут в себе «ужас истории», снимающийся с развитием центрального сакрального мотива добровольной жертвы.
«Малый Апокалипсис» строится на путешествии – типичном утопическом мотиве, использованном, как мы показали, и Красиньским в «Не-Божественной Комедии». Отметим, что герои Замятина не путешествуют, так как лишены права на перемещение в пространстве. Они правильными рядами перемещаются только по улицам Единого Города. Мотив путешествия у Конвицкого также не особенно разработан. Оно выглядит как бесконечные блуждания героя по давно знакомому городу, превращающемуся в подобие лабиринта. Это сходство усугубляется тем, что часть путешествия происходит под землей, в запутанных переходах, от одной точки городского пространства, спроецированной на подземелье, к другой. Эти блуждания иной раз выглядят как обычная прогулка, которую разрывают паузы – остановки героя, встречи со старыми друзьями и новыми знакомыми.
Их значение существенно усиливается постоянными сбивами во времени, характерными для утопии. Но герой, путешествуя, отнюдь не познает новый мир, как полагается в утопии. Путешествие приводит его не к познанию нового мира, а к самопознанию, которое у Конвицкого постоянно соотносится с пространством. Рост души героя завершается в главной точке художественного пространства – на площади перед Дворцом культуры. Здесь происходит акт добровольной жертвы, задуманный ранее как политическая акция протеста, к которой призывают главного героя общественные деятели. Но герой сам переосмысляет этот акт, и из политического он превращается в сакральный – так возникает мотив добровольной жертвы. Самосожжение перестает быть идеологическим вызовом. Оно приобретает глубинные семантические параллели с высоким образцом. Это позволяет вспомнить, что и Красиньский счел сакральный мотив решающим для своей «He-Божественной Комедии» – у него Господь побеждает историю. Вера у Конвицкого выступает против истории, что сближает его роман с комплексом основных идей романтизма. Как пишет О. Цыбенко, «Конвицкий не раз признавался, что чувствует себя в „когтях романтизма“» [Цыбенко, 2000, 55].
Следуя утопической традиции, герой путешествует не один, а с провожатым, который, по сути дела, ему навязан, хотя герой в нем не нуждается. Этот традиционный персонаж практически лишен изначально присущей ему функции. Более того, он провожатый наоборот. Он скорее следит за тем, чтобы герой не отклонился от заданного пути, который ему предписан политиками, противниками государственного режима. Провожатый этот очень странен и потому постоянно нуждается во все новых идентификациях. Он двоится в сознании героя. Как утверждает сам писатель, этот образ не только двоится, но даже множится, и из юного двойника писателя («Niby to ja odbity w cudzych oczach, a może to mój przedrzezniacz?» [Nowicki, 1990, 199]), которому присвоено имя автора, превращается в негласного сотрудника органов. Напомним, что снижение образа утопического провожатого происходит и в «Не-Божественной Комедии» Красиньского. Так еще раз возникают с ней переклички романа XX в.
«Малый Апокалипсис» выявляет свою утопическую природу не только в сюжетной линии, но и в отступлениях, прерывающих сюжет. Таковыми можно считать характеристики мало значимых персонажей, а также многочисленные отступления. Все они слагаются в философские обобщения, окрашенные в утопические тона. Если сюжет можно рассматривать в терминах антиутопии с явными элементами социальной сатиры, то отступления предстают как мотивы дистопии, только готовые развернуться в сюжет. Зачастую они обрывочны и свернуты, но тем не менее самым очевидным образом присутствуют в той картине мира, что создает писатель. Прежде всего они определяют пространство, постоянно сплетающееся со временем.
Дистопия, таким образом, разорвана и погружена в различные смысловые линии романа. Но именно она, а не социальная утопия и даже не антиутопия определяет его семантическую структуру и участвует в создании основной антитезы. Перед тем, как представить эту антитезу, рассмотрим движение и взаимодействие дистопических мотивов.
Если утопия выстраивает некий условный локус как положительный пример, антиутопия сравнивает его с уже имеющимся, то дистопия представляет собой «враждебную утопию», сформировавшийся ужас истории. Название романа отсылает к сакральному тексту, смысл которого по традиции увязывался с историческими событиями различных эпох. В нем прочитывали предсказания будущего конца света, который не раз относили к конкретной дате. Конвицкий не цитирует Откровение Иоанна Богослова, не пытается напрямую связать его с романом. Он выстраивает свой апокалипсис, на что в названии указывает определение – малый. Уже первая фраза романа гласит: «Oto nadchodzi koniec świata» [Konwicki, 1977, 5] – «ибо время близко» (Откр. 1. 3). Конец света распространяется на космос, мир, страну, город, человека и присваивается главному герою: «Это мой конец света», – утверждает он. Таким образом, личный апокалипсис главного героя строится в терминах дистопии, глубинной основой которой является сакральный текст, что придает роману особую семантическую насыщенность, объясняет и мотивирует кульминацию сюжета романа, усиливает его ведущую смысловую антитезу.
Конец света не отнесен к конкретному времени, а растворен в нем. Он происходит постоянно. Может быть, он даже уже совершился или совершается. Конец света – это и «медленное время». Он не просто приближается к миру, а подползает. Герой утверждает, что жить в этом замедленном конце всего сущего невозможно или просто не стоит. Конец света не означает полного исчезновения бытия. Оно еще существует, но разваливается, рушится, исчезает. Герой видит, как мир вокруг него будто рассыпается. Деструкция мира детализируется: все заканчивается – не только жизнь, но и полезные ископаемые, и запасы воды в природе. Эти явные дистопические признаки картины мироздания проецируются на быт, который описывается в опоре на цитаты из Откровения Иоанна Богослова. Так, вечер в ресторане вызывает у героя следующие ассоциации: «Huczało wokół jak w dolinie Jozefata w przed-wieczerz dnia ostatecznego» [Konwicki, 1977, 114]. День последний, день Страшного суда упоминается в тексте не раз. Например, однажды выражается надежда на то, что в этот день не будут судить за равнодушие. Апокалиптические приметы рассеиваются в мире. Даже радио на улице гремит, как глас Божий в день Страшного суда. Перед нами Апокалипсис «континуум».
Конец света представлен не только через понятия конца всего сущего и разрушающегося мира. Герой видит его как царство тьмы и холода, т. е. как царство мертвых. Это подземное царство «mrocznych pieczar i lodowatych jaskiń» [Там же, 8], куда человечество въезжает на автомобилях. Среди устойчивых признаков смерти доминирует признак холода. Люди боятся надвигающегося ледника. Встречаясь на улицах, они не обмениваются ничего не значащими фразами, а ведут разговоры о будущем всемирном обледенении. Главный герой видит в этом разрешение всех проблем, так как ледник разом покончит со всем миром. Конец света трансформируется также в мифологему потопа, которая тут же снижается. Один из персонажей, философ-марксист, определяет будущий конец света не только как потоп, но как океан дерьма, заливающий человечество.
Длящийся конец света определяет художественное пространство романа, которое можно представить по нисходящей: космос – природа – мир – страна – город.
Космос на страницах романа искажается стремительно. Он распадается на атомы, готов взорваться и стать ничем. Солнечная система сошла с орбит и несется в глубь неведомого, вся Галактика движется в бездну небытия, звезды в беспорядке летят в межпланетное пространство. Планета Земля, которую трудно узнать, может быть, тоже давно улетела от людей и несется, подобно голубю, среди далеких и незнакомых галактик. Таким образом, конец света охватывает мироздание, приходящее в беспорядочное движение. Им не управляют ни законы природы, ни Господь Бог. Конкретизируются приметы конца света в природе, окружающей человека.
Нарушился вековой ход вещей, природа забыла свои собственные законы. Она уже даже не хаос, который в мифопоэтическом сознании подлежит космизации. Природа уходит в небытие. Небо устало от климатических аномалий, оно измучено ракетами и философами и только выглядит молодым. Облака на нем какие-то странные, разноцветные. Напомним, что и героя Замятина особенно привлекали облака. Изменения небесной сферы приводят на память слова Откровения: «И небо скрылось, свившись, как свиток» (Откр. 6. 14).
Что-то случилось и с животным миром. Раньше ласточки летали, предвещая ясную погоду, теперь же они летают бесцельно. В этом замечании кроется глубокий смысл. В распространенном поверье Конвицкий усматривает указание на глубинную связь человека с природой, которая теперь разорвана. Волков не осталось на земле, здесь живут только люди. В лесу растут последние и только ядовитые травы и поганки. В садах – крошечные деревья с крошечными же плодами – «и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела» (Откр. 8. 7). В городе резвятся зараженные раком бабочки. Так писатель вводит мир природы в космическое пространство, одновременно сталкивая его с реальным миром людей, где все переворачивается и изменяется, грозя тотальным разрушением и смертью.
Природа, как представляется герою, не может далее существовать. Об этом свидетельствуют своеобразные замешательства и сбои в ее ритме. Времена года почти сливаются, мешая друг другу. Однажды сказано прямо: «Rozmydlili nawet pory roku <…>. Wszystko leci razem: śnieg, słońce, wicher, deszcz» [Konwicki, 1977, 58]. Примечательно, что Конвицкий вспоминает о реальных природных аномалиях и заявляет, что был такой год, когда в июле однажды было восемь градусов тепла, а назавтра шел снег, падал град и были заморозки. Делает он это для того, чтобы совместить реальный и дистопический планы романа, представить нарушение циклического времени. Автор передает его, тщательно и подробно описывая катастрофические чередования тепла и холода. Так он замечает, что, несмотря на солнечную погоду, о которой трудно сказать, весенняя она или осенняя, очевидна близость зимы, что скоро выпадет снег: «Idą dni zimowe, straszne, czarne» [Там же, 65]. Конвицкий варьирует это описание. Вот над Варшавой сияет голубое флорентийское небо, но тут же идет дождь со снегом, дует морозный ветер, а потом начинается невероятная жара, и все ждут урагана. «То jest jedna рога roku na wszystko», – подытоживает он угрожающую ситуацию.
Писатель строит ее, как бы сгущая время. Все контрастные изменения происходят в течение одного дня. День – это сюжетное время романа. Он начинается как мрачный безнадежный осенний, с тучами, дождем и ветром, уступающими место граду и ливням, а затем яркому весеннему солнцу. Вдруг гремит гром, затем светит солнце, после чего воет дикий ветер и идет холодный дождь, предвещая «ночную зиму». Упоминание о «ночной зиме» свидетельствует о том, что времена года и время суток сливаются воедино. Иногда циклическое время как бы разваливается. Времена года смешиваются не на всем пространстве. Они разные в разных районах города. На Ординацкой лежит снег, падает град, а на Маршалковской ветер устало гонит осенние листья. Конвицкий старательно отмечает все эти аномальные явления природы, создающие мощный семантический фон дистопии. Они собираются в знак недалекого конца света, который, может быть, уже совершается.
Искажениям и зловещим изменениям подвержено не только циклическое время, но и историческое: «Неопределенность времени романного действия способствует стиранию границ между действительностью воображаемой и исторической» [Цыбенко, 2000, 61]. Время в романе изменяет свой ход, настоящее сплавляется с будущим. Люди потеряны, дезориентированы во времени, которое от них прячут власти. Герой боится спросить не только дату, но и узнать, который сейчас год, так как ему обязательно ответят вопросом на вопрос: «А ро со to panu?» [Konwicki, 1977, 28]. Так входит в действие типичный дистопический мотив. Он развивается на протяжении всего романа таким образом, что кажется, будто время уже вообще отменено.
В газетах даты тщательно замазаны или написаны так, что их невозможно прочитать. Все календари, которые видит герой в течение дня, открыты на разных страницах. Один календарь фиксирует какой-то день апреля 1980 г. Другой, старый, пожелтевший, – 22 июля 1979 г. У каждой отрасли промышленности свой календарь, так как все по-разному выполняют и перевыполняют планы, и в общем-то все давно живут по солнцу. Еще существует «импортный» календарь, верно ориентирующий во времени, но он спрятан в огромном сейфе в кабинете министра госбезопасности. Министр отрывает листок за листком, а потом сжигает их, превращая в пепел. Откуда взялся этот календарь и насколько он верен, неизвестно. Не только в Польше, но и на Западе спутано время.
Историческое время сужается до времени существования социалистической Польши, что не придает ему определенности. Какую годовщину свободной социалистической Польши сейчас празднуют, сороковую? Может быть. Но в колбасной, например, уже пятидесятую. Дети на улицах несут лозунг еще с одной датой – 35-летие ПНР. Возникает еще одна дата – 60-летие. Размышляя о ней, люди догадываются, что государство скрывает свой возраст – «dodało sobie parę ładnych lat» [Там же, 127]. Таким образом, время истории не в состоянии вернуться к архетипу. Оно фальсифицируется и социалистическими лозунгами, которые также относятся к неопределенному времени. Время приобретает свой исконный смысл ненадолго и только с появлением прошлого, которое врывается в дистопическое настоящее как напоминание о юности, любви, идеалах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.