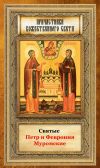Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 72 страниц)
Итак, на «охотницкой» сцене человек раскрыл свои возможности. Он предстал перед зрителем как человек телесный. Актер теперь играл телом, в чем ему помогали костюм и в меньшей степени маска. Он изображал человека реального, который пусть был мало похож на короля или рыцаря. Это не мешало зрительскому восприятию, тем более что таких важных персон в Москве и не бывало. Человек на сцене был наделен чувствами, которые изображал актер, уже используя многие возможности театрального языка, что по сравнению со школьным театром было решительным шагом к раскрытию природы искусства сцены. Изменения, произошедшие с человеком на сцене, свидетельствовали об изменениях его позиций в культуре.
* * *
Рассматривая в этой главе человека, мы говорим о нем и как об актере. Его образ по-особенному раскрывается в театре, так как там он выступает в двух ипостасях, принимая на себя личину, становясь другим и оставаясь самим собой. Для изучения историко-культурных процессов человек на сцене, пожалуй, даже более интересен, чем исследование сценических образов, им создаваемых. Хотя драматические тексты также заслуживают внимания в историко-культурном плане. Подытоживая наши наблюдения, сделаем некоторые выводы относительно актера.
Как человек превращается в актера
Вхождение человека в театр – трудный и сложный процесс. На этом пути, как мы показали, он преодолевает множество запретов и препятствий, а также самого себя. Представления об актерской технике еще не сформировались. Человек на сцене с трудом и постепенно входил в образ другого, то приближаясь к нему, то отталкиваясь. Тем не менее, такой процесс во многом выявляет природу театрального искусства и позиции актера. На сцене проигрываются или «куски жизни», или представляется мироздание в целом, когда человек всего лишь означивает роль, но еще не играет, в чем не видится никакого ущерба для театра. Напротив, так расширяются его границы. «Люди на сцене не обязательно актеры, действующие особи» [Гачев, 1968, 242].
И в том, и в другом случае человек на сцене становится частью искусства, трансформирует себя самого, становится неким художественным образом, не утрачивая своих собственных черт – физических и психологических. Он одновременно выступает объектом художественного воспроизведения (роль) и материалом, из которого творится искусство (исполнитель). Через этот синтез особого рода раскрываются основные принципы поведения человека «раздвоенного», становятся очевидными как правила этого поведения, так и запреты, сдерживающие его.
Очевидно, что человек по-разному ведет себя на сцене в театрах различных эпох. Особенности его вхождения в игру и само театральное действие зависят от тех культурных контекстов, в которых функционируют те сценические площадки, на которых он выступает. Одни виды театра выдвигают на первый план телесность актера и доверяют только ей. Другие поручают произнесение ораторских монологов и сдерживают сценическое движение. Один театр погружает актера в проблемы метафизические, отвлекаясь от него самого. Другой – призывает к имитации реальности. При этом основные способы представления на сцене образа «другого» сходны. Только они используются различно и в разной мере.
Театр создают актеры и зрители. Они неотделимы друг от друга. Не случайно П. Брук однажды сказал, что театр может возникнуть в ситуации, когда человек находится в пространстве, необязательно отличном от повседневного. Чтобы театр состоялся, на человека должен смотреть другой человек. Диалогическое их единство – основное условие существования театра. Так великий режиссер указал на то, что театр создает не только актер, но и зритель. По отношению к представлению зритель занимает особую позицию, так как он проникает в его смысл, принимает его как иллюзию, условность. Чтобы усвоить театральную специфику, зритель должен научиться воспринимать человека на сцене в двух измерениях – как исполнителя и как роль, между которыми происходят постоянные колебания. Уловить люфт, существующий между актером и ролью, – одна из задач зрителя, с которой он не всегда справляется. Вдобавок он воспринимает спектакль не только эстетически. Всякий театр имеет и внеэстетические функции, иногда даже подавляющие эстетические.
Зритель – важный участник спектакля, который ему адресован. Его соучастие бывает неявным, когда представление играется на сцене-коробке. Ситуация выглядит по-другому, когда театр отказывается от рампы вообще или принципиально ее нарушает. Напомним о том, что Станиславский полагал необходимым налаживать связь между актером и зрителем. С его точки зрения, этому мешали большие театральные залы, в которых зритель никак не мог себя почувствовать тем, кем он должен быть, – активным свидетелем спектакля [Osińska, 2003, 98].
Человек на сцене – главная специфика театрального искусства. Он притягивает наибольшее внимание как инструмент особого рода, с помощью которого создается искусство здесь и сейчас. «Актер – это человек, работающий своим телом и делающий это публично» [Гротовский, 2003, 68]. Все остальные составляющие спектакля пришли на сцену из других видов искусства – литературы, живописи, музыки, архитектуры. На сцене эти составляющие становятся знаками искусства живописи, литературы и проч. Человек среди всех составляющих выдвигается на первый план, потому театр не раз называют искусством личности и определяют его только через актера: «Театральный сценический акт есть акт актера» [Шпет, 1988, 37].
Очутившись на сцене, человек преображается. В идеале он становится художником, творящим на глазах у публики. «Актер – не тварь лишь, но и творец» [Гачев, 1968, 243]. Его материал – он сам. «Материал актера – актер-человек, человек – как психофизический организм, как состав ощущений, настроений, самочувствий» [Степун, 1988, 73].
Существуя в театральном времени-пространстве, человек тем не менее остается самим собой, но он играет роль, т. е. принимает некое новое качествование. В этом состоит двойственность актерской игры. Полного наложения роли и Я актера не происходит, хотя существуют школы, как школа Станиславского, где требуется «почти отождествление» актера с персонажем.
Внешне актер зачастую стремится к полной идентификации с изображаемым им лицом, но не всегда. Иногда, напротив, эстетически заданным становится его расподобление с ролью. Колебания между ней и актером становятся знаком театрального направления. Актер может настаивать на определенной дистанции между своими данными и стандартными представлениями об облике персонажа. Так он отдаляется от роли, особенно в том случае, если уже сложились традиции ее исполнения. Это отдаление превращается в художественный принцип. Двойственность актерской позиции становится основой нового театрального языка, как у Б. Брехта. В его театре актеры всегда сохраняют дистанцию по отношению к роли. Эту же позицию они предлагают зрителю, с которым во всех актерских школах существует «активно-творческая» связь [Е. Калмановский].
Такова важнейшая сторона динамического существования актера в спектакле. «Лицедейство всегда должно чувствоваться за и под воплощением. Если же воплощение подавит лицедейство – исчезнет само игровое воззрение на мир, свобода от его отвердений как чего-то временного, и тварь заслонит творца» [Гачев, 1968, 248].
«Актер оказывается тем особым масштабом, который сопоставляет мир искусства с миром как таковым, организует и направляет наше восприятие пространственно-временных обстоятельств спектакля» [Калмановский, 1984, 87]. Он не только воспроизводит текст и следует авторским ремаркам, но преображает данный ему материал, обращаясь «к своему голосу, интонации, декламации, фигуре, – словом, к своей маске-лицу (persona)» [Там же, 32]. Он играет, пользуясь различными средствами, данными ему природой, использует свои психологические и физические возможности. «Его игра, несмотря на возможности импровизации, подчинена строгому порядку, организована, в том числе, благодаря ритму спектакля. Актер – личность „безличная“; свое реальное лицо покидающая за кулисами, в своей уборной, и выносящая на сцену хотя свое же, но не реальное, а художественное лицо и свою „роль“ воображаемого лица» [Шпет, 1988, 41].
Игра – это форма и смысл театра. Театр существует ради игры. Он придает ей осмысленность и законченность. «В написанной пьесе – действие – пустое место, которое должно быть заполнено актером, искусство коего <…> никак не вторичное, повторяющееся какое-то действие, а первичное – подлинное творчество» [Там же, 34]. Традиционно игра претендует на целостность, так как в основе создания театральных образов лежит синтез. Но возможно обратное, когда в игре преобладает анализ, что типично для авангардного театра. Тогда игра распадается на составляющие, и одна из них начинает доминировать в спектакле.
Такой доминантой выступает действие, превалирующее над словом и перевоплощением, что разрешает назвать театр искусством действования [В. Н. Всеволодский-Гернгросс]. Действия актера не хаотичны и подчинены «сверхзаданию» даже в том случае, если оно явно не сформулировано. Они насыщены смыслом наравне со словом. Эти действия, даже совпадая внешне с реальными, повседневными и бытовыми, таковыми не являются. Внутренне они с ними расподоблены, что соответственно меняет их рисунок. Среди действий может выделяться движение, и тогда сцена становится настоящей «областью движения» [М. М. Волькенщтейн]. Различные его виды структурируют пространство, раскрывают внутренний мир персонажа, его отношения с другими действующими лицами. Движению сопутствуют сценические жесты.
Театральное движение, как бы оно ни копировало реальное, никогда с ним не сближается, что не раз подчеркивается на сцене. Так, в старинном театре существовали правила постановки ног актера, вырабатывалась специальная сценическая походка, «балетная выступка». Просчитывались все возможные варианты положения актера на сцене относительно зрительного зала и других персонажей. Всем корпусом он, например, поворачивался к зрителям, головой – к персонажам. Г. Д. Гачев в своей работе «Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Драма», рассматривая различные виды пространства, возникающие в театре, замечает, что актеры на сцене «действуют не в круговом, но в обращенном пространстве – повернувшись к зрителю» [Гачев, 1968, 216].
Тип движения тщательно разрабатывается в театре, тяготеющем к пантомиме. Не меньшее внимание ему уделяется, когда движение приобретает символические значения. Если с ним не ведется никакой работы, начинается детеатрализация: «Никакое реальное действие, первичное или производное, имитирующее только, отнюдь не есть театральное искусство, не есть актерство» [Шпет, 1988, 32].
То же можно сказать о жестах, которые не существуют изолированно от движения и в идеале образуют некую законченную систему или, по словам С. С. Мокульского, некий «пантомимический» период, «который должен также полно выражать настроение известного момента, как и сопровождающий его словесный период» [Мокульский, 1926, 89]. В некоторых видах театров система жестов выдвигается на первый план и определяет рисунок роли, как в комедии дель арте. Тогда жесты, как и движение, резко расподобляются с реальностью по правилам, несоблюдение которых разрушает спектакль.
Движению и жесту могут подчиняться сюжет и художественное пространство. Так спектакль приближается к пантомиме, приобретает развитое хореографическое начало, как у Таирова, для которого «мистерия и арлекинада олицетворяли собой „два лика одного и того же единого театрального существа“» [Щепеткова, 2000, 216]. Или у Мейерхольда с его идеей биомеханики. Драматический театр мог превращаться даже в «акробатический».
Тип движения и жеста иногда отдаляет актера от образа человека, приближает к машине, к чему стремились С. Волконский, Ип. Соколов: «Прежде всего актер на сцене должен стать автоматом, механизмом, машиной»; «Человек – машина: да, эта машина чувством приводится в движение и чувством „смазывается“, но, поскольку она машина, она подчиняется общим законам механики» (цит. по: [Ямпольский, 1986, 197]). Это положение – одно из частных в общем движении авангардного театра, направленного «против» человека на сцене. Так в театре реализуется тенденция первых десятилетий XX в. придать машине эстетические измерения, выдвинуть ее на первый план и поставить в один ряд с человеком. Оппозиция человек / машина реализовалась в то время во всех сферах искусства. Человека, как известно, на сцене заменяет не только машина, но также марионетка и другие виды кукол, а также сверхмарионетка [Г. Крэг].
Действия, как движение и жест актера, непременно ритмичны. Иногда ритм становится доминирующим принципом постановки. Существует театр, построенный по законам метроритма. Движения актера в нем повторяют метр двудольного и трехдольного поэтических размеров. Актер зависит от «лада, театральной гармонии, контрапункта». Может ритм спектакля подчиняться законам симметрии. Это не значит, что в действиях актеров постоянны повторы. «Художественный ритм создается не буквальным повторением какого-либо выразительного элемента, а его претворением в новой, постоянно возобновляющейся художественной целостности, его интонированием и акцентированием. В этом плане ритм оказывается категорией художественного смыслообразования» [Сапаров, 1976, 101].
Может в игре преобладать не действие, а перевоплощение. Н. Н. Евреинов считал его главной формой театральности и называл формой преэстетической [Евреинов, 1923, 28]. А. И. Белецкий полагал, что театр вырос «из владеющей человеком страсти к самоизменению, к преображению своего „Я“ и окружающего мира» [Белецкий, 1923, 6]. В перевоплощении на первый план выходит изменение внешности, грим, который П. Пави называет «живым костюмом» актера. Гриму противостоит в своей неподвижности маска, к которой испытывает интерес и XX в. Она представляет характер, а не сплетение эмоций и жизненных переживаний. В маску по замыслу режиссера может превратиться и лицо актера.
Перевоплощению способствуют не только изменения внешности, но и голос, интонация, походка, жестикуляция. Не все эти средства обязательно используются одновременно, как в театре комедии дель арте, который ставил специальные комедии «с трансформациями» и где все действие основывалось на многократных перевоплощениях. Например, в народном театре практически ничего не значит мимика. Там исполнитель прежде всего хочет быть услышанным. Он рассчитывает на то, что зритель будет лишь различать его силуэт, который, например, может выделяться с помощью света. В символическом театре на первый план выходит работа актера с голосом. Это не значит, что другие виды театра не обращают внимания на сценический голос. Достаточно вспомнить ту огромную работу, которую вел Е. Гротовский со своими актерами, учил их ставить дыхание и отыскивать нужный резонатор, о чем он пишет в своей работе «Голос».
Актер достигает перевоплощения через многофункциональный театральный костюм. С одной стороны, костюм связывает актера с художественным пространством, вводит в мир пластических образов, где может преобладать не форма, а цвет. Костюм более других художественных средств, находящихся в распоряжении актера, служит воссозданию исторических картин на сцене. Он всегда характеризует персонажей, играет наравне с ними. Имеет символическое значение.
* * *
Представив человека как объект религиозно-философских размышлений, человека как актера, который по-разному проявляет себя в разные эпохи развития театральной культуры, обратимся теперь к герою эпохи романтизма, чтобы представить его в обобщенном виде на основании его доминантных характеристик.
Романтический герой
Романтики были уверены в том, что не Бог и не природа, а только человек, «созидающий благодаря своей бессмертной индивидуальности, вопреки природе, во имя Бога и против него» [Krasiński, 1912, 22], определяет картину мироздания. В характеристике человека тогда сошлись все силовые линии культуры. Оппозиции Бог / человек, человек / природа непременно участвовали в создании его образа. Романтики открыли бессмертную индивидуальность человека, которую искали во всем. Красиньский называл, например, поэзию человеческой индивидуальностью во времени. Человек лишился статичных антитетических черт, которыми его наделяли в эпоху Просвещения. Он перестал быть некоей схемой Я, которой был в эпоху барокко, где не существовал изолированно от небесных и адских сил.
Человек в романтической литературе приобрел множество противоречивых и не до конца прописанных черт, которые еще не были конкретизированы настолько, чтобы он утратил свою условность. Эти черты были частью его психологической характеристики, ставшей важнее прочих. Романтизм открыл для себя внутренний мир человека. Аналогичные процессы происходили и в других сферах искусства, например, в живописи. Портрет тогда развивался «от портрета-характеристики к портрету-состоянию» [Вдовин, 1999, 168].
Сконцентрировавшись на человеке, романтики вовсе не стремились к его целостности. Сделав его центром Вселенной, они сохранили его раздвоенность. Теперь не только дух был противопоставлен плоти. Дух сам оказался раздвоенным. Он вел вечное сражение с самим собой. Одна его часть, по словам Красиньского, уничтожает себя ядом смертельной любви, другая – тягой к небесной благодати. Конечно, в этой раздвоенности просвечивает устойчивая связь с христианской картиной мира, но она не имеет разрешения, в чем состоит особенность воззрений романтиков на связь человека с картиной мира. Человек, занимая в ней центральное место, не может, сделать окончательный выбор, всегда подводящий итог метаниям и поискам барочного персонажа, – выбор между небом и адом. Конечно, здесь речь не идет о персонажах плутовских романов.
Романтический герой постоянно совершает не один выбор, а множество. Он колеблется между ними и таким остается всегда. Потому его образ не завершен и тяготеет к бесконечности. На герое теперь лежит ответственность. Он стоит перед лицом Вселенной, приобщен к жизни всего сущего и сам «ответственно начинает ценностно-смысловой ряд своей жизни» [Бахтин, 1979, 156]. Правда, ему сложно сделать это из-за своей раздвоенности, из-за вечного борения духа. Он теперь находится не только среди отвлеченных понятий и категорий, какими являются аллегории, но и среди себе подобных. Их отношения описываются уже не так, как в эпоху Просвещения. Социальные характеристики уходят на задний план. Рациональные решения романтическому герою не свойственны. Для него главное – отличить носителей духовного начала от тех, которые его вообще лишены. «"Я" – теперь не просто ценность первого порядка, но и, по существу, единственно возможная ценность. Другой же человек выступает либо как абсолютное подобие „я“, его эманация и двойник (в этом смысле не обладает самостоятельным значением и бытием), либо оказывается противоположностью „я“ – воплощением прозаической бездуховности» [Корман, 1983, 5].
Перед тем как составить обобщенный портрет романтического героя, остановимся на характеристике персонажей Мицкевича и Красиньского и их функциях в сюжете. У Мицкевича, как мы уже показали, главный герой «Дзядов» выступает в разных ипостасях, несет явные мифологические черты, так как появляется уже после того, как закончил свой земной путь. Поэтому из этих его ипостасей можно лишь вычленить приметы потенциального «реального» героя, развернуть темы, с ним связанные.
Напомним что, уже в стихотворении «Упырь» задана тема влюбленного, покончившего с собой из-за несчастной любви. Призрак во II части «Дзядов» – это еще одна ипостась того же героя. Его ведет на землю любовь, явно приобретающая признаки совершенного состояния духа. Этот же герой, но одновременно и другой, появляется в IV части «Дзядов» в образе Густава. Из его спутанных речей можно выявить некоторые сюжетные мотивы. Ведущим среди них выступает мотив несчастной любви, приведшей к самоубийству. Он дан на фоне романтической биографии, в которой определяющую роль играет разлука с возлюбленной. Густав сбивчиво рассказывает свою историю, переживая прошлое в отведенное ему время. Он уже находится «по ту сторону», но, вернувшись ненадолго на землю, вновь подходит к той точке своего жизненного пути, которая переместила его в мир мертвых, к самоубийству. В III части происходит преображение героя «Дзядов». Он меняет имя, и он теперь уже не Густав, а Конрад. Его ведет любовь не к женщине, а к родине. Тема свободы пронизывает эту часть драматической поэмы.
Если во II части Призрак одинок и лишь тянется к молчаливой Пастушке, то в IV части Густав вступает со Священником в беседу, превращающуюся в исповедь. В III части герой наиболее активен. Его образ приобретает смысловую полноту при сопоставлении с другими персонажами, в первую очередь, с Петром. Им обоим противопоставлен Сенатор и его окружение. Это три персонажа, организующие композицию III части. Сенатор и Конрад – противопоставленные фигуры, Петр появляется и с тем, и с другим, одухотворяя порывы Конрада и осуждая Сенатора. Он объединяет этих персонажей, как и всю часть в целом. Его видение – ее смысловая кульминация [Kleiner, 1981, 219–226].
Упырь, Призрак, Отшельник (Густав), Конрад – это все ипостаси единого и «неуловимого» романтического героя, постоянно меняющего обличье. Каждый из них – это разные модуляции того тона, который задан Прологом. Из той «вселенной человеческих форм и сил, которая таится в душе поэта» [Жан-Поль], Мицкевич извлек формы единого Я, или единого героя поэмы.
В «Дзядах» романтический герой или вообще не имеет имени, или меняет его. Он может называться по имени, как в IV части, или по «состоянию духа», как во II части. Неустойчивость имени, как и его отсутствие, значимо. Эта ситуация свидетельствует о шаткости позиций героя, который прежде всего выступает носителем чувства или идеи, а также о единстве всего этого ряда персонажей «Дзядов», отражающих друг друга. «Каждое новое имя (и связанный с ним облик) – это своего рода лишь новая личина, под которой скрыта неисчезающая субстанция» [Ростоцкий, 1976, 90]. Подтвердим этот тезис схождением некоторых частных мотивов. Например, Густав в IV части мечтает о том, чтобы его возлюбленная хотя бы один день носила траур. Во II части в трауре выходит Пастушка, оплакивающая своего возлюбленного. Так происходит семантическая перекличка на страницах всей поэмы.
Красиньский в «He-Божественной Комедии» предпочитает создать образ единого героя и не раскалывает его на многочисленные отражения, что не означает, будто этот герой остается неподвижным и неизменным. Он не просто развивается, но кардинально меняется от одной части «Комедии» к другой. Поэт проводит его через различные жизненные ситуации. В зависимости от них выбирает разные жанровые приметы частей «Комедии», что меняет и самого героя.
Однажды Красиньский сказал про своего героя, что он содержит в себе целый мир идей, событий, действия, борьбы и страстей. Мицкевич заметил, что все персонажи «Комедии» «движутся, как тени волшебного фонаря, показывая нам только профиль и редко – весь облик. Мимоходом они бросают несколько слов» [Mickiewicz, 1955, 77, 78]. В этом замечании видится тонко намеченный образ романтического героя вообще.
Хенрык, выступая в разных ипостасях, видится то как персонаж осовремененного моралите, то социальной утопии. Являет он «реальные» очертания, когда погружается в семейную драму, данную лишь штрихами. Она намечена в мелодраматическом ключе. Хенрык сам противопоставляет себя пошлому обществу и скучной жене. Он отчужден от повседневной жизни, ибо чувствует в себе дар поэзии. Преображаясь в поэта, он готов ринуться в адскую пропасть за иллюзией искусства. Становится он аристократом, сражающимся против революции за идеалы прошлого.
Хенрык не нашел счастья в семейной жизни. В ней нет ни красоты, ни любви, ни поэзии. Его жена печется только о «домике и садике». Даже в полусне она говорит о поездке в город за покупками, о том, какой торт нужно заказать на крестины сына. Хенрык рвется от нее вдаль, к искусству. Он гонится за его миражом, уверенный в том, что образцовый семьянин не может стать истинным поэтом. Чтобы служить поэзии, он должен порвать с семьей. Жизненная позиция художника очень занимала самого Красиньского. В одном письме он сказал, что каждый художник дорого платит за свое вмешательство в божественные тайны: «Ты не стал ангелом, остался человеком, и у тебя больше нет братьев» (цит. по: Q anion, 1962, 235]).
Поэзию и красоту для Хенрыка воплощает Дева, чей образ раздваивается. В погоне за ней Хенрык переживает обращение – ситуацию, обязательную для персонажа моралите. Прекрасная Дева в этом эпизоде выступает как посланница ада. Когда она заканчивает свою миссию, ее призывают адские силы: «Stara, wracaj do piekła». Так явно указывается на ее связь с сатаной, который готов покровительствовать Хенрыку в его стремлении к искусству. Теперь Хенрык понимает, что стал игрушкой в руках сатаны, что в пропасть его влекла страшная сила. Это сатана собирает воедино его отчаяние и вздохи, присоединяя к обманам и иллюзиям. Так родится ложная поэзия. Хенрык избегает ужасной участи благодаря Ангелу-Хранителю. Фигура Девы, символизирующая ложную или сатанинскую поэзию, исчезает. Хенрык спасен.
Таким образом, Красиньский наметил не только позиции поэта в реальном мире, но и его связь с высшими силами, указав на то, что поэт способен выбирать между добром и злом. Миссию поэта принимает на себя сын Хенрика Орчо, которым с ранних лет владеет слово. Его дар манифестирует слепота. Он, как и подобает поэту, видит все очами души. Хенрык только мечтал о поэзии, но не служил ей. Орчо – это жертва поэзии и своего дара.
Итак, в I части «Комедии» Хенрык – несостоявшийся поэт. Во II части направленность движений его души меняется. Оказывается, что он много лет работал над открытием «последнего конца всех знаний, наслаждений и мыслей». Теперь он осознал, что наделен особой силой, способен выдержать «хаос страстей, мыслей и чувств» и будет сражаться. Приготовления к сражению идет в двух планах – метафизическом и реальном. В реальном плане герой встречается с Философом, в метафизическом – ему является Мефистофель, списанный с гётевского, и предлагает заключить договор, на что Хенрык не решается. Также перед ним возникают эмблематические орел и змея, после чего Хенрык восклицает: «Matko naturo, bądź mi zdrowa – idę się na człowieka przetworzyć, walczyć idę z bracią moją» [Krasiński, 1973, 355] – «Прощай, мать-природа, я иду становиться человеком, иду сражаться с моими братьями». Так он расстается с поэзией и становится борцом за идеалы.
Эти две ипостаси внутренне не противопоставлены. Для романтиков резкая смена направленности героя мотивируется изнутри – этическое и эстетическое для них были равны по смыслу. Искусство и борьба за преобразование общества, по их представлениям, одинаково воздействуют на мир и человека. Слово поэта и деяния героя сходны, их жизне-творческие функции совпадают. Кстати, Мицкевич полагал, что Хенрык на протяжении всей «Комедии» остается поэтом, ведь поэт – это тот, «кто уходит с привычной колеи жизни, кто в своих действиях руководствуется высшей правдой» [Mickiewicz, 1955, t. 11, 26]. Синтез этического и эстетического начал просматривается в отношении Красиньского к аристократии, выраженном в «Комедии». В ней он видел значение поэтическое, а не только историческое или политическое.
Во II части «Комедии» Хенрык борется за прошлое. Идеи будущего воплощает Панкраций. Прошлое для Хенрыка – это славная Польша с ее традициями, это «прежде всего место, где находятся могилы знаменитых предков, <…> национальные традиции Польши – для него еще собрание рыцарских легенд и ее древних родов» Цапіоп, 1962, 107]. Панкраций видит лишь будущее. Оно для него царство всемирного счастья. Этот герой не имеет столь сложной характеристики, как Хенрык. Он – мерило социальных преобразований. Человечество ему кажется абстрактным понятием, отторгнутым от живой жизни. Зато новый человек – это его знамя. У него нет Бога, зато есть новая идея. Этот ложный мессия принадлежит материальному миру. Ему не дано проникнуть в мир духовных исканий Хенрыка, который иронически называет революционера гражданином богом. Панкраций будто продолжает ряд демонических героев романтизма, но перелагает их демонизм на язык истории. Будучи одержимым властью, Панкраций для своих целей использует веру в себя и в будущее.
Итак, романтический герой способен к изменениям, которые не мотивированы внешними событиями. Многие критики ставили в вину Мицкевичу отсутствие полноты Я героя «Дзядов», Конрада / Густава. Они требовали от поэта четко выверенной логической конструкции, а также меры и полноты, совершенно не признавая права поэта на свободное развитие образа и его бесконечность. Именно таким должен быть романтический герой, являющий собой реализацию жизни духа. Его развитие идет по ломаной линии. Характеристика никогда не бывает полностью исчерпана и последовательна. Ее принципы меняются с очень слабой мотивировкой, и на каждом отрезке своего пути романтический герой обретает новое содержание, движется в ином направлении, и ничто не предвещает, что в дальнейшем он это направление сохранит. Таким образом, целостность образа замещается насыщенностью множеством значением, ему присущих и зачастую противопоставленных.
Так, герой Красиньского, по словам Мицкевича, «содержит в себе все характеры, представленные польскими и иностранными поэтами. Это и Корсар Байрона, но Корсар обращенный; это и граф Вацлав, этот тип, созданный Мальчевским, который вернулся к повседневной жизни; это и герой Гарчиньского, философ, не способный к действию» [Там же, 62]. М. Янион увидела в позиции романтического героя отстраненность, которая, с нашей точки зрения, знаменует попытку поэта воспроизвести в «Комедии» прежде всего дух, а не его носителя; уловить дух, подвести к нему, так как адекватно передать дух казалось романтику невозможным.
Дух был главным героем того времени, в нем виделась суть романтизма: «Любование своим духовным бессмертием и целью своего духа, любование, доведенное до экстаза бессмертием духа, пусть скрытого хотя бы в цветах, должно быть источником поэзии – непрерывный полет духа, но не полет формы» [Słowacki, 1959, 95]. Красиньский однажды сказал, что «дух – это романтик, потому не ищи в нем классического закругления» [Krasiński, 1912, 41]. Духом поэты наделяли своих героев. Они были им пронизаны и наэлектризованы. Могли они выступать олицетворением духа, как Гелион, которого Словацкий изобразил бессмертным духом, вечно трудящимся над формой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.