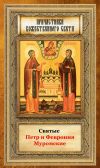Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 72 страниц)
Фигура Одиночества несла голубя и куталась в черное. Отчаяние выходило с веревкой в руках. Надежда – с якорем и в зеленых одеждах. О костюмах аллегорических фигур в символическом ключе говорилось со сцены. В «Трагедокомедии» Сильвестра Ляскоронского аллегорическая фигура Славы является «одеянна въ слонце». Весть в «Успенской драме» Димитрия Ростовского объясняет, зачем ей даны крылья: «Нарочно сими крили уперенна, / Да теми прелетаю чрез всю подсолнечну» [Ранняя русская драматургия, 1972, 178]. Символические аксессуары были индикатором сценического поведения аллегорий. Они имели не меньшее значение, чем их речи и жесты. Цвет костюма также участвовал в их характеристике.
В основном, как следует из приведенных выше примеров, на сцене контрастировали два цвета – белый и черный. В черном одеянии выступали «отрицательные» аллегории, в светлом выходили Ангелы, Вера, Свобода. Иногда происходило перераспределение цвета, и тогда добрый Гений превращался в черного «арапа алчности». Аллегории передавали свои символические аксессуары человеку: Надежда – якорь спасения, Мужество – венец.
О некоторых из аллегорий, наиболее распространенных, скажем подробнее. Слепая Фортуна – это «прекрасный контефект перемен», по словам польского поэта Ст. Г. Любомирского. Она может одарить человека, сделать его богачом, возвести на престол и сделать нищим, «една златом, другого дарует окови». Тема Фортуны связана с игрой, поэтому человек – это игрушка Фортуны или ребенок, с которым она играет. Ее атрибут – колесо. В случае удачи оно вращается в правую сторону. Поворот колеса влево знаменует несчастье человеческое: «Фортунов дом твой колом да точится правым» [Ранняя русская драматургия, 1974, 60]. Вацлав Потоцкий писал, что мы весело вращаем колесо равнодушной Фортуны, никогда не зная, чет выпадет или нечет. Фигуре Фортуны противопоставлены Промысел Божий, Провидение. Во многих пьесах они ведут параллельную и противопоставленную по смыслу интерпретацию событий, создавая таким образом двойную перспективу сюжета.
Время сближалось по своим значениям со Смертью. На польской школьной сцене Время и Смерть вместе исполняли танец, символизирующий разрушение всего сущего. Время, одетое во все черное, в руках держало песочные часы. Иногда ему давался серп, иногда труба, напоминающая о трубе архангельской. Называлось Время всепожирающим. Могло оно восседать на троне, но Смерть, переставая быть ему парой, убивала его и сама занимала трон. Также Время выступало в паре с Фортуной. В «Свободе от веков вожделенной» оно орошает ее посевы. Появлялись на школьной сцене аллегории времен года и самого года. Существовали персонификации дней недели, месяцев.
«Согласно христианскому учению, время присуще юдоли земной, вечность же царит в мире ином» [Гуревич, 2002, 50]. Время противопоставлялось Вечности: «…непонятно Времени, Вечности противно». Вечность вписывала в книги имена героев и уносила их в века, как «твердый адамант», Петра I. Она всегда спорила со Смертью, пугала Совесть адскими муками. Время, находясь рядом с Вечностью, вращало свой круг, подобно тому, как Фортуна – колесо. Вечности иногда давалось тройное колесо. Эта фигура не раз появлялась в панегирических пьесах. Она одаривала символами победы разных королей.
«Восприятие смерти, отношение к ней – доминанта сознания человека Средневековья» [Гуревич, 2002, 50]. Скажем, что позиции этой аллегорической фигуры не пошатнулись и в эпоху барокко. Она продолжала наиболее полно выражать амбивалентность всего сущего на свете, так как смерть это не только конец, но и начало. Ею кончается земная жизнь и начинается освобождение от нее. Она сияет в «бессмертной славе» и пугает своей лютостью. Является торжествующей, ни перед кем не отступающей и находится, по сути дела, везде, как в «Страшном изображении второго пришествия». «Смерть нападе на нь, смерть мне за плечима, / смерти по странах, смерти пред очима» [Ранняя русская драматургия, 1974, 105], – так выражается аллегорическая фигура Страх в этой пьесе. Хор поет: «Смертное время день всем приближися, / смертная коса на всех изострися, / Хотя пожати и велика / смерть человека» [Там же, 106]. Как видим, со Смертью связан мифопоэтический мотив жатвы. Она бывает слепой и не видит, кого «влечет до гробу». Ее основной атрибут – коса, которая может быть «исполнена» яда. В «Свобождении Ливонии и Ингерманляндии» она выезжает на апокалиптическом «коне бледом». Порой ее образ распадается и множится. Одиннадцать Смертей в «Страшном изображении» нападают на «злых» во время «пира и купования». Теперь не только коса, но и стрелы, меч, копье, лопата, «дреколь», нож, грабли и даже жезл у них в руках.
Мультиплицирование образа Смерти позволяет представить на сцене все ее орудия, направленные против человека. Известно, что иногда в иконографии Смерть снабжалась «целым арсеналом колющего и режущего оружия» [Бережная, 2003, 465]. Также для этой фигуры характерна способность пожирания и извержения пищи: «Смерть и на пирах в чашы заглядает, / ад изблевает» [Ранняя, русская драматургия, 1974, 106]. Смерти на сцене не раз сопутствовали мертвецы, как в «Действии на Рождество Христово», «жалобные гениуши», как в «Опере об Александре Македонском». Она венчалась с князем тьмы. Иногда Смерть неожиданно выступала рядом с Чистотой, борющейся с Купидоном. Эта аллегорическая фигура обладала правом оценки. Она обвиняла людей во всех грехах. Ее осмеивали, как в украинских «Виршах на Воскресение Христово». Участники этого диалога, Отроки, сначала хотят ее задобрить калачом, потом побить палками и оттаскать за волосы, но затем умолкают, вспомнив о ее всемогуществе. Смерти не только боялись, ее ожидали. Тема ожидания Смерти чаще, чем в театре, возникала в медитативной лирике.
Действия Смерти на сцене чрезвычайно разнообразны. Она не только угрожает и приводит свои угрозы в исполнение. Часто веселится, напивается вместе с Дьяволом и поет радостные песни. Танцуя, она приближается к грешникам и гонит их в ад. Этот вид движения аллегорической фигуры разрешает вспомнить о плясках смерти, в которых «величие духовного подвига людей, преодолевших смерть в смерти, получило сниженную трактовку и в упрощенном виде свелось к идее ничтожества человеческой жизни перед лицом этой могущественной силы. Сюжетную основу произведений на тему „пляски смерти“ составляло повествование о появлении призрака смерти перед людьми всех сословий, от императора до крестьянина, от епископа до последнего нищего» [Макуренкова, 2003, 207]. В редких случаях Смерть сама оплакивает свою жертву, как в пьесе «Слава печалная».
Видимо, одной этой фигуры школьным драматургам было недостаточно. Они, несмотря на то, что авторы поэтик, как Я. Понтан, требовали удаления сцен смерти и насилия, оскорбляющих зрителей чрезмерной жестокостью, постоянно показывали орудия пытки и виселицы. Крики истязаемых и их предсмертные стоны нарушали риторически правильно построенные монологи школьных пьес. Таким образом, мож но сказать, что телесное начало на сцене присутствовало, но раскрывалось в напряженные и трагические минуты жизни человека.
Человек страдал и умирал на глазах у зрителей. Иногда смертей было множество. Персонажи целыми семьями уходили из жизни, последовательно уничтожая друг друга, что особенно характерно для польских пьес о власти. Головы поверженных врагов не раз приносились на сцену. Иногда с ними танцевали, как бы вторя танцу Иродиады. Школьный театр охотно переносил на сцену библейские эпизоды, полные жестокости. Показывались на сцене разные казни: «Hie cremantur philosophi», «Тут Августі стинають голову» [Драма українська, 1928, 271, 288]. Всякий раз таким образом зрительское внимание приковывалось к телесному облику персонажа, который еще не получил полных прав на сцене. Но в какой-то степени он уже привлекал школьных драматургов, особенно в более поздних пьесах, правда, всегда в одном и том же плане.
Тело никогда не имеет «приятного» облика. Оно всегда отмечено знаками тяжелой болезни или бедственной жизни. Так, Георгий Конисский в «Воскресении мертвых» подробно описывает телесную оболочку своих персонажей – Гипомена и Диоктита. Он указывает на их физическое состояние, знаменующее положение в земной жизни. Гипомен – в «полусмерть прибитій», «по телу плетми избіенній», «въ рукахъ и ногахъ кости сокрушении», «тростю до мозгу… глава… пробита» [Драма українська, 1929, 167]. Диоктит же имеет вид здоровый, но вот приходит Смерть, и он начинает жаловаться: «Главу и кости ломит, коло сердца нудно. / В обоихъ бокахъ колет и дихати трудно» [Там же, 169]. По смерти Диоктит является «въ беде, в ранахъ, в струпах, в гною» [Там же, 174]. Гипомен же выступает в светлом одеянии.
По наблюдениям А. С. Демина, в житиях, во многих случаях послуживших толчком для развития моралите, тело человека также становилось объектом описания. Оно «являлось безусловно самым часто упоминаемым компонентом внешности людей во всех житийных произведениях» [Демин, 1998, 90]. Как и в житиях, в пьесах прежде всего «следили за тем, какой ущерб телу героя был причиняем во время жизненных испытаний, прегрешений и мучений» [Там же, 91].
Итак, в аллегориях выразилось стремление к зрелищности и вещественности и одновременно к абстрактности и статичности. Зрелищность привлекала к ним более всего. Я. Понтан писал, что аллегории больше влияют на зрение, чем на душу, что ему не нравилось. Нужно сказать, не ему одному. Против неразборчивого и частого выведения на сцену аллегорий выступал Я. Масен. М. К. Сарбевский вообще полагал их появление «противным» основам поэтики. Несмотря на это, аллегории продолжали выходить на сцену наряду с «реальными» персонажами, реализуя такую смысловую оппозицию, как видимое / невидимое, внешнее / внутреннее. Они позволяли увидеть незримое, невещественное. Привлекая наглядностью, аллегории вводили зрителя в мир невидимого, в мир абстрактных идей. Они не только нечто сообщали, но и своим видом материализовали это сообщение, которое читалось в визуальном ряде представления.
Аллегории наглядно показывали то, что в других театрах передается словом. Служа олицетворением космологических представлений, религиозных категорий, обобщенных черт природы человека, они имели конкретный облик. Следовательно, были смешением идеального и материального. В аллегориях постоянно совершался переход с уровня абстракции на уровень вещественности, которые спорили между собой. Потому Зиму можно было одеть в шубу, а не только дать Справедливости весы. Заметим, что в иллюстрациях синодиков Зима была нагим стариком [Сукина, 2003,398].
Аллегориям разрешалось совершать конкретные действия. Такая фигура, как Тело, например, высекала из кремния пламя, что должно было символизировать губительное действие страстей на душу человека. Дьявол устилал путь Человека терниями, Юнона – цветами. Аллегории соперничали между собой, как в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского. Они не только произносили правильно построенные речи, но были способны к эмоциям. Плакали и стенали, как Ревность Божия в «Торжестве Естества Человеческого». Не могли сдержать свой гнев, как Отмщение или Справедливость. Выражали они и радость. В целом, аллегории слабо, но все же подражали поведению возможных «реальных» персонажей. Следовательно, они по-своему намечали позиции человека на сцене и приближали к игре.
Несмотря на относительную «живость», аллегории призывали зрителя к рассуждению, а не только к рассматриванию. За ними требовалось не просто следить, но делать выводы из увиденного. Их сценический вид не вызывал, например, непосредственных представлений о власти. Всемогущего императора, совершающего самые разные действия, гневающегося на приближенных и радующегося своим победам, подменяла фигура в белом одеянии с венцом на голове и со скипетром в руках. Зритель слушал ее речи о пользе и вреде власти и размышлял о них.
Параллельное существование персонажа и дублирующих его аллегорий знаменует стремление ограничить возможности человека лицедействовать. Аллегории не подпускали его к действию и перевоплощению. Но на самом деле он это делал, так как в костюме аллегорической фигуры с символическими атрибутами в руках он решительно отторгался от жизни и попадал в мир абстрактных условностей. Следовательно, школьный театр сумел обойти главный запрет эпохи. В своих стараниях запретить человеку перевоплощение культура отдалила театральных персонажей от реального человека на такое значительное расстояние, что он стал неузнаваемым. Значит, он тем более был другим.
Он выступал не только в виде аллегорической фигуры, но, как уже было сказано, и Человека вообще, человека не индивидуализированного. Внешние проявления его жизни при этом не имели значения. Потому участник действия, по сути дела, не был настоящим лицедеем и приближался к оратору, что вовсе не означало полного отсутствия в его сценическом поведении элементов игры. Исполнитель пользовался некоторым набором средств, способствующих ее развитию, который существенно отличался от современного. Главное – реальность и игра разводились, что порой фиксировали ремарки: «Они же станут аки преступати» [Драма українська, 1929, 134], «z gniewem niby» [Там же, 195], «nosząc brzuch swój (pokazuie)» [Там же, 211], «два бутто пошли в городъ для покупки, а третій при овцахъ былъ» [Драма українська, 1927, 101].
О характере сценического поведения можно сделать выводы из отдельных реплик персонажей, например, пьесы об Алексее человеке Божием. Менее других запьяневший Мужик просит прощения у публики за всех своих товарищей: «Хмел – не вода, як кажут. / Панове! пробачте, / А на их пьяных за то дивоват не рачте!» [Драма українська, 1928, 153]. Актеры, изображающие пьяных мужиков жестами, походкой, совершали некоторые действия. Они отплясывали, напивались, а затем начинали драку. Представлялись на сцене и спящие персонажи. Засыпают Пиролюбец и Лазарь в «Ужасной измене». Только Пиролюбец спит на ложе, а Лазарь «на стране далече от трапезы леговитца на гною» [Ранняя русская драматургия, 1974, 64]. Пиролюбцу является Иов на гноище, Лазаря Ангелы, напротив, препровождают в рай. Пиролюбец просыпается, пытаясь вспомнить свой сон. Сон – это тот сюжетный мотив, который заменяет предсказания, часто встречающиеся в школьных пьесах.
Из приведенных выше ремарок следует, что зрителям предлагалось воспринимать действия исполнителей непременно как условные. Это должно было помочь осознанию игрового поведения. Конечно, их немного, что не снимает их важности. Касаются ремарки и положения вещи на сцене, которая непременно расподоблялась с вещью реальной. Как замечает В. И. Резанов, «вравие» (bravium), которое выносит на сцену Утешение, – это не то, что получила Богородица. Само Утешение сообщает, что оно лишь «по подобію сего» [Драма українська, 1928, 67].
Эти ремарки и высказывания персонажей свидетельствуют не только о специфике художественной природы театра, но и о стремлении передать о ней информацию. Они говорят о том, что школьные пьесы не сводились к простой декламации, что они уже тяготели к игре, пусть еще не столь интенсивной. Как уже говорилось, перевоплощение в них не было развито, так как было негативно отмечено в культурном сознании эпохи. Среди средств, которыми исполнители могли бы достичь перевоплощения, использовались немногие. С большей свободой, чем в серьезных пьесах, оно осуществлялось в интермедиях. Это не значит, что все школьные драмы выглядели однообразными и монотонными. Просто акцент в них ставился на других составляющих игры.
Изменения внешности с помощью грима практически отсутствовали не только в диалогах и декламациях. В этом отношении школьный театр был очень сдержанным. Хотя, может быть, в «Действии, на Страсти Христовы списанном», где Гонор говорит о «почварах», т. е. о Ериннес и окружающих ее аллегорических фигурах, какие-то средства изменения внешности использовались. Видимо, лицо Злочестивой души в «Трагедокомедии» Варлаама Лащевского, которую другие персонажи сравнивают с «головней», было выпачкано сажей, что практиковалось в народных обрядах. Эта фигура и сама говорит: «А ныне, яко зриши, твар оная бела, / Какъ жупелемъ геенскимъ вовся очернела» [Драма українська, 1929, 146]. Видимо, и Диоктит в «Воскресении мертвых» Георгия Конис-ского не лучше выглядел в загробной жизни. Гипомен, увидев его, вопрошает Ангела: «Что се за страшилище?» [Там же, 175].
Эти немногочисленные примеры свидетельствуют о том, что постановщики работали с внешностью исполнителей. То, что на внешность обращалось внимание, явствует из речей персонажей. Очень часто они говорят об облике других, пусть и в переносном смысле. Так, Cantus из пасхальной драмы гласит: «Где та лепота, где премудрост явна? / Где подобія истот Христу равна?» [Драма українська, 1928, 319]. Братья хвалят Иосифа, как отрока «видом доброзрачна, юна, здрава». Ангелы для Иакова – это «красные юноши». Мать Алексея именует Нищего, принесшего одежды сына, стареньким дедом. Злочестива Душа подробно рассказывает, как она выглядела при жизни: «Благовоннїе краски, драгїе белила / Устроевах на тваре, a чернія цвети / Прилепляхъ, зовомые мушки, на ланити» [Драма українська, 1929, 146]. Это описание модницы предлагается сравнить с обликом грешницы после смерти. Заметим, что в более поздних московских интермедиях речь также будет идти о мушках – этих главных приметах моды.
В «Комедии униатов с православными» Саввы Стрелецкого постоянно обыгрывается внешность православных священников, в том числе и ими самими. Униаты, например, указывают на «косматую» бороду Благочинного. Протоиерей, в свою очередь, просит их не намыливать подбородки и перестать бриться, так как отсутствие бороды никак не украшает человека. Этот персонаж произносит настоящую похвалу бороде, в связи с чем вспоминается известное сочинение М. В. Ломоносова.
Таким образом, в школьном театре физическая сущность исполнителя оказывалась практически невостребованной, но поиски возможных путей перевоплощения уже были намечены. Хотя чаще, конечно, драматурги обращались к языку символов. Особый интерес в этом аспекте представляет четвертое явление «Торжества Естества Человеческого», где Победа Христова торжествует на небеси. Ее окружают Четыре Животных. Первое Животное подобно льву, второе – тельцу, третье имеет лицо, как человек, четвертое подобно орлу летящему. Их изображение, видимо, сводилось к символическим атрибутам, которые выносились на сцену.
Перевоплощение достигается не только гримом, но и мимикой, которая не была развита. Можно отметить как постоянный ее элемент – «воздевание очес горе». Во многих ремарках говорится о том, что некто «вознес очи». Так направляет свой взгляд Пиролюбец, который иначе и не может видеть Лазаря. Ведь тот уже на небесах. В других случаях этот мимический жест означает смирение и обращение к Всевышнему, а также надежду. Царь Давид в «Умирающему человеку полезном увещании» просит этого человека, лежащего на одре, возвести очи. Надежда так обращается к Натуре людской: «Возведъ очи, посмотри, зостаешь между / Коими вещми» [Драма українська, 1927, 91].
Не меняя внешности, скупо используя возможности мимики, исполнитель зато многое доверял костюму. Он был постоянной величиной и служил своеобразным сигналом для зрителя, умевшего читать символические послания разного рода. Одеяние святого, светские одежды и убор короля не менялись от пьесы к пьесе [Kadulska, 1997, 44]. Зато изменялись их аксессуары. Значимым был способ ношения костюмов, о которых часто говорилось со сцены. О них ведутся споры в «Комедии униатов с православными», явно тяготеющей к воспроизведению «жизни» на сцене. В ней значительное внимание уделяется облачению униатов и православных. Персонажи рассуждают о преимуществах униатского и православного облачения. Протоиерей спорами не занимается, а прямо призывает униатских священников сбросить немецкое платье, в котором ходят только лакеи.
Особенно значимой была смена костюма, т. е. переодевание. Персонажи довольно часто меняют платье, в чем не видится стремления дополнить изобразительный пласт пьесы. В «переодевании» просвечивает литургическая подоснова. Как во время службы священники меняют облачения, с тем чтобы символизировать движение церковного календаря, переходы от печали к радости по мере приближения Пасхи или Рождества, так исполнители школьных драм, чтобы выявить внутренние состояния персонажей, смену их ориентиров в духовном мире, меняют свои одежды.
Подобное было особенно уместно в мистериях. В «Свободе от веков вожделенной» Натура, т. е. Человек, в одном эпизоде появляется в одежде отмщения. Когда Воины по велению Высокоумия одевают Любовь в «ризу светлу», зритель догадывается, что перед ним в символическом плане разыгрывается эпизод поругания Христа. Часто в мистериях этот эпизод маркировался облачением персонажа в царские одежды. Христа облекали в «хламиду» в «Мудрости Предвечной». Когда Милость Божия обращается к Ревности Матерней, предлагая ей принять «светоносную шату», зритель также понимал, что Христос призывает Богородицу на небо. Фигура Ревности Матерней так говорит о «шатах»: «Всех одеждою скорбей совлеченна, днесъ веселия в ризу облеченна» [Драма українська, 1925, 249].
Грехопадение первого человека обычно символизируется сменой одежд. Как только Срам, похвалявшийся сотней риз, одевает в одну из них Душу, она тут же покидает Эдем. Во «Властотворном образе человеколюбия Божия» Правосудие приказывает человеку отдать «красную одежду», а вместо нее дает «рубища шкаредная». Во время этого символического действия поется кант: «Что се, что се? Коль бедно дело, срамно зело, / Зримъ на тебе нине!» [Там же, 338]. Милосердие желает вернуть Душе «первую одежду». В польской пьесе «Grandis Aegrotus» после аллегорического изображения Страстей Господних Адаму возвращают одежды невинности. Одежда отмщения и первая одежда противопоставлялись по цвету – они были черного и белого цвета. Однажды Вера и Надежда в «Мудрости Предвечной» появляются в черных одеждах. Эти фигуры оплакивают Христа. Не только аллегорические фигуры меняли одежды, но и моралитетные персонажи, выступающие как при жизни, так и после смерти. Как только Лазарь в «Ужасной измене» предстает в жизни вечной, он меняет рубище на светлые одежды. Богач же появляется в ужасном виде. Уже он не «во виссон облечен».
В пьесе об Алексее человеке Божием переодевание происходит при жизни персонажей. Оно означает изменения в нравственном состоянии, которые вызывают смену социального статуса. В этой пьесе ремарки не раз сообщают нечто о костюмах. В одной из них, например, сказано, что «слуга другой Евфимиянов в худшом платню» зовет мужиков на свадьбу.
Часто ремарки подмечают, каков костюм св. Алексея. Именно так описывают его Слуги. «Чи не виделес панича якого / В шатах коштовных» [Драма українська, 1928, 169], – спрашивают они самого Алексея, не узнав его, ибо он уже одет в ризы ветхие и «непотребные».
Может быть, внимание к платью персонажей этой пьесы, даже второстепенных, вызвано тем, что один из важнейших в смысловом отношении эпизодов пьесы – это тот, в котором Алексей меняет одежды на пути из Рима в Едес. Он отсутствует в житии Алексея, но, как замечает В. И. Резанов, есть в житии Варлаама и Иосафата. Алексей встречает Старца и предлагает ему поменяться одеждами: «Ото перед тобою оные скидаю <…>. Дай ми свои лахманы, а в мои вбирайся» [Там же, 154]. Ремарка гласит: «Ту нищи з Алексеем плате меняет» [Там же]. Нищий боится надевать роскошное платье и, по совету Алексея, относит его Евфимияну. Таким образом, переодевание здесь не окончательное. Затем происходит сцена, цитирующая библейский эпизод. Евфимиян, получив одежды сына, сравнивает себя с Иаковом, а сына – с Иосифом.
Эпизод этот обычно представлялся в действах об Иосифе. В шестом явлении «Торжества Естества Человеческого» Иаков настоятельно просит принести ризу сына своего и узнает ее. Принимает ризу проданного Иосифа, «ложне от братии окривавленную». Братья подробно рассказывают, как они нашли ризу «раздранну». Над этой ризой Иаков произносит развернутый монолог. Также построен эпизод с ризой Иосифа в «Действии, на Страсти Христовы списанном». Значимость этого эпизода объясняется внутренней соотнесенностью одежд Иосифа с ризами Христа, о которых бросали жребий под крестом. Как Иосиф прообразует Христа, так его одежды есть прообраз ризы Христовой. Ризы, сорванные с Иосифа, встают в ряд со священными ризами. Лаврентий Горка на мотиве риз построил эпизод, в котором Пентефрий обвиняет Иосифа в соблазнении Велможи, жены его. «Где риза твоя? Где риза?» – кричит он.
Вновь вернемся к переодеванию в пьесе об Алексее человеке Божием. Он надевает «лахманы» нищего, чтобы стать неузнанным. В результате возникает прием ложной идентификации. Этот мотив используется во многих других школьных пьесах. В одной польской драме («Mistyczna kommunija w żalu niewinnych Karola i Fryderyka») принцы надевают одежды конюхов, и потому остаются не узнанными. Потом из конюхов они вновь становятся принцами. На этом же приеме построен сюжет пьесы «Sapientia Coronata». Император Север остается в живых только благодаря тому, что меняется одеждой с философом Талесом, который и погибает вместо него. Смена одежд есть и в других пьесах. Многие персонажи переодеваются не однажды, чем спасают свою жизнь или жизнь другого. Так школьный театр возвращается к своему «первосюжету». В польской пьесе о королевиче Уранополитанском («Akt miłości Bożego Syna przeciw grzesznikowi w królewicu Uranopolitańskim») ее главный персонаж, единственный сын короля, хочет спасти от смерти раба, покушавшегося на его жизнь. Для этого он проникает в темницу, меняется с ним одеждами и погибает. Не раз сын не узнает отца в чужом платье, меняется одеждой с братом, в результате чего близится его конец. В польской пьесе о свв. Борисе и Глебе («Komunija duchowna św. Borysa i Hleba») братья Ярослав и Глеб, встретившись в лесу, не узнают друг друга, так как их лица закрыты капюшонами. Прием ложной идентификации в дальнейшем будет еще более энергично разрабатываться в светском театре.
Чем дальше школьные пьесы уходят от первоосновы моралите, тем чаще в них используется прием переодевания. Но есть он и в мистериях, где знаменует падение человека. Мир дарит Человеку платье со своего плеча, которое тот с радостью принимает. Но теперь Милость Божия не узнает его и отталкивает, чему Мир радуется чрезвычайно и дарит человеку золотые цепи, символизирующие неволю.
Особый символический костюм – нагота согрешившего человека. Существовала даже особая аллегорическая фигура – Нагота. Она выступала в анонимной пасхальной драме со словами: «Студ бо мы бяше во людех ходити» [Драма українська, 1925, 324]. Мудрость призывает к себе «эдемского гражданина», а тот не идет, ибо познал стыд в «Мудрости предвечной». «Почто стидитися тако Едемскаго блага? – Нага!» [Там же, 170]. Эта фигура замещает Адама после грехопадения. В «Действии, на Страсти Христовы списанном» присутствует вставной эпизод Иова. Увидев друзей, он говорит им: «Простете мою худость, / се бо нага зрите» [Там же, 103]. Обратим внимание на то, что и в житиях часто упоминалась нагота главного персонажа [Демин, 1998, 90].
Костюм, скупая мимика и робкие попытки изменения внешности – основные средства перевоплощения, доступные исполнителю. Зато действие, другая составная часть игры, было достаточно развито. С его помощью школьный театр, далекий от художественного вымысла, вводил зрителей прежде всего в мир религиозных переживаний.
«В символическом языке культуры действие занимает особое место и требует особых методов описания, будучи более сложным объектом символизации, чем реалии <…> или даже локусы и время» [Толстая, 1994, 68]. Эти рассуждения С. М. Толстой относятся прежде всего к ритуалу, но они могут быть распространены и на школьный театр, не оторвавшийся от ритуала и настаивавший на своих связях с ним.
Действия персонажей – «ядро и минимальная единица» спектакля. Они не столь часто перемещаются на сцене и, в основном, беседуют друг с другом, стоя рядом. Для них характерна статичность. Значим для них сценический жест, структурирующий спектакль и несущий его смысловой заряд. Но все же семантика жеста еще не столь четкая, как других составляющих спектакля, имеющих символическое значение. «Их символика часто носит „отраженный“ характер, воспроизводя семантику, присущую предметам, лицам, локативным или темпоральным знакам» [Там же]. Для школьного театра характерны действия с предметной семантикой, они производятся с вещью.
Персонажи появляются с аксессуарами, которые передают друг другу, заявляя таким образом о своих намерениях. Передача вещей-аксессуаров повторяется постоянно, как, например, в ситуации венчания на царство. На голову почти каждого значимого персонажа возлагаются венец, корона, «диядема»: «Скипетру царя Христа скипетръ полагаю» [Драма українська, 1928, 234]. Символы власти вручались самому Господу, или Власти Божией, которая в одной пьесе получает царский скипетр и «дїадиму». Ангелы приносят венец Невинности, награждая ее в знак победы «маслиной». В пьесе «Венец Димитрию» царь Максимилиан награждает Димитрия златокованным поясом и жезлом. Почти в каждой мистерии венчают Натуру Людскую. Другие персонажи также наделялись атрибутами власти. У царя Ирода, как явствует из распространенной реплики Трех Царей, «четверовластный скипетр» и диадема. Отходя ко сну, Ирод в «Ужасной измене» просит слуг забрать эти символы власти, а также меч. Воины непременно выходили на сцену с мечами. Например, они скрещивали мечи, давая клятву Ироду. Жрецы несли кадила – они воскуряли фимиам Аполлину.
К этому ряду символических вещей примыкают те, которые имеют отрицательные смысловые коннотации, – цепи, «железа», веревки, замки, т. е. круг предметов, знаменующих утрату свободы человеком после грехопадения. Пригождаются они в некоторых случаях аллегорическим фигурам. Например, в польском «Диалоге на Великую Пятницу» грешники выходили скованные цепями, символизирующими их приверженность грехам и невозможность вырваться из пут неправедной жизни. Метафизическое пространство драмы обогащалось упоминаниями о некоторых символических вещах. Часто они означали грехопадение, как «рило и мотыка», которыми Адам после грехопадения будет копать землю в поте лица своего.
Существует ряд безотносительных действий, играющих, по мнению С. М. Толстой, роль связки и обеспечивающих лишь «включение» в ритуал, в нашем случае – в спектакль. Исполнители, пусть скупо, но нечто изображали своим перемещением по сцене. Они также совершали действия, значимость которых в контексте спектакля осознавалась зрителями. В анонимной «Рождественской драме» фигура Буйства так завершает свой монолог: «Но что много словами глаголю напрасно, / Егда деломъ показать могу сіе ясно?» [Драма українська, 1927, 187].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.