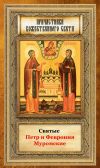Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 72 страниц)
О подобном наборе вещей интермедиальные персонажи с удовольствием рассуждают. Старец, желающий спасаться около стаканов и бабьих сарафанов, вспоминает житье в монастыре, где стонали чарки и бутылки, а в пиве тонули стаканы, ковши, ендовы; на звон колоколов откликались в шкафах рюмки и бокалы. «Так в церкве-та одне миряне поют, / А наша братья, монахи, вино да пиво пьют» [Там же, 698]. Также тарелки и ножички мелькают в монологах персонажей интермедий: «Вот те тарелка и ножичек: рушай! / Разсмакуй только хорошенько, / А то будеш подъедать частенько» [Ранняя русская драматургия, 1975, 473].
Медицинская тема была одной из основных в смеховой культуре, потому лекарства раскладывались на сцене или просто перечислялись в списках, построенных по правилам поэтики абсурда. Там числились два золотника медвежьего рыка, утиное кричанье, гусиное гоготанье по четверти золотника. Как заметил П. Г. Богатырев, «в рукописи „Лечебник на иноземцев“, мерами веса измеряется звук» [Богатырев, 1971, 458]. В этом «Лечебнике» ведется речь о целебных свойствах медвежьего рыка, а также «курочья высокого гласу». Аналогии интермедии с «Лечебником» явные. Выносятся на сцену медицинские инструменты и даже «скляница мочи», вокруг которой разворачивается ученая беседа докторов-мошенников. Со словами «сия есть дивная мочь» один из них уверяет, что молодая жена Шута принесет не ребенка, но жеребенка. Они всем предлагают поставить клистирную трубку, обещая поправить здоровье, в том числе и тем, у кого сухой кашель. Вокруг «клиштера» строятся отдельные сценки. Больной убегает, спасаясь от такой медицинской помощи, – за ним гонится Шут с клистирной трубкой в руках, в то время как Доктор произносит речь о пользе лечения, к которому денно и нощно прибегает вся Франция. «Клиштирная» трубка служит отмщению за поруганную честь. Ее пытается поставить отцу Касенки обманутый Шут. Тем же средством он угрожает неверной жене. Доктор же обещает ему поставить «хорошей клиштер», чтобы выбить из головы мысли «любовныя». «Клестиры» хитроумный Арлекин дают в руки вместо шпаги некоему Одоарду и его людям в итальянской комедии «Рождение арлекиново» [Перетц, 1917, 73].
Всегда фигурируют в интермедиях деньги. Всем страшно хочется «деньженят», только в карманах и полушки не гремят. Полные карманы им грезятся только во сне. Деньги становятся поводом для хитрых обманов и ловких проделок. «Да взял ли ты денежок хоть сколько-нибудь с собою?» [Ранняя русская драматургия, 1975, 475], – лукаво спрашивают Мошенники у Ставленника, а тот простодушно отвечает, что взял на дорогу «небольшое число». Мошенники пристально разглядывают его сапоги: «На сапожки те его разгляделся, / Да и глаза те все продал!» [Там же, 474–475]. Они сразу догадались, где бедный дьячок, пришедший в город искать нового места, может спрятать свое богатство, – за голенищем. Мошенники начинают драку, за что просят прощения, так низко кланяясь, чтобы «подпасть» под самые ноги. Деньги исчезают, и напрасно Ставленник пододвигает к себе поближе лукошко с пирогами – платить ему теперь нечем.
Другой Мошенник шарит по чужим карманам и крадет деньги у игроков. Если интермедиальные персонажи платят, то всегда стараются обмануть, вытянуть последние копейки. Старательно отсчитывают нужные суммы, стараясь заплатить поменьше. Подкупают слуг и служанок, предлагая «рублей 50 да червонных 25!» [Там же, 591]. Отчаянно торгуются, стараясь не продешевить, как, к примеру, Мужик с Шапошником: «Веть я за еио дал копеиок двачеть пять!» [Там же, 557], или Арлекин и Монсеров: «Прибавь семдесят. – / Ах, шалиш, полно десети. – / Нет, не возму не бес пети. – / Добре, дам дватцать пять» [Там же, 591]. Набавляют цену, как Арлекин, старающийся содрать как можно больше денег с влюбленных. Делят их между собой, как Барышник и Цыган. Насыпают в мешки. Старательно пересчитывают, и в это время неожиданно доставшийся им капитал отбирают разбойники.
Также интермедиальные персонажи занимаются торговлей, что требует появления вещей на сцене, хотя иногда о них только говорят, как Мужик, который все делал невпопад. Торговал в овощном ряду известкой и глиной, в кружевном – лыком да мочалой, в суконном – войлоком и циновками. И все его за это колотили: «Шляхта – париком, / Халуй – каблуком, / Посацкой – кулаком, / Завоцкой – шевяком, / Мастеровой – дудою, / А подьячий, праведна душа, уж приударил и дубиною» [Там же, 661]. В другой интермедии на сцену выставлялся сундук, полный разных товаров. Конечно, потом в этом сундуке оказывались покупатели. Торговцы предлагали купить люльку, чубук, мыло, как Грек, застрявший на дорогах России. Продавался и какой-то невероятный порошок, «чортово толоконцо, дьяволско пулцо». Цыган готов продать даже Гаера, который, по его словам, красив, как девчина, и в солдатах может служить, в чем покупатели, конечно, сомневаются.
Некоторые персонажи выходили на сцену с ремесленными инструментами, как Мужик, умеющий «кропачь сапожища», которые становятся предметом его ссоры с заказчиком. На сцене играли в азартные игры, в карты, кости, «зернуху». Ярыга рассказывает, до чего доводит игра: «Не одну рогожу с лаптями износил, / На хазишках много западал, / А временем без волони под каретным мостом сыпал, / А все то делает гарь картишки» [Там же, 711]. Теперь он собирается обмануть в карты «грешника-матроса» или «грека раскоса». Расстилает на земле плащ и поджидает партнеров. Появляется Грек и хвалится, что играет в кости, шашки, карты и знает, как дать мата, но, конечно, проигрывает кафтан, шапку и деньги. Двое Голых, готовые поставить последнюю рубашку, затевают игру в кости: «То-та диковинка, што давно в кости не кидал. / Ну, брат, зачем стала? / Аль у нас костей мало?» [Там же, 696]. Напомним, что зрители «Комидии притчи о блуднем сыне» «видели, как герои „сядут играти“, одни – в „зерни“, „прочий – в карты, в тавлеи“, как будут „добро проигрывати“» [Демин, 1998, 106–107]. Таким образом, игра представлялась и на школьной сцене. Появлялись в интермедиях вещи домашнего обихода, например, подушка с коклюшками, пяльцы, «в чем золотом шьют».
Итак, интермедиальные персонажи решительно обживали пространство, населяя его множеством вещей, в отличие от знатных персон. Они охотно манипулировали с ними. Вещей на «охотницкой» сцене было относительно немного, ибо пространство еще не было готово к тому, чтобы окончательно свыкнуться с ними, хотя они уже не просто демонстрировались зрителю, с тем чтобы он прочитал их скрытое значение, как это было ранее в школьном театре.
В XVIII в. на светской сцене вещь особенно привлекала зрителей, потому о ней говорилось подробно и в других театрах, о чем свидетельствуют, например, сообщения о представлениях Немецкого театра Петра Гильфердинга в Москве: «Показывай быть имеет большой стол. <…> помянутый стол уставлен будет многими здешними и заморскими фруктами и кушаньем, так искусно сделанными, как бы натуральные были» (цит. по: [Старикова, 2000, 213]). «Охотницкий» театр не мог себе позволить таких излишеств. Не мог он выставлять зеркала во французских рамах, «шендалы» и многое другое, что, например, составляло «уборы» итальянского театра, выступавшего в Москве. Вещи на «охотницкой» сцене находились в соответствии с представленными на ней локусами. Их список был формализован и невелик. Он разрастался только в интермедиях. Напомним, что «Действие о короле Гишпанском» сопровождал список вещей наравне со списком персон: стол «с убором питейным», гроб, кровать с убором и проч.
Значимость вещей явно осознавалась. Персоны сами привлекали к ним внимание зрителей, представляя не только самих себя, но и вещи, их окружавшие. Когда на сцену, например, вносились письменные принадлежности, то один из персонажей непременно произносил: вот перо, чернила, бумага. Делалось это и в интермедиях: «Подожди здесь, я принесу чернильницу да перо» [Ранняя русская драматургия, 1976, 715]. Вещи выступали как реквизит, тяготея к декорациям, или, как аксессуары, всегда были тесно связаны с персонами. Ненужных вещей на сцене не было. Обычно они занимали центральную часть сцены, где собирались все действующие лица. Следовательно, периферия сцены оставалась не прописанной. Но персоны уже играли с вещью, притом иногда довольно активно. В интермедиях игра вообще набирала силу, принося с собой приметы реальной повседневной жизни. Таким образом, вещь не только участвовала в структурировании пространства, но и придавала занимательность действию.
Итак, художественное пространство «охотницкого» театра, в отличие от мистериального, не представлялось очертаниями сцены. Оно называлось и фиксировалось в слове, оставалось «воображаемым», в то время как мистерия игралась в раз и навсегда выстроенном пространстве. Зато «охотницкий» театр более четко, чем мистериальный, членил пространство на театральное и сценическое. Он не представлял его в целом, а различал в нем отдельные локусы, соотносившиеся с персонами, определявшие повороты их судьбы и смену настроений. В каждом из локусов они вели себя по-разному, всегда выявляя свою зависимость от них.
Локусы открытого пространства разрешали большую свободу. Локусы закрытого, напротив, сковывали персон в прямом и в переносном смысле. Дворец, сенат, квартира, театр требовали выполнения правил этикета. Попав в темницу, персоны томились в цепях. Локусы открытого пространства предполагали больший динамизм действия. Здесь персоны проявляли храбрость и силу, любовь и отчаяние, подвергались самым невероятным опасностям. Их подстерегали дикие звери, разбойники и пираты. В закрытом пространстве они были менее активными.
Несмотря на разнообразие событий, с ними происходящих, персоны очевидным образом подчинялись пространству. Во дворце они не ждали смерти, которая подстерегала их в лесу и на море. Хотя иногда они могли лишиться жизни и в пространстве власти. В саду они встречали свою любовь, хотя здесь же могли драться на дуэли. Это говорит о том, что значения локусов постепенно расширялись, сохраняя при этом главное среди них.
* * *
Итак, пространство светского «охотницкого» театра было не менее условным, чем театра мистериального. Но это была условность другого рода. В ней уже просвечивает тенденция к реальности. Этот театр можно было бы назвать «бедным», но все же он не был таковым окончательно, так как стремился построить пространство по метонимическому принципу и населить его вещами, уже не имеющими символической нагрузки.
Условность пространства особенно явно проступает в утопиях, где оно конструируется с особыми целями. Утопическое пространство – это пространство искусственное. Оно строится в отрыве от реального, но в сравнении с ним. Очертания реального пространства возникают в утопических произведениях лишь затем, чтобы усилить идею переделывания мира, подчеркнуть новизну пространства сконструированного. Пространство «реальное» при этом не копирует «жизненные» образцы. Оно может строиться по метонимическому принципу, выступать как метафора. Всякий раз оно лишь служит сравнению с пространством нового типа. Утопия вообще основывается на сравнении, в том числе и тогда, когда пространство «реальное» лишь подразумевается.
Пространство в зеркале утопии
Сравнивая, утопия отрицает существующее, предлагает спасительные рецепты его преобразования или предсказывает его уничтожение. Иногда сравнение выносится за пределы текста, и контуры реального мира становятся настолько неясными, что только предполагаются, домысливаются. Утопия вообще находится в сложных отношениях с реальностью. Ее можно уподобить зеркалу, отражающему мир с заведомым искажением. Человек всматривается в него, силясь познать окружающий мир через сравнение. Он смотрится в это зеркало, отражающее несуществующий «лучший» мир, которому должна уподобиться действительность. Видится ему в этом зеркале и мир «худший». Его приближения следует избежать, так как он предвещает всемирную катастрофу.
Собственно утопия предлагает готовый образец нового мира, отталкиваясь от реального. Она демонстрирует его несовершенство, противопоставляя ему мир идеальный. Показывает, каким бы мир мог быть, обычно опуская способы его переделывания, хотя и они могут становиться самостоятельными сюжетными мотивами. Сквозь его очертания утопия предлагает разглядеть несовершенство мира реального. Здесь сравнение обычно утоплено в утопическом пространстве, как, например, в народных утопиях, которые представляют дальние земли, страны всеобщего блаженства [Чистов, 2003, 276–384].
Утопии противопоставлена антиутопия, отрицающая искусственно созданный утопический мир с его идеалом счастья, навязанного человеку. Она показывает смоделированное пространство в ином ракурсе, нежели утопия, подвергает новый лучший мир осмеянию. Этот мир оказывается тесным пространством, в организации которого преобладают принудительные меры. С антиутопической точки зрения они столь же опасны, сколь и концепция абсолютной свободы, лишающей человека представлений о долге перед самим собой и перед обществом, законы которого в антиутопии резко нарушаются. Таким образом, антиутопия – это критика утопии, она спорит с ней и бывает пародией на нее.
Дистопия являет собой вызов утопии и антиутопии. Она представляет мир уже прошедшим насильственную утопическую реорганизацию, лишенным духовных ценностей. Отрицает принципы построения идеального общества, предостерегает от любых попыток переделывания мира. В ней преобладает идея недостижимости и опасности утопических проектов. Заявленные утопией принципы перестраивания и улучшения мира, пусть с самыми благими намерениями, в дистопии доводятся до логического конца. Прежняя картина мира разрушается, старое исчезает, новое грозит опасностями. Реализованные утопические концепции превращают жизнь в царство зла на земле. Если антиутопия критикует и осмеивает утопию, то задача дистопии – представить ее изнутри и непременно в трагическом освещении, доказать, говоря словами Н. Бердяева, что всякая попытка создать на земле рай есть попытка создания ада.
Хотя утопия и занята созданием образа нового человека, пространство является ее «главным героем». Утопия занята им в большей степени, чем человеком, так как именно пространство определяет характеристики человека. Утопическое пространство давит на героя, и он зависит от пространства. Не он определяет его очертания, а пространство решает, каким быть человеку, даже тогда, когда он готов уничтожить это пространство.
Для утопии характерно слияние пространства и времени. Они образуют пространственно-временной континуум [В. Н. Топоров]. Прежде всего утопию интересует время историческое, образы которого она выстраивает через пространство. Стремясь переписать историю, утопия активно использует топос золотого века. Нацелена она и на будущее, которое может выглядеть как рай или ад, как конец света. Эти способы построения воображаемых миров проецируются на настоящее, подвергаемое резкой критике. Утопическое время – особое. Его можно повернуть вспять, перенести в будущее, поместив в нем мечту о всеобщем счастье или выразив страх перед всеобщей катастрофой. Для этого бывает достаточно переместиться в пространстве. Так категории пространства и времени оказываются тесно связанными. Зачастую в утопиях предпочтение отдается пространству, а время вообще никак не маркируется, чему примером служат многие произведения утопического характера [Чепелевская, 2002, 122].
Уже само слово утопия отсылает к локусу, который или бывает преднамеренно не назван, или имеет условное название с явной семантической нагрузкой. Этот локус может быть природным, где поселяется человек естественный. Здесь он мирно проводит свои дни, в гармонии сливаясь с природой. Природа противостоит культуре и непременно имеет нравственные характеристики. Под пером утописта природа преображается во вместилище добродетелей. Утопия тоскует по идеальному «месту», где человек должен быть счастлив. Избирая этим «местом» природу и расширяя ее границы, утопия помещает человека в космос, избирая для него «местом жительства» некую планету, иногда Луну. Идеальным «местом» избираются остров, деревня, но не город. В каждом из вариантов природного пространства важна его отодвинутость от пространства культурного. Здесь человек не предпринимает попыток переделывать окружающую его среду и возвращается в золотой век или, напротив, перемещается в счастливое будущее.
Переделывание природы происходит в антиутопии и дистопии, где доминирует идея насилия над ней, приводящего к тотальной катастрофе. Природа искажается действиями людей и техникой. Деятельность человека, направленная на природу, – один из основных мотивов антиутопии и дистопии.
Возможно, что природа противостоит городскому пространству. Так обычно бывает в собственно утопиях. В антиутопии и дистопии город, как знак цивилизации и прогресса, побеждает природу, загоняя человека в царство стекла и бетона, в мир бездушных машин. Город, противостоящий природе, – это художественное пространство вариантов утопии. Так важнейшая смысловая оппозиция натура / культура реализуется с противоположным знаком. Воображаемый город будущего также конструируется в антиутопии и дистопии. Пространством бывает узнаваемый город, облик которого преломляется в утопическом видении. Утопические локусы не раз описываются как архаические варианты пространства. «Архитектура и урбанистика интересовали утопистов прежде всего функционально. В описании поселений утопического будущего или жилищ счастливых примитивных народов их целью было показать, как в совершенном обществе должно быть организовано окружающее пространство» [Свирида, 2002, 62]. Таким образом, поселение, город, жилище всегда конструируются утопистами, в том числе, от противного.
Нельзя сказать, что такие локусы не имеют никакого отношения к уже разработанным в культуре. Не раз утопия очерчивает пространство, возвращаясь к мифу, к архетипическим топосам, основными из которых предстают рай и ад в их различных ипостасях. Во всех случаях при конструировании пространства возникают антитезы конкретности и условности, хаоса и порядка. Мотив перехода от хаоса к упорядоченности, который может быть дан реверсивно, обычно присутствует в утопиях. В них проступает мотив страха перед хаосом реального мира и будущим. Кроме того, в утопиях явно присутствуют категории желательности, долженствования, отрицания, влияющие на характер пространства.
В утопии нет места неопределенности, расплывчатости и недоговоренности. В ней ничто не домысливается. Она всегда требует однозначной интерпретации. Утопии не присуща многозначность, в том числе и относительно пространства. Уводя от реальности, утопия очерчивает его, выделяя в нем такие признаки, как закрытость или открытость, отмечая центр и периферию. Важна для нее категория границы между воображаемым и реальным миром, на которой обычно помещается человек. Его функция состоит в том, чтобы сравнить эти два пространства, передать опасность его нового варианта или, напротив, свидетельствовать о совершенстве нового счастливого мира. Человек, конечно, не задерживается на границе двух миров, а отправляется в путь. Утопическое пространство в основном и выстраивается в опоре на мотив пути. Путь структурирует его, создавая самые разные его варианты.
Задавшись целью сконструировать идеальный мир или представить результаты таких намерений, утописты нацелены не только на общие положения. Они тщательно выписывают детали, благодаря чему заданное в утопиях пространство предстает зримым и единым. «Целостность есть главный признак утопии. Утопия должна преодолеть раздробленность, осуществить целостность. Утопия всегда тоталитарна…» [Бердяев, 1990,330].
Деталь свидетельствует об изобилии счастливой жизни, о ее разумном устройстве или о хаосе, возникшем в результате изменений, на которые решается человек. В утопическом пространстве всегда находится множество вещей. Они являются его важными признаками. Привычка к обычным вещам, привязанность к ним отсутствуют в мире утопии. Для утопического человека важны полезные, новые вещи, свидетельствующие о техническом прогрессе. Также мир вещей может разваливаться, что говорит о наступившем хаосе. Через вещь, как и всякую деталь пространства, авторы утопий демонстрируют свои принципы переустройства мира.
Мы рассмотрим несколько вариантов утопии, обратившись к тем ее видам, которые сформировались в эпоху романтизма в польской литературе. Затем представим роман Е. Замятина «Мы» в терминах дистопии и, наконец, выявим, как дистопические мотивы реализуются в современной польской литературе, в романе Т. Конвицкого «Малый Апокалипсис».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.