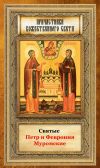Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 72 страниц)
Глава IV
Пространство
О категории пространства
«Выделение проблемы пространства в качестве самостоятельного объекта дает возможность не только ощутить само культурное пространство как некую материализованную и духовную реальность, восстановить первоначальную, часто забытую пространственную семантику того или иного явления, признака. Это также позволяет выявить новые стороны культурного процесса, остававшиеся вне поля зрения при других подходах, иначе взглянуть на уже известные явления» [Свирида, 2003, 15].
Категория пространства по-разному реализуется в художественных текстах. В одних преобладает пространство реальное, географическое или бытовое. Географическое пространство позволяет человеку переживать свою причастность миру, например, в связи с географическими и другими научными открытиями. Пространство может сужаться и становиться природным или городским. Бытовое пространство актуализирует быт, его детали, атмосферу, «которая создается вещами и которая превращает их из простой совокупности, беспорядочного набора в близкий душе и осмысленный порядок, жизненную опору – в „вещный“ космос» [Топоров, 1995, 27].
Существует также пространство метафизическое, свойственное текстам «усиленного» типа. Это, по мысли В. Н. Топорова, художественные, религиозно-философские, мистические произведения. «Таким текстам соответствует и особое пространство, которое, перефразируя известное высказывание Паскаля, можно назвать „пространством Авраама, пространством Исаака, а не философов и ученых“, или мифопоэтическим пространством» [Топоров, 1997, 457]. Этот тип пространства ученый называет пространством созерцания. Он также определяет его как эквивалент реального пространства в непространственном сознании. Все эти виды пространства могут совмещаться в одном тексте или, напротив, один из них может доминировать.
Мы хотим рассмотреть эти виды на материале театра, где они творятся наглядно и где даже пространство метафизическое приобретает зримые формы. Его мы покажем в сложных взаимодействиях с другими видами пространства, исходя из концепции трех миров Григория Сковороды. Выделим как вариант пространство утопическое, а также попытаемся описать текст как пространство.
Пространство и сцена
Всякий раз «имитируя динамическую непрерывность реальности, театр одновременно дробит ее на отрезки, сцены, вычленяя тем самым в ее непрерывном потоке целостные дискретные единицы» [Лотман, 1979, 246]. В этом процессе огромную роль играет пространство, отнюдь не совпадающее со сценой, хотя она и определяет его основные черты. В идеале сцена – это форма, внутри которой творится искусство, требующее адекватного воплощения, в результате чего сама эта форма преображается, становясь художественным пространством, которое есть «не пространство действия, не пространство событий, а пространство драмы» [Коваленко, 1980, 19]. Это пространство, как пишет Г. Ф. Коваленко, обладает собственной драматургией и подчиняется общим законам спектакля.
Если в литературе пространство творит слово, в изобразительном искусстве – пластический образ, то в театре в его создании участвует множество компонентов, среди которых сцена занимает важное место, так как пространство, несмотря ни на что, зависит от ее устройства, хотя это не значит, что сцена и художественное пространство не могут выступать в антитетических отношениях.
В некоторые эпохи сцена считается чрезвычайно значимой. Ей тогда доверяют решение основных задач представления. Она «играет» вместе с актерами, собирает воедино символические значения спектакля, закрепляет за персонажами определенные позиции и не разрешает им особой свободы передвижения. Не случайно она выступала в испанском театре XVII в. как аллегорическая фигура. Лопе де Вега ввел ее в прологи к читателям 1618-м и 1623-м гг. Фигура сцены, выходя на сцену, жаловалась на постигшие ее несчастья, на то, что теперь нет хороших актеров. Она хвалилась тем, что, хотя она и состоит из рам и полотен, многому сумела обучиться «благодаря живой силе стольких и столь различных комедий разных поэтов» (цит. по: [Гвоздев, 1926, 28]). В этих высказываниях аллегорической фигуры сквозит стремление драматурга представить сцену как элемент спектакля, а не как место действия. Следовательно, уже здесь намечено различение сцены и художественного пространства.
О значимости сцены в эпоху Возрождения и барокко знали романтики. Л. Тик заметил, что в шекспировскую эпоху сцена занимала очень важное положение, что она играла, а не просто предоставляла место для игры, и сравнивал ее с современной ему сценой, удивляясь множеству ее нелепых условностей: «Мы мучаемся, не достигая художественных результатов над декорациями, строим в антрактах холмы и крепости, галереи и террасы, и чувствуем, как текст и театр взаимно мешают друг другу, противоречат друг другу» [Там же, 33].
Замечание поэта свидетельствует о том, что романтики видели в сцене возможности революционного преобразования театра. Их творческим замыслам мешал устоявшийся тип сцены-коробки с кулисами и задником, с декорациями, без конца копирующими одни и те же пейзажи и архитектурные сооружения. Они считали ее лишь площадкой для исполнения комедий и трагедий. Искусство синтеза воплотить на такой сцене было невозможно. Подражание реальности для романтиков казалось бессмысленным. Они мечтали вырваться на свободу духа и потому хотели увидеть театральное представление на открытой сцене, подлежащей обзору со всех сторон. Известно, что, будучи в Париже, Мицкевич впервые увидел панорамы и решил создать театр-панораму. Также привлекали его внимание цирк и диарама. Он раздумывал над возможностями постановки «He-Божественной Комедии» Красиньского и предлагал выстроить ряд живых картин, на фоне которых текст «Комедии» читал бы Поэт. Он полагал, что небо и ад можно было бы передать средствами оперной сценографии. Но романтическая театральная реформа не состоялась. Сцена в XIX в. осталась прежней.
В стремлении романтиков к реконструкции театра просматривается не только чисто техническое направление. «От Мицкевича польская романтическая душа в нескольких поколениях впитала необычное стремление к экспансии театра на близлежащие – смежные, а иногда и весьма удаленные от театрального искусства – „земли“: начиная с грубой и „земной“, суровой и кровавой жизни-борьбы за национальное освобождение и кончая областью религиозного познания» [Башинджагян, Гротовский, 2003, 27]. Романтическая идея открытой сцены ожила в начале XX в. в русском театре, где велась активная борьба со сценой-коробкой. Уничтожение четвертой стены было одной из основных задач студийных сцен того времени [Osińska, 2003, 72].
Превратившись в зеркало жизни, реалистический театр оставил за собой привычно устроенную сцену, населив ее вещами, должными придавать пространству особую «жизненность». Его семантическая нагрузка практически исчезла. Тем более что зачастую театры XIX в. использовали один и тот же реквизит, костюмы, декорации. То же самое происходило на советской сцене, продолжающей традиции XIX в., так как постановщики отказались от революционных исканий театрального авангарда. Советский театр предпочитал эклектику и, сочетая клише сценографии классицизма, романтизма, реализма, оставил прежнюю сцену без изменений. Художественное пространство в нем не маркировалось как органическая часть спектакля и оказывалось равным сцене. В дальнейшем положение изменилось. Пространство первым возродилось среди других элементов театрального представления и пережило подлинную революцию. Художник сцены стал наравне с режиссером. Можно сказать, что начинания Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда были продолжены [Там же, 2003, 26].
Бывает сценой и открытое пространство, для театральных представлений не предназначенное, как улица, площадь. Здесь разыгрывались мистерии, для которых выстраивался помост, а на нем выделялись отдельные площадки. Существовал и театр на повозках, когда зрители следили за разворачивающимся действием по мере их передвижения. Примечательно, что в пьесе об Алексее человеке Божием есть живая картина. В ней спящий Тимофей Афинский показывается на телеге. Пожалуй, в этой картине можно усмотреть воспоминание о передвижном театре. Как пишет В. Ф. Колязин, на нюрнбергских шембартлауфах использовались «повозки с театрализованно-декоративной архитектурой и аллегорическими персонажами, передвигаемыми костюмированными статистами или лошадьми в пышном убранстве» [Колязин, 2002, 119]. В пьесе о св. Алексее телега не движется, немая картина по определению статична. Традиции разыгрывать представления в открытом пространстве время от времени оживают. Так появился современный хэппенинг. По окончании уличных представлений пространство утрачивает приданные ему признаки и умирает вместе с действием. Площадь и улица становятся прежними, когда все следы театра исчезают.
В организации пространства участвуют кулисы, которые могут быть рисованными. Они изображают различные ландшафты и городские планы. Кулисы бывают подвижными. Они вращаются вокруг собственной оси (телари) или меняются с помощью специальных машин. Им соответствует рисованный задник сцены. Затем в организации пространства выделились декорации, которые Н. Н. Евреинов называл «костюмом места действия». Они могут не меняться на протяжении всего спектакля или, напротив, как и сцена в целом, даже перемещаются, что не только создает единую протяженность сценического действия, но и помогает зрителю увидеть представляемое на сцене в новых ракурсах, создает множественность точек наблюдения, как в архитектуре [М. Г. Эткинд].
Живописные декорации представляют пространство как «ожившее перспективное пространство картины» [Локтев, 1979, 178]. Так обычно оформлялись пасторали или бытовые сценки. Архитектурные декорации изображали улицы с дворцами и домами, создавали волшебные замки, таинственные парки. Для трагедий был необходим дворец. Сначала действие развивалось перед домом и дворцом. Затем выстраивались интерьеры дворцов, замков, еще позднее – гостиных аристократических и мещанских домов. Декорации имитировали покои дворца и комнаты мещанского дома, а затем и ночлежки. Они, кроме того, могут быть «совокупностью планов, переходов, конструкций, представляющих для актера подмостки» [Пави, 1991, 69]. Тогда они выполняют геометрическую задачу, превращая пространство спектакля в собрание различных фигур, расположение которых подчиняется общему замыслу спектакля.
На протяжении истории театра предпочтение отдается то архитектурным, то живописным декорациям. Например, Вс. Мейерхольд предпочитал последние и в них видел возможность создания символического театра [Osińska, 2003, 31]. Декорациям отводилась задача не только структурировать пространство, но и передавать психологическое состояние персонажей.
Отнюдь не всегда театр требует декораций. Их считали ненужными в Первой Студии МХТ, где их заменяли куски ткани, должные изображать стены жилища и предметы обстановки. Этой условности как бы противоречили натуралистические детали. На суконных стенах висели портреты, их прорезывали окна, заиндевевшие от мороза [Там же, 100]. Французские авангардисты также резко выступали против декораций: «Не должно быть никаких декораций. Для осуществления их функции довольно будет иероглифических персонажей, ритуальных костюмов, десятиметровых манекенов» [Арто, 1992, 75]. Эта линия в искусстве продолжается. Напомним знаменательное название книги П. Брука «Пустое пространство». Пустота, с точки зрения режиссера, создает абсолютную свободу для актеров. Эта идея возникла не на пустом месте – позволим себе такую тавтологию. Она реализовалась уже в эпоху барокко в мистериальном театре, сосуществовавшем наряду с избыточно декорированной сценой. Пустота как основной признак пространства привлекала Е. Гротовского, который в дальнейшем вообще отказался от членения театрального пространства на зрительный зал и сцену. Так, можно сказать, он продолжил начинания Вс. Мейерхольда.
Декорациям и художественному пространству в целом необходима машинерия. Машины передвигают декорации, переносят актеров по воздуху, способствуют созданию иллюзии превращений. В некоторые эпохи все художественное пространство практически держится на машинерии. Сцена тогда, по словам П. Гонзаго, становится «лабораторией мага-волшебника» (цит. по: [Вдовин, Лепская, 1994, 167]). Так устраиваются «бури водные», показываются огненный столп, кометы, чудо Моисея. Машинерия позволяет осуществлять идею всеобщей изменчивости. С ее помощью создаются мгновенные изменения пространства, поражающие зрителя и привлекающие его, может быть, даже в большей степени, чем другие составляющие спектакля. Их не всегда приветствовали теоретики театрального дела и авторы поэтик. «Удивительные механические приспособления, посредством которых можно представить людей, уносящихся в воздух, моря и морские сражения, несущегося по небу Фаэтона, <…> необыкновенные сцены не могут долго и постоянно нравиться», – писал Я. Масен (цит. по: [Адрианова-Перетц, 1928, 37]).
Иногда все технические приспособления сцены тщательно скрываются. Иногда, напротив, выставляются на обозрение – как у Вс. Мейерхольда. В его театре машины выносились на сцену и играли вместе с человеком и вещью, меняя свои очертания. Л. Попова знаменательно именовала свои декорации конструкциями. Она выстраивала на сцене пространство принципиально антиэстетическое, вписывала свои конструкции в открытое пространство. «Театр из „храма искусства“ превращался в завод, помещение для игры рассматривалось как чисто производственное, нечто вроде цеха» [Эткинд, 1974, 216].
Вещь на сцене существенно дополняет художественное пространство и структурирует его. Иногда она функционирует как аксессуар или как часть театрального костюма. Иногда – тяготеет к декорациям. Вещь бывает безотносительной, даже будто лишней на сцене, но может она иметь те же функции, что и актер. Тогда она играет вместе с ним, ведет действие, становится «орудием интриги», «воплощающим ее персонажем. Это платья, перстни, вещицы распознавания, письма, золото (деньги)» [Фрейденберг, 1988, 37]. Актер входит с вещью в «содержательные отношения», хотя порой стремится обойти ее и не заметить. Он манипулирует ею, необязательно подражая действительности. Так создается рисунок актерской игры, в котором вещь определяет ее динамику. Вещь не пассивна по отношению к актеру, так как «толкает его к новым реакциям и оценкам» [Калмановский, 1984, 118]. Человек и вещь в художественном пространстве подчиняются не только законам театрального искусства, но и изобразительного. Вещь на сцене вступает в отношения не только с актером, но и с другими вещами, причем их взаимодействие может происходить иначе, чем в реальной жизни.
Попав на сцену, вещь остается будто прежней, но вступает в новые, невозможные в реальной действительности отношения, что решительно меняет ее. Она выступает знаком реального мира, с которым прямо уже не связана. «Художественный предмет имеет непрямое отношение к вещам, запредельной ему действительности. Он феномен „своего“ мира, того, в который он помещен созерцательной силою художника» [Чудаков, 1992, 25]. Становясь инструментом в руках актера, вещь теряет присущие ей в жизни очертания и приобретает новые. Даже сохраняя достоверность, она расподобляется с вещью в жизни, так как становится ее образом. Вдобавок реальная вещь на сцене перестает ею быть и не должна восприниматься в реальном плане, потому что на сцене существует не предмет, а «картина предмета» [Н. Н. Евреинов].
Вещи, может быть, из-за ее материальности и неподвижности часто отводят задачу «воссоздания реальной действительности». По словам Станиславского, именно ей можно в первую очередь доверить создание иллюзии реальности. Это стремление порой приводит к тому, что сцена загромождается «реальными» вещами. Они становятся ненужным добавлением к спектаклю и оказываются своего рода излишеством. Масса различных вещей декорирует сцену, будто воссоздавая реальную обстановку и на самом деле не работая на создание смыслов спектакля. «Лишние вещи на сцене, не нужные для игры, – нововведение реалистического театра XIX в.» [Мокульский, 1926, 83]. Правда, так было уже и в мещанской драме, и в комедии XVIII в. Родоначальником такого отношения к вещи в театре считается Бомарше.
Чрезмерная «подлинность» вещей не служит истинной театральности. Вдобавок вещь, сделанная бутафором, никогда не повторяет полностью вещи реальной. Обычно бывает увеличена ее «фасовая сторона», обращенная к зрителю, в ней нарушены пропорции, изменены размеры – это все следствия законов иллюзорной театральной перспективы. Кроме того, ее материал отличается от подлинного [Соловьев, 1926, 53–54].
Как писал Г. Г. Шпет, «на театральных подмостках в угоду теории, строились „настоящие“ дома, актеры одевались в „настоящие“ костюмы, восстановленные исторически, театральный реквизит становился филиальным отделением археологического и этнографического музеев, и истинное огорчение должна была вызывать невозможность дать зрителю „настоящие“ гранитные скалы, глубокое море и бездонное небо» [Шпет, 1988, 39]. Подобное отношение к вещи приводит к тому, что ее нахождение на сцене теряет всякий смысл. Избыточность вещей не способствует раскрытию художественного замысла. Абсолютно прав Ремизов, когда говорит: «…чтобы разыграть Царя Максимилиана ничего не надо, надо самый обыкновенный стул – это будет трон, на котором сидит царь, актеры же станут в круг перед троном» [Ремизов, 1920, 112–113].
На сцене вещь может дать гораздо больше, чем только копирование реальности, так как она теряет присущую ей в жизни полифункциональность и приобретает символическое значение. При внимательном ее рассматривании обнаруживаются и ее новые функции. Иногда они не сразу бывают понятны зрителю. «Сценический знак не выявляется сразу, он вновь облекается плотью. Разглядеть его демонстративно доверено зрителю» [Тарханов, 1978, 13]. Такова вещь в символическом театре, в театре эпохи барокко. Иногда вещь на сцену не допускается, за нее играет актер. Ее заменяет рисованный реквизит. Так сценограф бросает вызов той аморфности пространства, которую порождает обилие вещей на сцене.
В создании художественного пространства огромную роль играют костюмы, являющиеся не только знаком времени. Они также находятся в соответствии с декорациями и наравне с ними участвуют в организации художественного пространства. По словам П. Пави, они порой превращаются в передвижные декорации.
Очевидно, что игра актеров также организует пространство. Этому способствует слово, движение, действие вообще. Слово в театре не есть перенесенное на сцену литературное слово. Спектакль – это не комплекс условий для прочтения или интерпретации пьесы. Слово в театре самоценно и имеет только ему присущие свойства, так как оно играется, а не просто произносится. Слово, в том числе, структурирует пространство, прочерчивает его отдельные сегменты. Из монологов и диалогов вырисовываются его очертания. Слово способно воссоздать и невидимое, метафизическое пространство спектакля.
В его организации важную роль играет размещение персонажей. Каждый из них обязан найти свое место на сцене, что особенно характерно для театра эпохи классицизма, где значимо деление сцены на левую и правую сторону. В драматическом театре, в опере XVIII в. главные персонажи находились слева, а второстепенные, менее значимые – справа. Они стояли параллельно рампе, за ними в ряд располагались комические персонажи. Хор находился по бокам сцены [Гвоздев, 1926, 157]. Следует заметить, что ремарки старинных украинских пьес таким же образом ориентируют пространство. Например, пролог «Диалога о страстях Христовых» («Dialogus de passione Christi») сообщает, что Иисус и Ангел выйдут с левой стороны. Персонажи обычно имеют закрепленные за ними места. Натура, отзываясь на призыв Всемогущей Силы, говорит, что стоит «здалеча». Она находится на расстоянии от этой аллегории. Значимость размещения персонажей осознавали и деятели театра XX в. Вс. Мейерхольд, например, еще в Студии на Поварской стремился расставить своих персонажей наподобие фресок или барельефов [Osińska, 2003, 31].
Структурирует пространство движение персонажей. «Своей игрой, приближением к другим актерам и удалением от них, свободными „скачками“ или ограничением зоны игры, актеры определяют точные границы их общей и личной территории» [Коваленко, 1980, 10]. Движение на сцене бывает предписано, и эта предписанность определяет характер пространства. Так, в некоторых видах театра актеры двигаются только по кривой, создавая особый рисунок. Такое направление создает иллюзию обжитого художественного пространства [Пави, 1992, 264]. В других театрах движение совершается «геометрически». Так, в театре Вс. Мейерхольда, в какой-то степени наследующем комедии дель арте, исследователи обнаруживают геометрический характер мизансцен. «Переходы персонажей совершаются по диагонали четырехугольника. Все переходы в конечном счете образуют круг. Круг – заключительная и совершенная геометрическая фигура» [Уварова, 1979, 436]. Сам Вс. Мейерхольд был уверен в том, что движение – это основополагающий элемент спектакля. Он считал, что театр состоится, если, исключив все его составляющие, оставить лишь движение актеров [Osińska, 2003, 212].
Итак, художественное пространство создается не только сценой, но и декорациями, реквизитом, костюмами, игрой актера, словом, что еще раз доказывает: сцена – это не подиум для актера-оратора. Она наряду с другими составляющими спектакля участвует в создании мира иллюзии.
Пространство, создаваемое в театре, не аморфно, так как в нем существуют центр и периферия. Оно бывает различно ориентировано, например, по вертикали или по горизонтали. Эти ориентации могут совмещаться в одном спектакле, но в разные эпохи превалирует то горизонталь, то вертикаль. В религиозных барочных пьесах пространство риентируется по вертикали, в мещанской драме XVIII в., в реалистическом театре – по горизонтали.
Кроме того, пространство делится на сегменты. Они бывают замкнутыми, как мансьоны в средневековом театре, выглядевшие то как домики, то как беседки, или как помосты и колонны [Колязин, 2002, 21]. К ним порой обращалась сценография барокко. Их убрал со сцены классицизм, стремившийся к единству места действия, но деление сцены на части он сохранил. Одна часть сцены принадлежала королеве, другая – королю. Это были дворец и сад. Сегменты художественного пространства бывают открытыми и подвижными, как в театре XIX в. Их создают декорации и свет, структурирующий пространство и могущий стать единственным фактором его динамики.
Для пространства значима оппозиция внешнее / внутреннее. Действие может развиваться как внутри, так и снаружи жилища. В эпоху классицизма, наследующего античному театру, действие происходит вне жилища, перед входом в него, т. е. в открытом пространстве, где рисованные декорации изображают ряд домов, уходящих от авансцены в перспективу улицы. Позднее действие переносится внутрь.
Пространство в театре строится по метонимическому принципу, изображает какую-то одну часть «жизни». Бывает оно интерьером, полем битвы, концлагерем, театром. Эти образы без особых усилий прочитываются зрителем. Он не должен проводить сложные процедуры, чтобы осмыслить представленное на сцене. В символическом театре, напротив, художественное пространство нацелено на расподобление с вещным миром, оно его дематериализует, «стилизует его под субъективный или галлюцинаторный мир» [Пави, 1992, 264].
Художественное пространство строится и по принципу метафоры. Тогда оно может выражаться вещью, вырастающей до размеров сцены, становящейся, по словам Г. Ф. Коваленко, аппаратом для игры актеров. Это может быть машина, сундук, скворечник, часы, мясорубка, как у Вс. Мейерхольда, А. Тышлера. Вещи метафорически изображают мир, передавая его стесненность, чрезмерную заполненность вещами.
«Пространство или планировка сцены должны способствовать целям искусства и игре артистов, <…> помогать свободе функционирования театральных машин и способствовать иллюзии видимостей» (цит. по: [Вдовин, Лепская, 165]). Так писал великий сценограф XVIII в. П. Гонзаго, подводя итоги завоеваниям сцены эпохи барокко, ожившим в символическом и экспериментальном театре XX в. Особо следует отметить в высказывании художника сцены такое выражение, как «иллюзия видимостей». Театр никогда не претендует на подлинность. Его сверхзадача – создание иллюзии реальной жизни или воображаемой. «Театральное действие есть непременно какое-то условное, символическое действие, есть знак чего-то, а не само действительное что-то, произведенное, равно как и не простая копия, – безыскусственная, технически, фотографически точная, воспроизводящая действительность» [Шпет, 1988, 32].
Театральная метафора создается различно. На первый план в ней выдвигается идея иллюзии, этой доминанты искусства. Театр показывает, как скоро проходит жизнь человеческая, как изгнанник вступает на трон, а император удаляется в изгнание. На сцене в одно мгновение завоевываются царства и рушатся империи. Театр напоминает о недолговечности земного бытия, показывая, сколь тщетны стремления к славе и богатству. Потому он есть эмблема тщетности человеческих стремлений к вечному и незыблемому [Ауэрбах, 1976, 254].
Зритель по отношению к представлению занимает особую позицию. В идеале он должен проникнуть в его смыслы и принять его условность, «должен поверить в правдоподобие сценического пространства, до известной степени почувствовать, что он сам принадлежит тому же пространству, что оно захватывает его, как захватывает сюжет пьесы» [Локтев, 1979, 195]. Зритель окидывает взглядом все пространство. «Мир сцены и сам по себе возникает, является, но в той же мере есть произведение зрителя, ибо лишь имеющий уши услышит, лишь имеющий раузм уразумеет – непосвященному не будет откровения» [Гачев, 1968, 220].
В некоторых театрах зритель становится соучастником представления. Основное внимание режиссера бывает направлено на него. Он требует от зрителя мгновенной реакции и вхождения в действие. Так было в театре Гротовского, который писал, что зритель должен знать, что он «со-актер <…>, а не только наблюдатель» [Гротовский, 2003, 16]. Гораздо чаще зритель остается изолированным от спектакля. Ему отведено особое пространство, зал, отделенный от сцены. Хотя возможно, что граница между ними нарушается целенаправленно, будто вторя народному театру. О таком театре, например, мечтал А. Арто, предлагая рассадить зрителей в центре зала и отвести актерам периферию зала. Это был еще один вариант ухода от сцены-коробки.
* * *
Всякий театр создает особое пространство. Г. Д. Гачев полагает, что он «есть мироздание, модель мира, космос, как он представляется человечеству, народу» [Гачев, 1968, 212]. Школьный театр представлял христианский космос, «небесный град» и ад с его разверстой пастью, землю, с которой люди отправляются или в ад, или в рай. Чтобы воссоздать эти варианты пространства на сцене, драматурги не только пользовались словом, сценическим движением. На сцене выстраивалось художественное пространство, вторящее иерархической структуре картине мира.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.