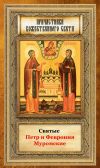Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 55 (всего у книги 72 страниц)
Перебивая сюжет разрозненными дистопическими мотивами, напоминая о конце света, Конвицкий не меньше, чем космическому пространству, уделяет внимание пространству геополитическому, доказывая, что конец света настиг и его. Умирают отдельные страны – Украина и Литва. Скоро конец света придет в Германию. Слышится последний вздох Белоруссии и Татарии, всех республик СССР, где произошли знаменательные изменения. В Сибирь теперь никого не ссылают – она стала главным стратегическим районом страны. Изменилась политическая ситуация в мире. Теперь социалистический пример деморализует Запад. Как видим, здесь апокалиптический мотив приобретает политические измерения.
Они сохраняются с введением темы родины. Ее политическая ситуация дана через государственную символику. Польский герб теперь – это маленький орел, окруженный огромными снопами. Снизу его подпирает земной шар с серпом и молотом. Всюду мелькают символические голубки – красный и красный с белым хвостиком, красный, красный и белый – это цвета польского и советского знамен. Польша – первый кандидат на вступление в СССР, оно вскоре совершится, о чем свидетельствует приезд советского руководителя в Варшаву. Его встречают восторженными лозунгами. Рядом с ними намалеваны и лозунги антигосударственные. Их уже давно никто не стирает, в чем видится намек на социальную апатию, охватившую Польшу. Политический строй рушится, и это разрушение создает своеобразную дистопическую карту социалистического лагеря, но никак не возврат к прошлому.
Уже нет страны моего детства, констатирует герой. Его провожатый описывает эту ситуацию в романтических терминах: «Umiera ziemia guślarzy i wróżbitów, umiera ziemia proroków i mesjaszy, co już nie zdążyli zbawić świata» [Там же, 39]. Здесь и пророки, и певцы, и колдуны. Писатель упоминает их преднамеренно. Как пишет О. Цыбенко, невозможность возвращения в утраченный рай детства есть «одна очень богатая и очень „польская“ традиция, традиция великих романтиков XIX в., нашедшая свое плодотворное продолжение в веке XX, а в 70 – 80-е годы породившая такое уникальное явление как „романтическая горячка“» (термин М. Янион)» [Цыбенко, 2000, 55].
Конвицкий описывает не только пространство социалистической Польши. Он намечает контуры городского пространства, искаженного, как во всякой дистопии. Так, на пути к Ченстохове теперь расположены шахты. Добраться туда, как и в любой город или воеводство, чрезвычайно трудно – ужесточен контроль за передвижением граждан. Каждый по пути следования должен предъявлять паспорт. Города и воеводства слабо связаны между собой. Перед нами доведенные до абсурда правила жизни социалистического общества. Теперь они стали штрихами уходящей в ничто современной герою Польши.
Особое внимание уделено в романе Варшаве. Конвицкий, явно предпочитающий натуру культуре, представляет город как особый вид художественного пространства. Основная тема здесь – умирание города в центре Европы. Его распад, разрушение даны таким образом, что обычные городские неурядицы перерастают в символические картины уничтожения нормальной человеческой жизни. Раскопаны улицы – они превратились в каньоны. Рухнул мост Понятовского, но никто не расстраивается – ведь еще осталась пара мостов. Город отравлен – над ним плывут ядовитые газы. Илистая Висла несет отравленные воды. Самолет, потерпев аварию, садится на берег в городской черте. Повсюду царит холод: газа уже нет, но дома взрываются. Исчезают и другие приметы цивилизованной жизни: в домах выключают воду, хотя она заливает улицы. Под землей, в каналах действуют партизаны (явная аллюзия на к / ф «Канал» А. Вайды), а может, и воры. Люди забыли, что такое телефон – сорван кабель. Еще как-то работает «скорая помощь», но вызвать ее можно только по тайному номеру, который знают лишь избранные. Пустые трамваи дремлют на улицах. Умирая, город охвачен страстью к переименованиям и к памятникам, которые теперь ставят не людям, а идеям, про которые все тут же забывают.
Разруха, которую рисует писатель, являет собой не только апокалиптическую картину. Конвицкий неявно указывает на то, что город этот лишен какого-либо определяющего смысла. Как сказал бы М. Элиаде, город утратил свой небесный прототип. Напомним, что под тем же углом зрения на Петербург взирал Мицкевич.
Не только город, но каждый дом – этот символ человеческой жизни – умирает в романе. Большинство городских строений предназначено на снос. Полностью разрушилось здание, где размещалась редакция журнала «Шпильки». Его ступени обвивает разросшийся вьюн, повсюду растут волчьи ягоды. Дворец культуры, маркированный как центр социалистического города, уничтожил грибок и плесень. По утрам с него падают блоки. Металлургический комбинат давно разобрали на кирпичи. В домах через балконные двери сочится вода, как и в квартире героя, полной старых грязных тапок, где не звонит телефон и очень холодно, а стены дрожат от непрерывных салютов. В некогда роскошном ресторане выбиты окна, под ногами посетителей груды разбитого стекла. Там грязно, как на центральном вокзале.
Город уходит в никуда, он не отдает свое пространство природе. К ней нет возврата. Жалкие попытки возродить природу сводятся только к добыче пропитания. Посреди города на бывшем паркинге пекут картошку. Везде разбиты грядки, а улицы зарастают сорняками. Деревья, чудом сохранившиеся, стоят черные от грязи. Весь город покрыт саваном апатитовой пыли. Повсюду носятся одичавшие собаки. В этом пространстве и времени живут люди, будто выпадая из них. Это «выпадение» автор подает очень осторожно, не отходя от реалий, но выбирая из них те, которые образуют основные культурные коды. Он так усиливает и переплетает эти реалии, притом постоянно их повторяя, что хорошо знакомая действительность приобретает зловещие черты дистопии.
Автор существенно увязывает характеристику пространства с анализом природы человека, проводимым в различных терминах, сводимых к дистопическим. Тема космоса, всегда привлекающая Конвицкого, органично спроецирована на человека. Главный герой описывает свое одиночество в космических масштабах. Млечный Путь для него – это крохи человеческого бытия, шум которого раздается у всех в ушах. Так думает не только он. Философ-марксист утверждает, что он капля в океане хаоса, который мы называем космосом.
Дистопия Конвицкого не безнадежна. Ее напряженность, как и бессмысленность будущего подвига героя, исчезает с введением евангельских мотивов. Через них автор ведет тему жертвы героя, его будущего самосожжения во имя высшей правды, приподнимая смысл навязанного герою поступка и тем самым разрушая дистопический план романа. Подвиг, на который герой назначен, ему самому до конца непонятен. Он лишь постепенно и очень осторожно начинает к себе и к своим действиям примерять великий образец. Таким образом, у него не только свой Апокалипсис, но и свои муки на кресте, с которыми соотносится самосожжение. Размышляя о своей будущей жертве, герой не раз называет ее Вознесением.
Ему известно, что величественное здание, символизирующее братскую дружбу советского и польского народов, – это его Голгофа. Впереди последний километр моей Голгофы, замечает он, приближаясь к своей цели. Уже получив приглашение на казнь, он именует свой маршрут крестным путем, а паузы-остановки получают название из сакрального круга значений – stacje. Это квартира, где герой получает задание и где его судят коллеги и некто, кто имеет облик партизана. Это кинотеатр «Волга», где происходит встреча с известным режиссером, которого почему-то не избрали для высокой миссии. Ресторан со знаменательным названием «Парадиз» – там начинаются смертные муки героя. Это подвал ресторана, собравший на подземную оргию случайных и малознакомых герою людей. Заброшенный дом, где состоится любовное свидание героя. Больница, где умирает организатор акции. Заросший парк, осененный встречей с бывшими возлюбленными, – решается этот эпизод в ироническом ключе. И… наконец, Дворец культуры.
Не только сам герой переводит происходящее в план сакральных значений. Провожая его в последний путь, один из организаторов акции произносит напутственную речь, активно используя евангельскую лексику. Он говорит, что герой воскресит людей своей смертью и спасет их. Примером для него должен послужить один арамеец, 2000 лет тому назад произнесший, что в жертву следует приносить не агнца, не соседа или брата, но самого себя. Так прямо заявлено о смысле жертвоприношения, пусть этот организатор и употребляет давно забытые им слова только в целях убеждения и пропаганды.
Таким образом, в романе, несмотря на заявленную связь с Апокалипсисом, мотив второго пришествия не реализуется. Его заменяет мотив Imitatio Christi. Он пронизывает весь роман, спасая человека от дистопии. Этот мотив определяет аналогию шествия героя к Дворцу культуры с пасхальным эпизодом страстей. Когда герой подходит к своей Голгофе, мир, наконец, принимает исконные очертания. Тихий снег стирает всю его грязь. Одновременно все в мире становится лишним и неважным. Важен лишь последний шаг человека, отважившегося спасти себе подобных. Герой готов спасти не только человека, но и мир от конца света. Близится жертва во спасение. Она и свершается, политическая акция не состоится.
Так в польскую литературу XX в. входит мессианистская идея, проходящая через всю романтическую культуру: «Важнейший завет польского романтизма: „Свобода отчизны превыше всего“, хотя и подвергается испытанию на прочность в сознании повествователя, все же, в конце концов, торжествует, освящая жертвоприношение героя» [Nowicki, 1990, 12]. Очевидно, что не только Конвицкий стремится к синтезу сакральных значений и утопической формы. Это устремление довольно часто встречается в самые разные эпохи [Мельников, 2002, 36].
Концепция добровольной жертвы снимает ужас дистопии, обещая спасение человечества. Дистопические мотивы в романе, таким образом, имея важную семантическую нагрузку, находятся в слабой позиции. Они исчезают под воздействием вечной идеи спасительной жертвы. Выход из мира дистопии найден – это не политическая акция, как упорно предлагают воспринимать главному герою акт самосожжения, а искупительная жертва. Так дистопия спорит с Евангелием и проигрывает в этом споре. Этот спор знаменует ослабление страха истории.
* * *
Подводя итоги анализу трех произведений, можно сказать следующее. Красиньский, конечно, писал не утопию. Его «Комедия» – художественное выражение философии истории, в которой поэт не обошелся без утопических мотивов. Обращение к ним – только часть его художественных решений. Также Конвицкий лишь вводит утопические мотивы в свой роман, который ни формально, ни семантически не подчиняется главной утопической идее, которая у него лишь намечена и вдобавок подчинена идее религиозной. Наиболее полно мир утопии в дистопической форме представлен у Замятина.
Утопия и утопическое начало
Разные виды утопического пространства, разобранные нами, имеют черты сходства. Все писатели отмечают его закрытость. У Красиньского эта черта определяет тот самый лес, где скрываются повстанцы. У Замятина закрытым предстает город, огороженный Зеленой Стеной. В романе Конвицкого герой совершает свой путь с постоянными изменениями и колебаниями в городском пространстве, из которого нет выхода. Город никак его не отпускает к тому центру, где разрешится конфликт героя с самим собой. Примечательно, что Красиньский, рисуя лагерь повстанцев, центром лагеря делает виселицу. У Замятина этот центр – машина для казней. У Конвицкого центром пространства становится Дворец культуры. Так в разных произведениях сходно отмечена тема подавления человека пространством. У Конвицкого и Замятина явно звучит противопоставление города природе. В польском романе природа вписана в городское пространство и несет черты вырождения. Замятин же отделил природу от города и именно ей поручил тему свободы. Красиньский не подчеркивает противопоставления культурного пространства природному, но все же помещает повстанцев в пространство природное, с тем чтобы подчеркнуть их отчуждение от цивилизации.
Для всех утопий значим набор вещей. Для Красиньского это орудия убийства, которыми вооружены повстанцы. Замятин последовательно вводит в пространство ряд вещей, подавляющих человека, делающих его беззащитным, а его жизнь прозрачной для государственного наблюдения. Вдобавок все эти вещи новые и противопоставлены старым, которые герой Замятина видит лишь в Древнем Доме. Вещи в романе Конвицкого активно свидетельствуют о всеобщей разрухе и приближающейся катастрофе.
Мотив утраты веры характерен для всех трех произведений. Это не значит, что религиозная концепция истории не присутствует в них. В «He-Божественной Комедии» Красиньский в эпизоде с повстанцами представляет возможный ад на земле, сам Бог выступает у него как грозный судия. В романе Конвицкого возникает устойчивый мотив Imitatio Christi. Его герой в финале романа следует тем путем, который был начертан Иисусом. Если герою Конвицкого не удается спасти человечество и изменить ход событий, то сам он все равно встает на путь спасения. У Замятина присутствует явное противопоставление рая земного, утопического раю небесному.
Мотив искажения истории также присущ этим произведениям. Красиньский показывает потенциальный конец истории и возможность ее возрождения. В «Истории будущего» Мицкевич прослеживает изменения в мире и в обществе, ожидаемые в будущем в случае решительного поворота истории. Поэт предвидел «печальную и удивительную эпоху исторического финала» для всего западного общества [Филатова, 2004, 129]. Замятин наметил исключение счастливого будущего из истории. Конвицкий проследил возможные сбивы движения истории, знаменующие конец света. Таким образом, Красиньский нацелен на прошлое, Конвицкий усиленно отрицает настоящее, а Замятин – будущее.
Объединяет избранные нами для анализа произведения идея технического прогресса и его противостояния человеку. Она присутствует уже у Мицкевича, который видит будущее Европы, исчерченной железными дорогами, будто поднявшись на воздушном шаре. В этой картине технизация жизни еще не угрожает человеку. Мицкевич лишь предчувствует надвигающуюся опасность. Замятин раскрывает ее полностью. Оба писателя проводят идею обезличивания человека через отсутствие имени и замену его номером. У Конвицкого вся техника, транспорт и прочие механизмы разрушаются вместе с городом и с привычным укладом человеческой жизни.
Можно утверждать, что одни и те же мотивы, разработанные, конечно, по-разному, присутствуют в этих произведениях – чрезвычайно разных по характеру. Из них только роман Замятина написан в рамках утопии. И Красиньский, и Мицкевич, и Конвицкий предпочитают лишь вводить утопические мотивы, что, тем не менее, решительно усложняет семантику их произведений. Эти мотивы легко вычленяются, а сама утопия обычно свободно «разбирается» на части. Например, часто повторяющимся и устойчивым утопическим мотивом является мотив путешествия. Путешествует Хенрык у Красиньского, Д-503 марширует по городу и совершает рывок в мир природы. Герой Конвицкого проводит весь день в бесконечных блужданиях, путаясь и страшась приблизиться к опасной точке, где он должен будет принести себя в жертву политической идее.
Следовательно, можно говорить о том, что не только формальные показатели лежат в основе утопии, но и некий общий вариант видения мира. Подобное видение мира присуще многим эпохам и проявляется в разных видах искусства. Поэтому так свободно сочетаются между собой мотивы разных видов утопии, например, антиутопии и дистопии. Они могут дополняться элементами народной утопии. Уже название романа словенского писателя И. Стритара «Девятая страна», прямо отсылает к ней. «Девятая страна» – это «средоточие особого, крестьянского счастья» [Чепелевская, 2002, 122]. Утопическая «девятая страна» противопоставлена реальному пространству – Европе, которую жители «блаженного места» знают только по названию. Намек на народную утопию есть у Красиньского. О ней мечтают повстанцы, находящиеся пока в пространстве дистопии.
Различные варианты видения мира бывают пронизаны утопическим началом и необязательно реализуются в четко построенных утопиях. Утопическое начало шире понятия утопии, которая является его производной. Так, сарматская социальная утопия «не была детально описана ни в одном произведении определенного жанра, не нашла она и своего воплощения в каком-то конкретном плане преобразования общества, предложенного философами или современниками-обывателями» [Лескинен, 2002, 47]. При этом она явно просматривается в культуре того времени. В других случаях утопическое начало выражается в организованной форме, соотносясь с собственно утопией, антиутопией или дистопией, но бывает это далеко не всегда.
Таким образом, некоторые произведения лишь насыщены утопическим началом, другие же созданы по правилам утопии. Может быть, авторы подобных произведений понимают, что «трезвая» жизнь «совсем без утопии», так же невозможна, как и ее полная реализация. Попытки исключить из жизни все утопическое, «сделать ее ежеминутно контролируемой „практическим рассудком“, вполне возможны, и они приводят к тому, к чему приводит всякая тотальность, к тоталитаризму» [Чаликова, 1992, 19–20].
* * *
Рассмотренные нами типы театрального и утопического пространства позволяют разглядеть его различные очертания, разрешают проследить, как невидимое метафизическое пространство становится зримым на мистериальной сцене, как географическое и бытовое приобретают конкретность, как пространство трансформируется в утопии. Мы показали не только разные виды пространства, но и то, как с ними «работают» авторы. Теперь обратимся к философски осмысленному пространству в сочинениях Григория Сковороды, т. е. к пространству метафизическому.
Мир «земляной» и мир небесный
Философ полагает, что мир не един и распадается на мир реальный и духовный. Он описывает эти два мира, переходя от космических измерений к вещи, собирая воедино приметы духовного и плотского лишь затем, чтобы их резко разъединить. Он не прописывает тщательно образы этих двух пространств. В основном, Сковорода размышляет о них, придавая им самые различные измерения. Его занимает место человека в этом мире. Человек должен пребывать в мире духовном и бежать мира земного, где его подстерегают опасности. Философ призывает человека идти трудным путем к миру духовному.
Сковорода не останавливается подробно на иерархической картине мира. Он полагает ее данностью. Конечно, он говорит о рае и аде, но всегда стремится соотнести их с человеком, притом настолько, что помещает их в его сердце и душу. Тем не менее рай и ад имеют у него пространственные значения, всегда сплетенные с символическими.
Рай философ видел садом, но не единым, а будто сотканным из бесчисленного множества садов, как венец из веночков. В райском саду течет родник. Здесь возвышается райская «яблоня», древо жизни, соотносимое по структуре с садом [Цивьян, 1997, 583]. Это «мір Господень и день Господень», а также закон Божий. Яблоня противопоставлена «гибельной» смоковнице с ее «гладкой» тенью и смертными плодами, которые хватает человек, минуя райское древо. Также яблоня входит в противопоставление с «хврастіем», т. е. с самим человеком. Однажды упоминается семь райских яблонь, обычно присутствующих в иконографии. Говорится о райских плодах, которыми оказываются правнуки «премудрой прабабы» Евы, т. е. люди несовершенные. Кроме яблонь, в раю есть чудные «красный грозды», или виноград, что самым очевидным образом связано с наименованием Господа виноградной лозой: «Да красный грозд тебе принесу, как розу. / Грозд райскій / Из сада воскресенскаго» [Сковорода, 1973, 2, 165]. Как видим, рай оказывается Воскресенским садом, описывается он через тему Пасхи – центральную для религиозной философии Сковороды.
Он пишет о том, что в райском саду цветут чудесные цветы, но прямо об их красоте ничего не говорит. В проповедях XVII в. рай также изображался «вечнозеленым садом, наполненным розами, весельем, красотой. Никогда в нем не увядают, не перестают цвести цветы; всегда царит в нем весна с плодами лета так, что он подобен небу» [Корзо, 1999, 15–16]. Райские цветы, несомненно, прекрасны, но главное – что они издают неземной аромат. Потому весь рай – это сад благоуханный. Философ, видимо, вслед за Блаженным Августином, полагал, что обоняние не столь прямо действует на человека и не столь опасно для души, как другие его способности воспринимать мир [Бычков, 1995, 328].
Человеку трудно уловить аромат, который совершенен. Зато, взирая на райские цветы издали, с земли, человек может их разглядеть. Так неожиданно разрешается увидеть невидимое. Рай также можно вкушать, ибо он именуется вкусом. Принимает он значение сладости: «Едем значит рай сладости, увеселительный сад» [Сковорода, 1973, 1, 407].
Рай-сад – это закрытое пространство. Он окружен «непролазными» чащами. Об этих чащах говорится не раз. Так философ описывает загражденность рая, его закрытость. «Сад содержит в себе некую особую ценность (первоначально сакральную – священное дерево и под.), и потому нуждается не только в уходе, но и в охране <…> сад представляет собой замкнутое, огражденное (что и отразилось в его этимологии) пространство с контролируемым входом и выходом» [Цивьян, 1997, 583–584]. Один раз у Сковороды сказано, что дверь в рай – это блаженная нищета.
В опосредованном описании рая явственно проступает стремление символически представить христианскую картину мира и связать ее с человеком, подчеркнуть удаленность от мира реального. Так Сковорода передает идею недостижимости возвышенного и, удаляясь от очертаний небесного пространства, рассуждает о его сокровенных смыслах. Пространство рая остается непрописанным, в чем видится индивидуальное решение философа. В его время существовало множество развитых пространственных характеристик рая. Одну из них мы показали ранее на примере мистериального театра. Но Сковорода отказался от подробностей, наметив лишь удаленность и закрытость рая, придав ему неземную красоту, недоступную зрению человека.
Зато он объявил рай тождественным Богу и его заветам: «Что убо есть рай? Что ли есть благовидная светлость высоты небесныя, аще не заповеди Господни, просвещающія очи?» [Сковорода, 1973, 2, 111]. Так Бог становится раем веселья и мира нашего. Также рай есть истина Господня. Совпадая по значению с Богом, рай находится внутри человека, если он соблюдает заповеди Господни. Таким образом, для философа образ рая принципиально не конкретен. Главная задача состоит в осмыслении рая в терминах религиозной философии.
Рай не противопоставлен аду, что соответствует древней славянской традиции: «его (рая. – Л. С.) первоначальные картины <…> строились в оппозиции не к аду, а к земле» [Бартминьский, Небжеговска, 1999, 61]. Ад (пекло, преисподняя, тартар), как и рай, не описывается детально. Указано только, что оттуда вылетает нечистая сила, поднимается сам сатана, чтобы встретиться с архангелом Михаилом. Но о пространственных измерениях ада говорится чаще, чем о райских. Сказано об адском дне и вратах, означающих закрытость, замкнутость ада, который называется темницей. Может он именоваться царством. Введен относительно ада такой признак, как теснота. О «теснотах преисподних» упоминается не раз. Ад называется бездной, имеющей точный центр. Это гордость, т. е. бесовская мудрость, овладевающая человеком, когда он тщится воссесть на престоле Господа. Гордость – это «мати сих блядивых и презорливых бесиков» [Сковорода, 1973, 2, 111–112]. Матерью гордости является зависть, которая также выступает центром ада: «Она есть главным центром оныя пропасти, где душа мучится» [Сковорода, 1973, 1, 153].
Философ характеризует нижний ярус мира как место, лишенное света, веселия, свободы, жизни, мира. Огромное значение для его характеристики имеет категория свободы, которой лишается человек, попадая в лапы дьяволу. Бог даровал человеку свободу – дьявол ее отнимает. Адовы жители суть пленники. Среди них царствуют вечная печаль и отчаяние. О пленниках, сущих во аде, говорится не раз, как о тех, кто не узрел Господа и видит одну только темную тень. Они назидательный пример для живущих на земле: «Адскій узник есть зерцалом пленников мучительныя своея воли, и сія лютая фуріа непрерывно вечно их мучит» [Там же, 87]. Так ад преображается в волю человека. Мучения грешников в аду не попадают в поле зрения Сковороды.
Он совмещает метафорический и конкретный образ ада, и метафорический превосходит конкретный. Философ представляет его как точку, в которой перекрещивается множество условных значений. Ад вбирает в себя понятия плоти, горечи, тьмы. Сковорода наделяет его антропоморфными признаками. Не раз упоминаются челюсти адовы, которыми он все перетирает. Каждый человек может попасться ему в зубы: «Се ехідн лютый бежит, се мя достигает! / Се челюсть адску на мя люте разверзает! / Поглотить хощет» [Сковорода, 1973, 2, 160]. Но общая картина ада не складывается. Ад у Сковороды – это пространство метафизическое.
Конечно, в нем царят «труд и болезнь, печаль и воздыханіе». Связан ад не только с горьким, но и с горячим и злым: «Разве думаєш не одно то: неведеніе, ночь, сон, глад, меч, мученіе, смерть, ад?» [Сковорода, 1973, 1, 403]. Там делается все ненужное, лишнее, «скверное, мучительное, нечестивое, богомерзское, проклятое, мірское, плотское, тленное, ветренное, дорогое, редкое, модное, заботное, разорительное, погибельное, адское <…> и протчій неусыпающій червь» [Сковорода, 1973, 2, 76]. Так ад сближается с миром. В его описании оказываются возможными определения, присущие миру: ветреное, дорогое, модное, разорительное.
Ад, как и рай, находится в «нутре» человеческом, в его мыслях. Человек носит ад в себе: «Нет беднее и в самом аде, как болеть в самых внутренностях, а самые темные внутренности есть то бездна дум наших, вод всех ширша и небес» [Там же, 399]. Именуется ад поэтому мучительнейшим безумием. Беспредельный и бесконечный, ад становится сердцем человека. Воля и сердце «мучит паче тысячи адов» [Сковорода, 1973, 1, 376], – утверждает философ, продолжая мысль Блаженного Августина. Если эту злую волю уничтожить, то ад исчезнет. Люди, сами того не зная, всю жизнь на земле мучатся в аду и почему-то боятся ада после смерти: «Не все ли не преплывшіи мучатся в огненной бездне? Не все ли блеют о пекле? И кто уразумел пекло? Не смешно ли, что все в пекле, а боятся, чтоб не попасть?» [Сковорода, 1973, 2, 135].
Итак, описывая рай и ад, Сковорода соотносит их с Господом, дьяволом и, конечно, с человеком. Их пространственные характеристики довольно скупы. На первом плане находятся закрытость, отмеченность центра и расположение по вертикали. Трудно сказать, что философ уделяет значительное внимание срединному ярусу мира – земле, но все же о ней он говорит чаще, чем о рае и аде. Прежде всего его занимает натура. Сковорода не ставит своей задачей ее подробное описание, но все же, перед тем как наделить ее символическими значениями, задерживается на ней несколько долее, чем на рае или аде. «Не следует забывать, что для религиозного человека „сверхъестественное“ неразрывно связано с „естественным“, что Природа всегда выражает нечто, находящееся в высшей сфере» [Элиаде, 1994, 75].
Потому натура в представлениях философа не едина. Он все время переходит от понятия натуры «физической» к понятию натуры «духовной» и намеренно смешивает их. Он замечательным образом толкует противопоставление двух подходов к натуре. В диалоге «Имя ему – Потоп Зміин» Душа доверительно сообщает Духу о том, что она читала «некогдась, что еленицы и горнія козы не могут раждать, разве на сих горах» [Сковорода, 1973, 2, 143]. Дух объясняет ей, что это возможно «в одном разсуженіи о Боге», т. е. в Библии; «в натуре тварей нестаточное <…> в нашем великом мыре есть небыль. В Бозе и от Бога – все возможное, не от тварей ни во тварях» [Там же].
«Блаженная натура есть сама началом, то есть безначалною инвенціею, или изобретеніем, и премудрейшею делинеаціею» [Сковорода, 1973, 1, 354]. Она вечный источник опыта человека и ведет к познанию сущности Всевышнего, который и есть натура. Она отец и начало, ни начала, ни конца не имеющая, «первоначальная всему причина и самодвижущаяся пружина» [Там же, 418]. Также находятся соответствия между натурой и миром. Она лишь часть его, но очень важная, так как означает все, «что толко родится, во всей мире сего машине, а что находится нерожденное, как огнь, и все родящееся вообще, называется мир» [Сковорода, 1973, 1, 329]. Это все рождающая натура «не творит ничто же здура» [Там же, 87]. Она, следовательно, не только вечна, но в ней все зарождается, растет и умирает. Кроме того, она вмещает в себя понятие тайной, всемирной, Божией «економій»: «Не точию всякое раждаемое и пременяемое существо значит, но и тайную экономію той присносущной силы, которая везде имеет свой центр <…> кто яко то Бог?» [Там же, 329].
Философ вводит в пространство натуры человека, указывая, что человек не имеет права возражать против ее устройства. Он должен принимать ее такой, какая она есть, хотя есть такие, которые «неразумеюще хулят распоряженіе кругов небесных, охуждают качество земель, порочат изваяніе премудрой Божіей десницы в зверях, древах, горах, реках и травах» [Там же, 345]. Человек должен помнить, что натура – его единая учительница, которой не следует мешать. Она не только научает, но и исцеляет. Сковорода говорит о натуре как о Вселенной, различая земное и небесное пространства.
Небесное пространство – это простирающаяся выше звезд обширность, где находятся планеты, плавающие по небу, в том числе Земля.
Примечательно, что небожители, восседающие на дуге облаков, видят с неба «земной круг». Около планеты Сатурн находится Луна, и, может, не одна. Луна и Земля называются шарами, и на шаре-Луне, может, и живут люди, лунатики, или лунные жители, что философа не интересует: «Брось, пожалуй, думать мне, сколько жителей в луне!» [Там же, 86]. Он специально отмечает положение Луны между Землей и Солнцем. Небо философ уподобляет великому океану, на котором располагаются «Коперниковски сферы», они же Коперниковы миры, нужные философу лишь для того, чтобы сравнить их с сердцем человека.
Так происходит символическая интерпретация натуры, и вся картина мира соотносится с человеком. Небо – это не только океан. Существуют также небесная твердь и небесные горы. Так налаживаются связи между натурой и картиной мира, и «благокруглый» лук радуги становится раем, райком.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.