Текст книги "Суверенитет"
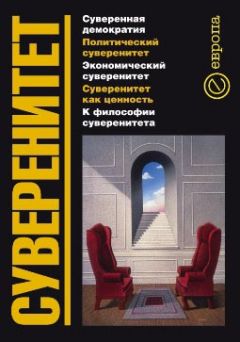
Автор книги: Никита Гараджа
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Александр Филиппов[50]50
Филиппов Александр Фридрихович – ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, заведующий кафедрой практической философии Государственного университета – Высшей школы экономики, кандидат философских, доктор социологических наук.
[Закрыть]
СУВЕРЕНИТЕТ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР
ЖИВЕМ ЛИ МЫ в суверенном государстве? Сосредоточено ли на вершине политической власти в нашей стране то совершенное полномочие, о котором говорит Конституция (см. в особенности Преамбулу, статьи 3,4 и 80), источником которого является «многонациональный народ» Российской Федерации? Эти вопросы могут казаться риторическими, и они действительно таковы, но риторика – необходимая составляющая политической реальности. В публичной коммуникации нередко в разной форме задается один и тот же вопрос: не является ли мнимым заявленный в Конституции суверенитет, не находятся ли источники важных политических решений в других странах? Эти сомнения переходят в порицание властей, чрезмерно уступчивых, по мнению критиков, в делах, подлежащих суверенной компетенции государства. Говоря языком юридическим, критики власти вменяют ей не одни только ошибки или злой умысел, но именно несамостоятельность, действие в согласии с чужим целеполаганием. Риторический ответ на порицания такого рода очевиден. Энергично отстаивая правильность своих действий, государственные деятели словно бы обессмысливают сомнения, касающиеся суверенитета: в самом деле, кто будет настаивать на порочности «внешнего управления», если дела идут хорошо? Изъян такой позитивной риторики тоже очевиден: уходя от проблемы в период благополучия, можно тем скорее дать ход вызревающим сомнениям, когда что-то не заладится. И потому вряд ли удивительно все более широкое применение другого аргумента, имеющего почтенный вид научного рассуждения, не связанного с соображениями безусловной лояльности высшим чиновникам. Старого суверенитета, которым грезят изоляционисты и консерваторы, больше нет и не будет, говорят просвещенные авторы, само это понятие стало архаичным в современном мире. Делать ставку на укрепление суверенитета государства в эпоху глобальных взаимозависимостей просто нелепо. Государство уже не является той инстанцией концентрированной идентичности, которой можно приписывать намерения, интересы и волю, а значит, все те формулы суверенитета, которые предполагают единство государства как личное единство, ответственность – как личную ответственность (означающую персональное вменение вины за исполнение чужих замыслов), ныне уже не действуют.
Нетрудно заметить, однако, что и «научный аргумент» имеет лишь относительную политическую ценность, поскольку его содержание является не всеобщим убеждением, но только одной из точек зрения, которая может быть правильной и может иметь успех, но только при столкновении с другой точкой зрения и при наличии признаваемых всеми правил дискуссии, когда добрая воля спорщиков или решение уважаемого арбитра приведут их к согласию. Такие дискуссии в политике редкость. Здесь мы сталкиваемся не с одними лишь аргументами. Риторика – только часть политики. Действия же могут быть основаны на совершенно ложных, архаичных убеждениях – и при том быть вполне эффективными, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если политик успешно действует, исходя из концепции суверенитета, которую мы предварительно рискнем назвать традиционной, или если действия политика успешно дискредитируются его противниками на основании такой концепции суверенитета, то и ближайший результат их действия имеют такой, как если бы прежние времена еще никуда не ушли. Видимость сохранения старого суверенитета имеет объективный характер: это не оптический обман, а сложное, слоистое устройство социальной жизни, в которой отжившее не исчезает в одночасье, но длит и длит свое существование, только с точки зрения просветителей утратившее актуальность.
Утверждение об устаревании традиционных концепций суверенитета имеет, однако, несомненное достоинство в том отношении, что позволяет перенести рассмотрение вопроса в более продуктивную плоскость.
В самом деле, и критики уступчивого государства, и сторонники отказа от избыточного акцентирования его полномочий, в сущности, придерживаются сходных воззрений на характер происходящего. Они только оценивают его по-разному. Первые считают его признаком слабости российского государства, вторые – одной из примет современной эпохи, начавшейся уже сравнительно давно. Однако применительно к нашей нынешней ситуации их вердикты чуть ли не тождественны: по меркам традиционного понимания суверенитет России неполон. Надо или не надо его восполнять, чтобы приблизиться к стандартам суверенитета, – это уже вопрос другой. В русле таких описаний двигаться дальше просто некуда, потому что стандарты суверенитета, обоснованные применительно к реальностям совсем иного времени, сами по себе не пригодны не только для того, чтобы критиковать или защищать современную политику, но также и для того, чтобы объявлять современное стремление к суверенитету заведомо архаичным. Если с переменой эпох понятие не исчезает, то не стоит ли нам присмотреться к тому, что делает его по-прежнему актуальным? Если времена переменились, но действия на основе представлений о суверенитете могут иметь успех, то не стоит ли нам присмотреться к тому, чем обусловлен он хотя бы в ближайшей перспективе? И во всяком случае, мы вправе задать простой вопрос: не может ли быть так, что даже самые радикальные изменения в существе современного суверенитета, если они вообще имеют место, все-таки означают не более чем его эволюцию, но отнюдь не отмирание?
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ПЕРВЫЙЧАС РОЖДЕНИЯ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА
ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА, говорил Карл Шмитт, конкретно и привязано к определенной эпохе. Она миновала, и то, что мы по привычке называем государством, походит на суверенные европейские державы времен разложения Священной Римской империи немногим больше, чем на греческий полис или цивитас латинян. Между тем, именно в эту эпоху зарождается и развивается понятие суверена и суверенитета.
Это может показаться странным. В самом деле, мы привыкли к тому, что, начиная с описаний древности, большие державы, империи, царства, княжества и даже города именуются в исторических сочинениях государствами, и если эти государства не были покорены, если находились на вершине славы и могущества, то разве не был им свойствен тогда суверенитет? Ответ на этот вопрос весьма непрост. Говорим ли мы о полной независимости государства от других государств или же о способности его властителей принимать во внутренних делах любые решения, не ограниченные ничем, кроме собственного произвола? В первом случае нам пришлось бы забыть о всех международных договорах и соглашениях, практикуемых с давних пор. Во втором случае нам пришлось бы забыть о том, что произволу могут быть положены границы другими обладателями властных полномочий и действующими законами. Кроме того, помимо закона человеческого с древности признавался закон божественный, тот вечный закон, который нельзя преступить безнаказанно, хотя он и не всегда прописан в виде юридических формул. С самого начала здесь нужна полная ясность. Речь идет не о том, возможны ли были прежде, как возможны они и до сих пор, проявления безудержного самовластия вне и внутри могущественной державы. Речь идет о том, что устройство власти интерпретируется в обществе и представление о том, что даже и государю не все возможно, прочно укоренено в европейской истории, из которой мы и по сей день черпаем наши политические понятия.
Если кто-то считает, будто в Средние века неограниченный произвол монарха подчинял себе «божественное право», то это ошибка, писал известный исследователь и критик суверенитета Бертран де Жувенель. Все как раз наоборот: верховная власть была разделена (ибо кроме короля была еще королевская курия, или совет – прототип позднейших парламентов), ограничена могуществом сеньоров и отнюдь не суверенна в делах законодательства. Слова апостола Павла о том, что нет власти не от Бога, трактовались в том смысле, что повиновение Богу (и церкви!) обязательно для властей. Такая трактовка неудивительна как раз потому, что средневековое мышление было пронизано принципом единства. Но речь шла о единстве всего человечества, которое выступало для мыслителей того времени как основанное Богом единое государство или империя, которое состоит, собственно, не из отдельных людей, но из меньших сообществ, сохраняющих относительную самостоятельность. Церковь и государство суть два порядка существования людей, которые не противоречат друг другу, но сочетаются в единстве устроенного Богом универсума. Правда, не так уж долог был век такого гармоничного воззрения на политическую жизнь. Одни исследователи полагают, что уже в самом начале XI века, когда папа Григорий VII объявил государство «делом дьявола и творением греха» (лишь церковь может освятить его!), был запущен тот процесс, который привел к разрушению всей конструкции: реакцией на попытки полностью подчинить государство церкви стала разработка концепции государства как сугубо светского учреждения. Другие авторы считают, что роковую роль сыграли попытки превратить империю в универсальное государство – независимо от того, предпринимались ли они папами или императорами Священной Римской империи. Главное здесь – коренное изменение картины мира, совершившееся в XIII-XIV веках: «Верхушка старого иерархического порядка, империя и церковь как мирская власть отступили на задний план и поблекли; определенные сообщества, стоявшие в иерархии союзов на более низкой, чем империя, ступени, уплотнились. Сверху, от империи, они притянули к себе совершенную власть и свободу политического действия и не признавали уже над собой никакого главы, никакой решающей инстанции. С другой же стороны, они впитали в себя сообщества, находившиеся ниже их, и уничтожили их собственную правовую жизнь; они присвоили себе исключительное право через войну или судебный приговор выносить решения о жизни и смерти людей».
Вот что оказывается важным! Если в те времена, которые позже не очень справедливо окрестили «темными веками» средневековья, политическая мысль могла вдохновляться видением огромной империи, не просто охватывающей в перспективе все человечество, но и находящей свое место в устройстве мироздания, то попытки придать этой империи сугубо посюстороннее, мирское содержание или, наоборот, сугубо теологический смысл уже привели к существенным проблемам. Но эти проблемы обострились, когда наподобие империи стали трактовать заведомо ограниченные, не универсальные государства. Те полномочия, которые раньше могли приписываться только императору или папе, теперь обнаружились у королей («король является императором в пределах своих владений», говорили юристы при дворах французского, испанского, английского королей), и этих полномочий оказалось слишком много, чтобы перед ними могла устоять самостоятельность многообразных сообществ и властей. Король становится сувереном, и подданный оказывается в конечном счете один на один с сувереном, без социального посредничества, поруки и защиты. Ибо суверен – это не просто человек. Это персонифицированное государство. Само слово «суверенитет» означает при этом не высшую власть среди множества существующих властей одного качества, хотя и разной силы. Суверенитет имеет характер экстраординарной, исключительной высшей власти. А первым, кто определил ее таким образом, является знаменитый французский юрист и богослов Жан Боден.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ВТОРОЙВОЛЯ МОНАРХА И ВОЛЯ НАРОДА
В ТРАКТАТЕ «Шесть книг о государстве» (1576) Боден дал классическое, повсеместно цитируемое определение суверенитета как «абсолютной непрерывной власти государства». В начале XX века Карл Шмитт предложил следующую трактовку его рассуждений: «Он разъясняет свое понятие на множестве практических примеров и при этом все время возвращается к вопросу: насколько суверен связан законами и обязательствами перед сословными представителями? На этот последний особенно важный вопрос Боден отвечает, что обещания связывают, ибо обязывающая сила обещания покоится на естественном праве; однако, в случае крайней необходимости, обязательство, предписанное общими естественными принципами, прекращается…В определенном случае необходимо действовать вопреки таким обещаниям, изменять или совсем упразднять законы…». Поэтому для Бодена не был сувереном, например, римский диктатор, недолгое время обладавший абсолютной властью. При самых неограниченных полномочиях власть не суверенна, если не постоянна. Мы видим, что происходит: если в крайнем случае можно пренебречь велениями «естественного права» (формулы которого не только открываются здравому разуму каждого человека, но и вписаны уже в те времена в авторитетные своды законов и юридические толкования), то эта способность оборачивается для суверена специфической свободой по отношению к народу и его представителям. Откуда же берется эта свобода? Ведь одно дело – доказывать, подобно Бодену, что такова логика суверенитета, и совсем другое дело – обнаружить подлинный исток этой логики в самом устройстве политической жизни. Для нескольких последующих веков главным объяснением суверенитета стал общественный договор.
Конечно, это отдельная и довольно трудная тема, но сказать несколько слов о ней мы все-таки должны. Долгое время распространено было такое представление: народ приглашает на правление государя и договаривается с ним. Понятно, в общем, что кого можно пригласить, того можно и прогнать, то есть расторгнуть договор. Конечно, для утверждения полновластия королей и новой трактовки суверенитета это было неприемлемо. Но если выводить нерушимость суверенной власти из «вечного закона» и «естественного права» становится все труднее, то на чем же еще может быть основана власть государя? Не традиционный, но вполне отвечающий духу новой европейской научности ответ на этот вопрос дает в середине XVII века Томас Гоббс, один из величайших политических мыслителей Запада. Никакого народа, заключающего договор с сувереном, нет до тех пор, говорит он, пока нет государства. Никакого государства нет, пока нет суверена. Никакие договоры не будут соблюдаться, пока нет гарантирующего их государства, то есть суверена. Никто не может гарантировать договор народа с сувереном, потому что единственным гарантом выступает он сам, и если его положение зависело бы от договора, то есть признания, то надежность таких гарантий была бы ничтожна. Это значит, что суверен хотя и обязан своим положением общественному договору, однако не является одной из сторон договора! Все выглядит совершенно иначе. В некотором гипотетическом, «естественном» состоянии, когда государства еще не было, у всех людей было равное право на самозащиту, так что, отстаивая свою жизнь или приобретения или даже из честолюбия, они должны были соперничать в борьбе за власть. «И причиной этого не всегда является надежда человека на более интенсивное наслаждение, чем уже достигнутое им, или невозможность для него удовлетвориться умеренной властью; такой причиной бывает и невозможность обеспечить ту власть и те средства к благополучной жизни, которыми человек обладает в данную минуту, без обретения большей власти». А поскольку их соперничество не могло быть урегулировано ни силой, ни авторитетом, естественным состоянием была война всех против всех. Но как можно добиться мира? Только через заключение договора. А что заставит соблюдать договор? Ведь если один из договорившихся нарушил договор, то он в более выгодном положении, чем тот, кто его соблюдал. Нужен страх гарантированного возмездия за нарушение договора. И потому необходим суверен, которому люди передают то, что они никак не могут доверить друг другу: право карать нарушение договора смертью. «Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал каждому другому человеку: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему твое право и будешь санкционировать все его действия». Это лицо или собрание лиц и есть суверен.
Суверен – не только верховный властитель, но и верховный судья в вопросах веры и прочих суждений и мнений, могущих иметь значение для государства.
Кажется, что суверен у Гоббса получился страшненький. Недаром, говоря о суверенном государстве в тоне осуждения, часто вспоминают название его знаменитого трактата «Левиафан». С Левиафаном была связана длительная и довольно скверная традиция мифологических трактовок, так что Гоббс, доказывал Карл Шмитт, серьезно промахнулся, избрав такое чудовище на роль наглядного символа. Но даже если и не придавать значения тому, как должны были мыслить себе Левиафана воспитанные в определенной духовной традиции европейцы, наше нынешнее впечатление от построений Гоббса может быть самым тяжелым.
Нам, знакомым с историей позднейших авторитарных и тоталитарных режимов, легко представить себе суверена как стража абсолютной несвободы граждан.
Ведь он может быть верховным властителем, только будучи верховным интерпретатором законов, верховным судьей и палачом, единственным, кто может карать смертной казнью. Граждане же не допускаются не только до публичного обсуждения суверена, но даже и до публичных дискуссий по неполитическим, духовным вопросам, если только это может навредить государству.
Однако давно было замечено, что в намерения Гоббса вряд ли входило обоснование безграничного господства. Прежде всего полномочия суверена прекращаются за границами государства. Никакого государства государств нет, и суверены между собой находятся в естественном состоянии войны. Между прочим, это означает, что за границами государства кончается и безусловная лояльность гражданина: например, попав в плен на войне, он обязан быть верным тому, кто его пленил, а не тому, кто послал его воевать. Во-вторых, внутри государства суверен все-таки интерпретирует естественный закон. Он отнюдь не свободен в выборе целей своего правления, потому что задача его – сохранение тела государства, где царят мир и благополучие. В-третьих, недостаток публичной свободы отчасти компенсируется свободой частной. Это в том, что касается мнений. Что же касается собственности, торговли, ремесел, то задача суверена в том и состоит, чтобы гарантировать надежность приобретений, сделанных путем «безопасным и безвредным для государства».
Гоббс сам говорил, что основная задача его труда – показать взаимосвязь защиты и повиновения. Но подобно тому, как в Средние века не удалось в полной мере реализовать проект гармоничного сосуществования церковной и светской властей, так в новое время не удалось гармонизировать всевластие государства и надежность частного существования. Пожалуй, наиболее показательно здесь развитие идеи суверенитета в знаменитом сочинении Ж. Ж. Руссо «Об Общественном договоре». Руссо отказывается от идеи репрезентации – суверен един и не может быть никем представляем. А поскольку он образуется благодаря общественному договору, то суверенен именно народ, а не «лицо или собрание лиц». Суверен – это «политический организм», «коллективное существо», «условная личность». Он появляется в силу гипотетического «первого соглашения», благодаря которому народ конституируется как народ. С этого момента у народа и появляется неотчуждаемый суверенитет. Это значит, что, изъявив согласие безусловно повиноваться некоему правителю, т. е. отказавшись от суверенитета, он перестает быть народом. В свою очередь, власть политического организма, т. е. суверена, безгранична. «Подобно тому, как природа наделяет каждого человека неограниченной властью над всеми членами его тела, общественное соглашение дает политическому организму неограниченную власть над всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общей волей, носит, как я сказал, имя суверенитета».
Так что мы не вправе констатировать существование «политического организма», не добравшись до характеристик общей воли. Она «неизменно направлена прямо к одной цели и стремится всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу, но не всегда видят, в чем оно». Общая воля, чтобы она была поистине таковой, «должна исходить ото всех, чтобы относиться ко всем» и не может устремляться «к какой-либо индивидуальной и строго ограниченной цели». Казалось бы, вмешательству политического организма в частные дела поставлен предел! Политический организм активирован общей волей, когда речь идет о политических, общих делах. Дела частные его касаться не должны. Но не так все просто. Индивидуальное благо каждого гражданина зависит от его представлений о достоинстве и свободе. Общественный организм образуется, по договору, посредством отчуждения части «силы, имущества и свободы» каждого человека, вступающего в соглашение. А сколько должно быть отчуждено и сколько ему оставлено, решает суверен, то есть общая воля. Суверен не может действовать против интересов общественного организма. Но не заблуждается ли суверен, не ошибается ли общая воля? Чтобы выяснить это, гражданин мог бы применить универсальный критерий «достоинства и свободы». Но что он должен понимать под этим? Свою естественную свободу он потерял, вступая в общество. Приобрел же он свободу политическую. Это значит, что он может сам не понимать своего счастья, и в таком случае задача суверена – «силой принудить его быть свободным».
Вот здесь уже никаких сомнений быть не может. Суверен не просто всевластен в самых главных вопросах человеческого существования, поскольку оно детерминируется политическим организмом, он принуждает человека извне и изнутри, он проникает в глубины его сознания и воли, заставляет его смотреть на себя как бы со стороны – стороны суверенного общества. «Чистая воля как таковая, которая для самой себя есть цель своего исполнения, является истинным сувереном, – пишет замечательный немецкий историк Райнхарт Козеллек. – Результатом является тотальное государство. Оно покоится на фиктивном тождестве гражданской морали и суверенного решения. Всякое выражение воли совокупности есть всеобщий закон, ибо она может желать лишь свою собственную тотальность… Абсолютная общая воля, которая не знает никаких исключений, сама есть сплошь исключение. Тем самым суверенитет у Руссо разоблачается как перманентная диктатура. Он равноизначален с перманентной революцией, в которую превратилось его государство».
Мы видим, к чему приводит последовательно развиваемая идея суверенитета: если уж ограничений нет, то нет их ни в чем. Тотальность политического невозможно смягчить или замаскировать. Но мало этого. Ее невозможно персонифицировать! Конечно, решения принимают конкретные люди, и сам Руссо, между прочим, возлагает большие надежды на аристократическое правление, «когда мудрейшие правят большинством». И всетаки даже в самой абстрактной теории нельзя не заметить разницу между личностью, которой можно вменить ответственность, и безличной, в существе своем незримой общей волей, на которую с большим или меньшим успехом ссылаются в своей политической деятельности самые разные интерпретаторы. Сочетание совершенного полновластия и столь же совершенной невменяемости общей воли делает проект Руссо одним из самых страшных в истории понятия суверенитета. Французская революция, последовавшая через несколько десятилетий после публикации трудов Руссо, с ее «Декларацией прав человека и гражданина», с ее формулами народного суверенитета, вписанными в несколько конституций, с ее попытками учредить новую, гражданскую религию (необходимость которой также обосновывал Руссо) и, конечно, с ее перманентностью и террором служит хорошей иллюстрацией этого вердикта.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































