Текст книги "Суверенитет"
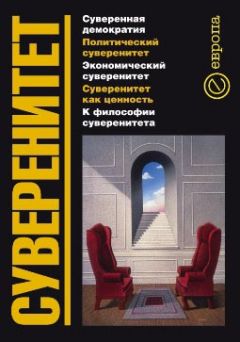
Автор книги: Никита Гараджа
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
ДОЙДЯ ДО ДАННОГО ПУНКТА своих рассуждений, я испытываю некоторое затруднение в подходе к этому вопросу; на мой взгляд, он уже решен, и сейчас было бы достаточно лишь высказать общие утверждения.
Если никакая человеческая власть по природе своей не может претендовать на обладание суверенитетом по праву, то никакая власть равным образом не может претендовать и на неотчуждаемость, т. е. она не может утверждать, что в любом случае ее падение не будет легитимным, а права утраченными, что бы она ни делала и чего бы ни желала.
Как можно было утверждать подобное? И тем не менее это утверждали, хотя и избегая, отказываясь довести его до логического конца, не учитывая примеров, которые со всей очевидностью его опровергают.
Примеров хватает как в древние времена, так и в более близкие к нам эпохи. Кто осмелился бы сказать, что ни одно из правлений не заслужило своего падения, что не существовало тираний, совершенно законно свергнутых? Я почти испытываю стыд, приводя факты. Но так ли уж были неправы бравые конфедераты Рютли, освободившие Швейцарию от австрийского ига? Имели ли Нидерланды моральное право терпеть кровавый гнет Филиппа II? Возьмем примеры другого рода: совершил ли преступление св. Реми, признав сувереном Кловия, когда римские императоры впали в детство и стали неспособны управлять галлами? И должны ли были франки оставить погибать государство или призвать в качестве властителей первых Каролингов, когда выродившееся племя детей Кловия предоставило зарождающуюся Францию внутреннему распаду и бесчинствам сарразинов?
Стоит ли мне говорить об этом наводящем ужас деспотизме, который под именем Робеспьера уже в наши дни составил несчастие нашей страны? Такой ли уж незаконной была борьба против него и замена его иным правлением?
Стоит нам признать легитимным один только из приведенных случаев, и выдвинутый выше принцип окажется поверженным. Следует защищать право власти, но право не ее действий, а ее происхождения; ведь если действия власти никогда не могут заставить ее утратить свое право, то, безусловно, она получила это право вследствие своего происхождения, поскольку последнее не изменилось.
Странное смешение! Этот так называемый принцип в основе своей есть не что иное, как отрицание всякого права народов, формальное признание одиозной максимы, в соответствии с которой абсолютная и полная легитимность принадлежит установленному правлению, фактической власти. А между тем среди людей, проповедовавших это утверждение, многие погибли, отказываясь принять фактическое правление, защищая права власти, которой уже не было!
Я благословляю их непоследовательность, поскольку она доказывает, что человеку дозволено в той же мере полностью отрекаться от истины, в какой дано познать ее всю целиком. В древности тирания была повержена друзьями свободы. В новое время она претерпела сопротивление друзей старого порядка. Но будь то старая или новая тирания и каковы бы ни были противники, под чьими ударами она пала, ее крах был столь же легитимен, сколь и их сопротивление, ибо сопротивление, как и власть, черпает свое право в своей моральной легитимности, в своем соответствии вечным законам разума; и никакой человеческий суверенитет не является неотчуждаемым в теории, так как в реальности ему может недоставать моральной легитимности.
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕГИТИМНОСТИЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЭТА ИНАЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ, освящающая власть исключительно из-за ее давности и основывающая свое право на ее древности?
Это прекрасная и благотворная идея, введенная в мир естественными потребностями и тенденциями общества, которая вовсе не освобождает власть от случайностей, неотделимых от всех дел человеческих, и вовсе не придает ей суверенитета по праву.
В одной только монархической системе вошло в привычку рассматривать политическую легитимность. И напрасно. И правда, здесь политическая легитимность предстает в специфической и более очевидной форме. Но принцип, лежащий в ее основе, и его следствия встречаются во всех обществах, во всех системах правления.
Почему турийцы приняли ордонанс Карондаса[58]58
Карондас – ученик Пифагора, законодатель в Катане, убивший себя за то, что нечаянно оказался тормозом на пути осуществления внесенного им же самим закона (ок. 600 г. до н.э.). (Здесь и далее – прим. перев.)
[Закрыть], возжелавшего, чтобы любой гражданин смог предложить замену основным законам страны, лишь явившись в общественное собрание с веревкой на шее, рискуя быть задушенным, если его предложение не будет принято? Почему все государства, как древние, так и современные, как республиканские, так и иные, требуют для изменения общих правил их конституции длительного обсуждения и особых процедур?
Да потому, что народы эти приняли в принципе в качестве разумной презумпции моральную и реальную легитимность их главных установлений. Отныне они признали за ними право управлять последующими поколениями; когда же речь заходит о том, чтобы лишить их этого права, которым они уже давно владеют, они колеблются и с трудом соглашаются поверить в то, что это право ими уже утрачено.
Таким образом, политическая легитимность не является специфической и исключительной чертой монархической системы. Повсюду эта черта где-либо да присутствует, связанная с каким-либо институтом. В монархии ею обладает королевский престол. В иных формах правления она присуща некоторым статьям конституции, некоторым законам, быть может, даже некоторым утверждениям или привычкам. Именно ради легитимности римского сената пожертвовал Брут столь любимым им Цезарем, подобно ему горцы Шотландии в 1745 году пожертвовали собой ради Претендента[59]59
Первая половина XVIII в. в Шотландии была отмечена противостоянием дворянства и буржуазии юга страны, поддерживавших «славную революцию», а с другой стороны – аристократических кланов горной северной части («горцев»), выступавших в поддержку свергнутой династии Стюартов. В 1745—1746 гг. произошло новое выступление горцев и их окончательное поражение.
[Закрыть]. Оба этих случая мало схожи между собой, но и в том и в другом людьми руководит одно чувство, поскольку в их глазах одна черта освящает политические институты. Так, в самых различных формах, как в республике, так и в монархии все время воспроизводится один и тот же принцип; речь идет о постоянной власти, призываемой в пользу определенных сил, определенных правил, возымевших право как в отношении будущего, так и в отношении прошлого, как в отношении детей, так и в отношении отцов, поскольку вследствие их древности, равно как и благодаря их собственным и действительным заслугам эти силы рассматриваются как благие по своей сути, как легитимные.
Таким образом, один принцип пронизывает все правления; и несомненно он вызван к жизни самой природой человека и общества для того, чтобы осуществлять всю полноту власти.
В своих институтах и господствующих над ним властях общество ищет именно моральной легитимности, т. е. соответствия воли этих властей и их действий законам справедливости и разума.
Ни один институт, ни одна власть не обладают сполна этой, единственно абсолютной легитимностью. Но когда прочно установившиеся институты и власти почитают и воспроизводят законы разума достаточно верно, чтобы удовлетворить главные насущные потребности общества, когда они тем самым пребывают в гармонии со своим материальным состоянием, с моральным уровнем развития, которого достигло общество, тогда общество считает их легитимными; они и являются легитимными в меру несовершенства общества и их собственного несовершенства.
Рассматривая управляющие им власти в качестве легитимных, общество заранее предполагает, что они таковыми и останутся. В данном случае презумпция, как естественное следствие подобного рассуждения, также совершенно необходима для общества. Настоящее для людей представляется недостаточным; как только они осознают, что настоящее от них ускользает, оно имеет в их глазах хоть какое-то значение только благодаря обещаниям, даваемым на будущее. Если бы наша природа не была таковой, если бы память и предвидение не распространяли жизнь человека далеко за рамки ее материальных проявлений, не было бы ни семьи, ни общества, ни народа, ни всего рода человеческого. Никакая традиция, никакие обещания, т. е. никакая моральная связь не объединяла бы между собой эпохи и людей. Цивилизация не передавалась бы от поколения к поколению в качестве получаемого каждым из нас с определенной долей доверия наследия, каким его оставили наши отцы, с тем, чтобы приумножить его и передать нашим детям. Для каждого индивида мир начинался бы заново, люди сменяли бы в нем друг друга, не оставляя никакого наследства, столь же изолированные, столь же неизменные, как и животные, для которых не существует ни прошлого, ни будущего.
Презумпция легитимности не является, таким образом, и не могла бы явиться постоянно изменчивой презумпцией, которая ежечасно то исчезает, то возникает вновь в зависимости от каждого отдельного и преходящего действия власти. Провидение, создавшее человека во благо общества, а общество ради воспроизводства, возжелало, чтобы эти надежды были более прочными и более длительными. Когда надежда проникает в умы людей, она приобретает в них размах и силу веры. Факты способствуют ее развитию.
Политическая легитимность, будучи единожды установлена, утверждает себя посредством влияния, которое она, в свою очередь, оказывает на укрепляемую власть.
Сила, не будучи принципом правлений, постоянно оскверняла их доброе имя. Монархические, аристократические, демократические правления, там завоевание, здесь гражданская война, где-то ложь во имя Бога – все это отмечало первые шаги власти. Время течет и оказывает свое воздействие; принцип правлений, как порядок и власть подлинного закона, вступает в борьбу против изначальных пороков; власть упорядочивается и смягчается; под воздействием событий она постепенно приспосабливается к обществу, которое, также в силу необходимости, приноравливается к власти; между ними устанавливаются определенная гармония и законы, способные эту гармонию поддерживать; воздействия силы ослабевают, да и сама сила отходит, уступая место власти права. Наилучшее правление расценивается и как наиболее легитимное; полагаемое легитимным, оно становится и наилучшим: и под воздействием времени, которое одновременно укрепляет легитимность и делает ее более плодородной, предполагаемая легитимность правления подталкивает его таким образом к легитимности подлинной, выступающей единственной целью как усилий, так и уважения со стороны общества.
Такова в действительности природа политической легитимности. Она есть не что иное, как презумпция моральной легитимности; презумпция, устанавливающаяся в отношении институтов и властей лишь при двух условиях. Первое – чтобы они в определенной мере удовлетворяли главным насущным потребностям народов, т. е. чтобы они обладали известной долей подлинной легитимности; второе – чтобы с течением времени они получали одобрение.
Кто откажет времени в праве на подобное воздействие? Народы взывают именно к моральной легитимности; и для того, чтобы знать, содержат ли ее законы и обладают ли ею власти, их принуждают пройти через испытания, получить большинство при голосовании, доказать тем самым или, по крайней мере, предположить их реальные заслуги. Если правления существуют на протяжении веков не погибая, то это тоже для них испытание. Ведь люди, составляющие поколения, также представляют собой большинство. Долговременное существование не является ни случайным, ни лишенным разумных мотивов. Никакая сила в одиночку не способна получить признание ряда последовательных поколений. Чем же представляется власть опыта, как не силой длинной череды голосований людей? Древние власти обрели политическую легитимность в тех же трудах и на том же основании, которых люди требуют и от новых властей, дабы признать их легитимность.
Поскольку власти обрели легитимность, они могут и утратить ее; поскольку легитимность появляется на свет и развивается, она способна и погибнуть. Не может погибнуть только то, что не имело начала, в привилегиях же вечности безжалостно отказано тому, что создано Временем. Те же причины, которые обусловили приспособление общества к своим институтам, привели и к тому, что позднее общество может эти институты превзойти, ибо, как правило, общество развивается гораздо быстрее, чем власть. Власть в этом случае утрачивает первое условие политической легитимности, то самое, что одно только и позволило сохранять эту легитимность на протяжении веков. Власть перестает отвечать состоянию и общим потребностям общества, т. е. она не обладает более достаточной частью подлинной легитимности. И тогда наконец разворачивается величественный и трогательный спектакль.
Имя времени еще некоторое время защищает то, что его рука, создав однажды, затем разрушила. Презумпция легитимности власти ослабевает либо предстает неустойчивой и побежденной. Но порожденное ею чувство еще живет и длится, хотя основание, на котором оно зижделось, мало-помалу проседает, подобно тому, как уважение к старцу переживает мудрость, дарованную ему долгой жизнью. Более того, нам кажется, что это чувство черпает в состоянии тревоги, в которое впало в этот момент общество, животворную, но быстро улетучивающуюся энергию. Озабоченные угасанием легитимности, в которую они верили, люди боятся остаться без законов и без законных властителей; из опасения потерять их они пытаются удержать свои старые предположения, прежнюю веру, которая раньше позволяла им без страха смотреть в будущее. Это стремление людей, достойное уважения и справедливое в своей основе, также имеет и свою полезность; оно ставит спасительную преграду всегда жестоким кризисам; оно поднимается против их бесчинства, даже карает и тем самым предупреждает их возвращение. Наконец, оно поддерживает политические институты, пока это еще представляется возможным, и сохраняет пошатнувшийся социальный порядок, пока новая легитимность, более сильная, хотя и более молодая, отчетливо поднимется на горизонте, привлечет доверие народов, успокоит их относительно будущего и, в свою очередь, окажется во власти времени, которое одно только и способно ее освятить.
О ПРАВЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕКТО ВЫСТУПИТ ЗДЕСЬ СУДЬЕЙ? В этом состоит вопрос, сложность которого часто заставляла отвергнуть принцип, сам по себе неоспоримый.
Конечно же, люди были бы счастливы встретить где-либо судью, точно и заранее знать закон, способный высказаться о подобных разногласиях; знать благодаря определенным и общепринятым признакам, где начинается тирания, за какой гранью власть безвозвратно утрачивает моральную легитимность, составляющую основу ее права. И тогда сопротивление, изменяющее облик империй, стало бы писаным правом. И можно было бы в конституциях или кодексах определять условия падения власти, как и условия ее обычного осуществления, условия революций, как и формы правлений.
Но людям не дано ни вершить столь великие дела посредством своих законов, ни заранее предписывать лекарства против подобных несчастий. Тирания не обладает столь единообразными и простыми чертами, что их можно было бы заключить и обозреть в философском принципе или конституционном тексте. Никто не осмелится утверждать, что сопротивление, угрожающее существованию власти, бывает легитимным столь же часто, сколь часто власть заблуждается. Кто заранее и в самых общих чертах может сказать, когда исполнится чаша этих заблуждений, когда общество, лишенное законных средств и чаяний, должно в большей степени опасаться продолжения своего существования, нежели потрясений, способных его опрокинуть?
Несомненно, что этот час может настать, что в известные моменты люди вправе думать, что он пробил. Но не существует средства, способного свести факты к принципу или подчинить человеческому предвидению бесчисленные неуловимые обязанности, права, интересы, выступающие в качестве элементов этой загадочной проблемы.
Сложности и опасности, таящиеся в этой проблеме, до такой степени напугали честных людей, что те не могли потерпеть, чтобы она была когда-либо поставлена. Они полностью отрицали право на сопротивление, утверждая, что когда сопротивление уже готово изменить правление, оно всегда незаконно, что в подобных кризисах народ всегда предпочитает проиграть, нежели выиграть.
Я не считаю, что человеческий род доведен до такой крайности, или что он должен всегда страдать, нежели выбрать столь ужасный шанс, или что этот шанс всегда скорее дурной, нежели благоприятный. На самом деле существовали тирании, которые навсегда погубили бы свой народ, если бы тот согласился их терпеть, но существовали и народы, которые путем сопротивления обрели тиранию. Таким образом, сопротивление не является ни всегда незаконным, ни всегда пагубным.
Правда, оно всегда было связано с незаконными действиями и великими бедами. Таким образом, случаи, когда оно представляется одновременно законным и необходимым, достаточно редки и достойны сожаления. Но к чему их отрицать? Когда же такие случаи действительно представятся, мы ничего не выиграем от утверждения, будто они невозможны; вопреки всем опасностям, как и всем теориям, люди, дошедшие до последней черты, будут требовать своих прав, и если какой-то народ в состоянии сокрушить тиранию, то можно быть уверенным в том, что во всех случаях он откажется ее терпеть.
Иные, более легкомысленные или более отважные, провозгласили, что право на сопротивление принадлежит народу, который всегда властен употребить его и изменить по собственному усмотрению установленное правление. Провозгласив народ сувереном и не будучи способными сделать так, чтобы этот суверен управлял самим собой, они вложили его суверенитет в право разрушать, обновлять правление, как ему это нравится.
Идет ли речь о разрушении или о сохранении, суверенитет не принадлежит ни одной из сил на земле. И не важно, проявляется ли эта сила в бунте или угнетении; если мы не рассматриваем ее в отношениях с законами справедливости, разума, она – лишь только сила и сама по себе не обладает никаким правом.
Право на сопротивление, как и всякое право, носит подчиненный и условный характер. Оно не является внутренне присушим никакой воле, коллективной или иной.
В моральных законах, откуда ведет оно свое происхождение, оно черпает также и свои правила, границы, условия.
Если действительно будет доказано – а пока что это не так, – что сила, вершащая судьбы государств, заключена в народе, т. е. в большинстве, народ не получит от этого никакого права восставать против своего правительства и изменять его в соответствии с капризами собственной воли. Если народ того хочет, говорят нам, кто способен помешать ему, если он на это способен? Если бы еще речь шла о силах, имеющих одного предводителя и носящих одно имя! Но и в том и в другом случае время берет на себя труд разоблачить дерзкие претензии. Во всей цепи поколений, образующих то, что называют народом, не одно поколение, употребив свое могущество против правления, признавало затем свою ошибку и сожалело о ней. Ему довелось испытать еще большие беды, нежели те, что породили его гнев, бремя более суровое, чем то, что оно сломало; и последующие поколения могли научиться присваивать себе с меньшим высокомерием право изменять правительство своей страны. Вот уроки, которые Провидение держит наготове, чтобы противопоставить их воле, претендующей на суверенитет, не заботясь о том, чтобы выяснить, стремятся ли они получить этот суверенитет посредством восстания или посредством тирании, являются ли они волей народа или волей короля.
И пусть не говорят, что народ всегда верно толкует подобные волеизъявления; что в столь ужасных для него обстоятельствах действие его силы всегда определяется лишь необходимостью и разумом. Уже не раз, особенно в маленьких государствах, народ желал и совершал несправедливые, абсурдные революции, результаты которых он был вынужден разрушить спустя некоторое время путем новых революций. В крупных государствах по мере распространения и укрепления понимания общественных дел эти невеселые предприятия становятся все более редкими. Тем не менее непогрешимость, коей никто не обладает в области правления, точно так же не принадлежит никому и в области восстания.
Склонность к бунту в человеке столь же сильна, как и любовь к абсолютному господству; а дух бунтарства даже против законного суверена, против подлинного закона есть коренной порок нашей природы.
Принцип, наделяющий правом сопротивления волю большинства, придает этому фатальному и грешному духу доверие, энергию, не менее оскорбительные для разума, чем губительные для общества.
Повсеместно нужно распознавать истинный человеческий удел. Он всегда один и тот же – как в области сопротивления, так и в области власти. Ни одна из сил сама по себе не обладает незыблемым правом увековечить свое господство. Никто не может требовать в свою пользу и на том же основании права изменять установленное господство. Как в одной, так и в другой претензии мы обнаруживаем узурпацию суверенитета и незнание его подлинной природы. Право на сопротивление в своем угрожающем и окончательном действии есть право, зависящее от случая, право проблематичное, и ни одна воля не может полностью присвоить его себе, никакая особая и постоянная сила не может обладать им на законных основаниях – на основе конституции или закона; последствия употребления этого права нельзя предвидеть, его осуществление нельзя заранее урегулировать, наконец, ему всегда сопутствуют внушающие ужас факты, и, таким образом, мы не можем заблуждаться относительно несовместимости этого права с законами справедливости и разума. Но так же верно и то, что при всех условиях, в указанных границах и с учетом всех перечисленных шансов на успех, это право неоспоримо; если бы это было не так, если бы право, даже будучи невидимым, как оно и существует, не довлело над властями, его отрицающими, род человеческий уже давно подпал бы под власть тирании, утратил свое достоинство, как и счастье.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































