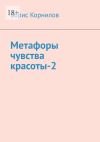Текст книги "Мир как осуществление красоты. Основы эстетики"

Автор книги: Николай Лосский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
4. Эстетический формализм в учении об искусстве
Красота есть ценность, присущая конкретному духовному или душевному, имеющему положительный смысл бытию, чувственно воплощенному. Выше было в достаточной мере разъяснено, что красота, хотя бы и в ущербленном виде, все же разлита везде в мире. Всякая жизнь, всякое человеческое лицо, всякая обстановка, в которой живет человек, даже и в ее нищете и неприглядности, в глубине своей таит положительный смысл и потому имеет в себе аспект красоты. Но увидеть эту красоту в реальной жизни часто оказывается делом очень трудным. Тут нам приходит на помощь искусство, как идеалистическое, так и реалистическое: найдя или сотворив осмысленное содержание, художник подыскивает и творит для него такую форму, которая особенно благоприятна для эстетического восприятия изображенного им предмета. Содержание изображения есть нечто основное; необходимость его сама собою разумеется, но, с другой стороны, как все основное, оно в своем глубинном значении поддается исследованию с великим трудом и лишь на основе подлинной философии при непременном участии метафизики. Поэтому исследователь, дорожащий тем, что в наше время называется “научностью”, и при этом исходящий, обыкновенно, из ложной теории знания, отрицающей возможность метафизики, стоит перед глубинным содержанием беспомощно. Наоборот, мастерство художника, форма изображения, не “что”, а “как” его творчества, будучи сравнительно поверхностною стороною искусства и принадлежа к области осязательно фактического, сравнительно легко поддается научному исследованию. Отсюда понятно возникновение эстетического формализма в учении об искусстве.
Формализм пышно расцвел в Советской России в 1917–1927 гг., особенно в отношении к поэзии. Для крайних формалистов в литературоведении предметом эстетического исследования служат только “приемы” оформления словесного ряда, придающие ему “эстетическую суггестивность”, говорит Б.М. Энгельгардт в своей книге “Формальный метод в истории литературы” (<Л.>, 1927). Я передам вкратце учения формалистов на основании изложения их в книге Энгельгардта.
Язык можно считать особою формою объективации мысли на известной стадии ее развития; возможна и другая теория сущности языка, именно учение о языке как средстве общения. Формальная школа, говорит Энгельгардт, строит свои учения, исходя из “коммуникативной точки зрения на язык” (59), т. е. из его речевой функции. Эта точка зрения дает возможность четко разграничивать содержание сообщения и средства выражении его. С точки зрения практической коммуникации, содержание составляет телеологический центр; а в эстетически значимой коммуникации, по учению формалистов, телеологическая доминанта принадлежит системе средств выражения (87). Содержание художественного произведения формалисты обозначают термином “материал”, а эстетически значимые средства выражения термином “прием”. Согласно эстетическому формализму, материал, т. е. содержание поэтического произведения играет второстепенную роль: материал “эстетически безразличен”, “содержание сообщения, его единоцелостный смысл не входит непосредственно в вещно-определенную словесную структуру” (81), которой только и принадлежит эстетическая значимость. Для целей практической коммуникации нужен “минимум ощущаемости средств выражения”; наоборот, эстетически значимая коммуникация требует “максимальной ощутимости средств выражения” (88). “Приемы”, посредством которых достигается эстетическая значимость речи, весьма разнообразны: сюда относится, например, “затрудненная форма”. Привычные восприятия, говорит В. Шкловский, один из самых ярких представителей формализма, становятся автоматичными, они служат только для узнавания[96]96
В. Шкловский. «Искусство как прием» в «Сборниках по теории поэтического языка», II, <Пг.> 1917, стр. 12.
[Закрыть]. В поэзии, наоборот, воспринимательный процесс есть самоцель; он “должен быть продлен; одним из приемов для достижения этой цели служит “речь заторможенная”, затрудненная (13). К числу этих приемов принадлежит также “остранение” (8).
В художественном произведении, излагает учение формалистов Б.М. Энгельгардт, искусственное оформление имеет целью сделать восприятие “самозначимым”; так как содержание эстетически безразлично, то художник подвергает его эстетической нейтрализации, он старается нейтрализовать “инозначимое” и, наоборот, поднять апперцептивность средств выражения (50–52). Благодаря таким “приемам” слово становится “самоценным”, т. е. эстетически значимым. Крайняя ступень самоценности слова достигается в поэзии, создающей “заумный язык”, “самовитое слово”, т. е. в поэзии, совсем отбрасывающей содержание. В поэзии, пользующейся “заумным языком”, на первом месте стоит фонетическая сторона: ритм, метр, эвфоника, мелодика (66–72).
В заключительной части своей книги Б.М. Энгельгардт дает существенные основания для критики, имеющей целью опровергнуть эстетический формализм. Энгельгардт ставит вопрос, что составляет предмет исторического исследования литературы с точки зрения формализма. Возможны, говорит он, три плана исследования: 1) отношение художественного произведения к автору; 2) отношение к читателю; 3) отношение к предшествующим литературным фактам, т. е. история развития и смены литературных форм. Первый путь исследования не подходит для целей эстетического формализма, рассматривающего художественное произведение “как словесное образование с установкой на выражение”. Энгельгардт поясняет это путем сравнения с решением арифметической задачи о стоимости покупок, произведенных каким-либо лицом в течение дня: если ученик решает арифметическую задачу, для него безразличны купленные предметы; наоборот, если подсчет производится в конце дня хозяйкой, для нее существенное значение имеет вопрос, на что были употреблены деньги. И для поэта, говорит Энгельгардт, творимое им художественное произведение есть не задача из задачника, а “личный счет”, “оформление объективирующегося в слове внутреннего и внешнего опыта” (93–94). Иными словами, для поэта содержание творимого им стоит на первом плане и “приемы” оформления суть для него только средство внушительно подать содержание. “И для читателя”, говорит Энгельгардт, “поэтическое произведение нечто гораздо большее, нежели словесный ряд с установкою на выражение”; эстетически значимые “смыслы” имеют несравненно большую ценность, нежели самозначимость максимально ощутимой системы средств словесного выражения” (94). Итак, формальный метод идет третьим путем: он изолирует художественное произведение от его творца и от читателя; он рассматривает произведение “как совершенно независимую в своем бытии вещь”. Таким образом, эстетический формализм ведет к “освобождению от субъективизма”, он рассматривает произведение “вне соотнесенности к культурному сознанию”; это – “научный объективизм” (95). Подводя итоги своему исследованию, Энгельгардт перечисляет характерные черты формализма: 1) отказ от анализа содержания сознания; 2) лингвистический план исследования; 3) изучение фактов эстетического опыта (106); 4) исследование не литературного произведения, как целого, а эволюции элементов его, именно эволюции “приемов” (108). Отсюда он приходит к выводу, что эстетический формализм есть не формальный метод в истории литературы, а формальная поэтика (112). Этот метод есть “отвлеченная односторонняя схема” (110).
В высшей степени ценно указание Энгельгардта на то, что и для творца художественного произведения, и для читателя содержание важнее, чем “приемы”. Формалистический подход к произведению есть действительно “отвлеченная, односторонняя схема”, отрыв произведения от жизни; в таком отвлечении поэзия существует только… для “формалиста” и для людей, подпавших тому извращению, которое мы рассматривали выше как эстетическое гурманство. Стоит только отдать себе отчет в этом, и тотчас становится сомнительным основной тезис формализма, согласно которому эстетическая значимость художественного произведения заключается в его форме, а содержание его эстетически безразлично. Это значило бы, что красота есть ценность, присущая не самой жизни, а лишь внешним способам ее обнаружения; в таком случае она была бы ценностью второстепенной, и красота художественных произведений упала бы на степень лишь средства забавы. Такое учение о красоте следует решительно отвергать. Даже и в области искусства, говоря о красоте, нельзя отрывать форму от содержания. Отстаивая этот тезис, коснемся вопроса о понятии формы и содержания.
Занимаясь проблемами эстетики, очень трудно дать точное определение понятий “форма” и “содержание”. У различных представителей эстетики оно весьма различно. Фолькельт четко разграничивает эти понятия: к области содержания он относит все духовное и душевное в предмете, а к области формы – все чувственно наглядное (1, 317 с.). Такое разграничение очень удобно вследствие его ясности, но оно имеет искусственный характер: если уж пользоваться понятием формы и содержания, то нельзя не признать, что в самом составе духовной и душевной жизни тоже есть не только содержание, но и форма. Я предлагаю для целей общей эстетики ввести понятие формы бытия, а для целей эстетики искусства прибавить еще понятие формы изображения бытия. Под словом “форма бытия” я разумею внешние отношения между элементами бытия, т. е. такие отношения, в понятие которых не входит какое-либо воздействие одного бытия на другое. Так, к числу внешних отношений принадлежит пространственный порядок, временной порядок, количество, интенсивность и т. п. Внутренние отношения, т. е. те, в самое понятие которых входит воздействие одного бытия на другое, например, быть отцом или матерью, быть сыном или дочерью, быть судьей или подсудимым, принадлежат уже к составу содержания бытия.
На своем определении формы и содержания бытия я не настаиваю. Думаю, что при любом определении критика эстетического формализма останется по существу тою же самою. В самом деле, форма бытия всегда неразрывно связана с содержанием. Даже внешние отношения, порядок бытия в пространстве или времени, хотя в их понятие и не входит воздействие одного бытия на другое, в действительности всегда являются следствием различных воздействий или условием для них. Поэтому изменение их всегда есть вместе с тем и изменение содержания бытия.
Ввиду глубокого единства формы бытия и содержания его становится совершенно непонятным, каким образом красота или безобразие, связанные всегда с существенными чертами бытия, принадлежат только форме его. Так, например, целесообразность, гармоничность, органическая цельность суть несомненно свойства бытия, имеющие ценность красоты, а противоположные им черты бытия имеют отрицательную эстетическую ценность, т. е. безобразны. Возьмем, как пример такой красоты, целесообразность, гармоничность, органическую цельность, мужественную непоколебимость благородного поведения митрополита Филиппа, когда он обличал жестокую и бессмысленную кровожадность Иоанна Грозного. С другой стороны, возьмем, как пример эстетического безобразия, убийство Иоанном Грозным своего сына – безумную жестокость, нецелесообразность, противоречивость, хаотичность и слабость, проявленные Иоанном Грозным в этом поступке. Если принять определение формы, данное Фолькельтом, то утверждение, будто эстетическую ценность имеет только чувственно наглядная целесообразность, гармоничность, органическая цельность и сила, а соответствующая им духовная и душевная целесообразность, гармоничность, органическая цельность и сила эстетически безразличны, может быть высказано, однако сразу видно, что оно произвольно: перед нами две стороны бытия, составляющие как бы один и тот же текст, выраженный на двух языках, и непонятно, почему одинаковые черты этого текста являются носителями эстетической ценности на одном языке и эстетически безразличны на другом. Это ложное утверждение может казаться правильным только потому, что лицо, приписывающее эстетическую ценность чувственно наглядной целесообразности, гармоничности, органической цельности и силе, на самом деле имеет в виду эти черты бытия не в чистом отвлечении, обессмысливающем их, а в пронизанности их духовным и душевным содержанием, т. е. в той полноте конкретного бытия, которая единственно и есть нечто эстетически ценное. Фолькельт отлично понимает это н потому является противником формализма. Если принять определение формы, данное мною, именно относить к области формы только внешние отношения, то эстетический формализм окажется даже и вовсе невозможным: одни внешние отношения, взятые в начисто осуществленном отвлечении, настолько лишены целесообразности, гармоничности, органической цельности, силы и т. п., что говорить в применении к ним об эстетике вообще невозможно.
Какое бы определение формы и содержания бытия ни было дано, всегда взаимопроникновение формы бытия и его содержания окажется столь глубоким, а эстетически ценное столь существенным, что только целое, состоящее из содержания бытия и его формы, может быть красивым или безобразным. Таким образом, эстетический формализм в общей системе эстетики должен быть отвергнут.
Учение, согласно которому красота и безобразие есть всегда ценность, надстроенная (фундированная) над другими положительными ценностями бытия, может вызвать подозрение, что в нем произведено смешение красоты с нравственным добром, разумностью, целесообразностью н т. п. ценностями, вследствие чего я отвергаю эстетический формализм. На это я отвечу, что такое смешение и подмена красоты другими ценностями часто встречается, но в моем учении этой ошибки нет: во всей книге на каждом шагу подчеркнуто, что положительные стороны бытия, нравственное добро, разумность, целесообразность и т. д., приобретают в дополнение к этим ценностям еще и ценность красоты не иначе, как поскольку они чувственно воплощены; впервые в этой конкретной целости осуществляется красота или безобразие. Нравственное добро, например, сознается мною как добро и доставляет специфическое нравственное удовлетворение даже и тогда, когда я имею его в виду в отвлечении от чувственного воплощения; но впервые в связи со своим чувственным воплощением нравственно доброе или злое проявление жизни осложняется в дополнение к нравственному удовлетворению или отвращению еще новою особою ценностью и новым своеобразным удовлетворением наблюдателя, именно эстетическим наслаждением или отвращением. Руководясь этим признаком, можно научиться подмечать в себе и других людях случаи смешения ценностей.
Эстетический формализм в учении о живой действительности есть учение ошибочное: красота и безобразие принадлежат всегда конкретному целому бытия, его форме, взятой вместе с содержанием. Если сущность красоты такова, то и в учении об искусстве эстетический формализм неприемлем. Но так как в искусстве форма имеет особенно заметное значение, то остановимся еще на этом вопросе. Когда у художника есть увлекающая его тема, какая-либо великая проблема мирового смысла, волнующая его до глубины души, впервые оформление ее превращает ее в художественное произведение. Искание и творение формы занимает много места во всех видах искусства. Из этого, однако, не следует, будто формализм в учении об искусстве нрав. Как в живой действительности, так и в творимой фантазиею красота принадлежит единому целому, состоящему из формы и содержания. Исследование Гроссмана “Творчество Достоевского” показывает, как много учился Достоевский у прошлой литературы, вырабатывая пряность своего изображения жизни и умение приковывать внимание читателя к своим произведениям. Однако попробуем отвлечь у него форму от содержания, и тотчас испарится высокая красота, содержащаяся, например, в главах “Идиота”, где речь идет о Настасье Филипповне или Аглае в их отношениях к князю Мышкину, или в главах “Братьев Карамазовых” везде, где рассказывается об Алеше Карамазове, или о Дмитрии Федоровиче с Екатериною Ивановною или Грушенькою.
На картине Дюрера "Cis. Иероним” изображена большая комната со сложною обстановкою немецкого уюта; на переднем плане лежит лев и собачка; св. Иероним погружен в писание книги, вокруг его головы – сияние. Вельфлин в книге о Дюрере говорит, что эта картина его “наиболее совершенная в смысле художественного воплощения: здесь уже тайна производимого впечатления не в самом образе св. Иеронима, не в центральной фигуре, а в передаче пространства и игре света”. На деле величие картины Дюрера получается не из одной игры света и передачи пространства, а из подчинения всех этих внешностей и деталей великому содержанию – гармонии духа святого: духовно-телесный свет, исходящий от него, все умиротворяет, даже льва, и все делает святым.
Формалист, отодвигая содержание на второй план, может сказать, что особенно часто портреты служат подтверждением его теории: свет и тени, контрасты, ткани, изображенные на портрете, складки их придают высокую красоту портрету, а лицо, изображенное на портрете, осталось бы тем же лицом и без этих красот. Это возражение не убедительно. В портретах, созданных великими художниками Веласкесом, Рубенсом, Рембрандтом, Серовым, через посредство упомянутых деталей уловлена жизнь большая, чем жизнь данного лица; всякая такая картина есть нечто большее, чем портрет, да и содержание самой портретной стороны, т. е. раскрытие индивидуальности лица, тоже совершенствуется в связи с формою портрета.
Те стороны формы художественного произведения, которые применяются, чтобы облегчить нам “незаинтересованность”, например, отвлечь внимание от крайней ужасности события, или, наоборот, имеют целью подстрекнуть внимание к событию, очень важны, но именно как средство сделать содержание доступным нашему эстетическому восприятию. Говорили о Сурикове: случайно удалось ему подметить "отражение горящей свечи днем на белой рубахе – и появилось “Утро стрелецкой казни”, достаточно было заметить ворону на снегу с отставленным крылом и “Боярыня Морозова” в замысле была уже рождена”, пишет Евдокимов в своей монографии “Суриков” (стр. 50). Сам Суриков рассказывал М. Волошину: “А то раз ворону на снегу увидел. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом “Боярыню Морозову” написал. Да и казнь стрельцов точно так же пошла: раз свечу зажженную днем на белой рубахе увидел с рефлексами” (95–96). Если дополнить этот рассказ Сурикова другими его заявлениями, окажется, что творение произведений его было длительным, сложным и глубинным процессом. Суриков говорил, что задумал стрельцов, “еще когда в Петербург из Сибири ехал” (ему было тогда двадцать лет); “торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь” (55–56). Евдокимов подробно рассказывает, как Суриков искал в действительной жизни фигуры и лица, подходящие для сущности его картин, например, лицо стрельца, на белой рубахе которого отражается свет зажженной свечи. “Я каждого лица хотел смысл постичь”, говорит он (93). Вся природа Сурикова была пропитана любовью к мощи русского народа, особенно казаков; он увлекался удалью, железною волею, свободолюбием русского человека и жадно впитывал в себя соответствующую сочную полнокровную жизнь. Стоит ему увидеть что-либо живописное, отражение света на рубахе, контраст вороны и снега, и это впечатление врезается в его память навсегда. Оно само в себе уже есть красивая жизнь, имеющая и форму п содержание, а потому годная для картины, которая была бы хороша, но не имела бы в себе значительной красоты. Суриков хранит в своей памяти такое впечатление, пока оно не послужит деталью для воплощения любимого значительного содержания, особенно того содержания, в котором проявляется мощь русского народа как в строительстве и защите государства (Петр Великий, покорение Сибири, переход Суворова через Альпы), так и в борьбе с ним – в отставании свободы духовной жизни (боярыня Морозова), в перенесении драматических положений (стрельцы перед казнью, Меньшиков).
В конце XIX в. передвижники с их проповедью общественного служения, гражданских мотивов стали изживать себя, интерес к ним ослабел; объясняется это многими сложными условиями того времени; среди них, если взять чисто художественную сторону творчества передвижников, главное значение имеет не то, что в их картинах ярко выдвигалось содержание, а то, что оно было тенденциозным и односторонним. Художники, группировавшиеся вокруг журнала “Мир искусства”, Александр Бенуа, Серов и др., в противоположность передвижникам выдвинули на первый план богатство красок, живописность линий, гармонию композиции. Все это не только форма, а и содержание мира, более разностороннее и богатое, чем только искание социальной справедливости. На субботниках у Симоновичей, рассказывает С. Эрнст в своей монографии, “В.А. Серов” <Петербург, 1921 >, при ближайшем участии Серова и Врубеля уже провозглашали лозунг “не что, а как”… Без сомнения, “как” очень важно в искусстве, однако самое превосходное “как” при ничтожном содержании дает только прелестные безделушки. Первоклассные творения, незабываемые по своей красоте, появляются лишь там, где мастерство изображения применяется для обработки грандиозного содержания; таков, например, у Серова “Петр Великий”, тогда как его же “Стог сена” очень хорош, но все же не вершина его творчества.
Легче всего защищать формализм в учении о поэзии, потому что бытие и слово, как форма изображения, сравнительно легко отделимы. В поэзии есть такие формы изображения, которые можно варьировать, не меняя содержания бытия. Таковы, например, рассказ намеками с целью пробудить в читателе любопытство, заинтересовать его, вызвать напряженное ожидание; постановка рядом контрастирующих содержаний, как форма рассказа, но не форма бытия; такая же внезапность переходов в рассказе и т. п. Но совершенно очевидно, что совокупность таких форм изображения не составляет художественного целого, которое могло бы быть носителем красоты. Впервые в связи с такими формами, как, например, мелодия стиха, образность слов и т. п., возникает красота, но эти формы неразрывно связаны с определенным содержанием. Недаром Энгельгардт говорит, что в проблеме “образности” – “ахиллесова пята” формального метода (76).
К каким следствиям ведет эстетический формализм, можно показать на примере проявлений его в русской науке. Образцом может послужить статья Б. Эйхенбаума “Как сделана Шинель Гоголя” в сборнике его статей “Сквозь литературу”[97]97
Статья впервые напечатана в 1918 г., сборник в 1924 г.
[Закрыть]. Вообще, говорит Эйхенбаум, текст Гоголя есть сказ, мимический и артикуляционный (174 с.). Основной слой “Шинели” комический сказ, а второстепенный слой – патетическая декламация, например, там, где Акакий Акакиевич говорит: “Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете!” и молодой чиновник в дальнейшей жизни вспоминает эту сцену, испытывая глубокое душевное потрясение. “Этому гуманному месту”, пренебрежительно говорит Эйхенбаум, “повезло в русской критике”. Общепринятое гуманистическое толкование “Шинели” он считает наивным и говорит, что здесь вовсе не вмешательство "души”, а – превращение Гоголем “комической новеллы” в “гротеск” (158). Художественное произведение, продолжает Эйхенбаум, “есть всегда нечто сделанное, оформленное, придуманное”, – “в нем нет и не может быть места отражению душевной эмпирики” (189).
В действительности творчество Гоголя, как и всех великих художников, было гениальным выражением его искания и видения мирового смысла. Драма его жизни заключалась в том, что он посвятил себя борьбе с дьявольскими силами, разрушающими жизнь человека, к изнемог в этой борьбе. В фантастически грандиозном виде он изображал сатанинские опустошения и искажения души[98]98
См. об этом статью Мережковского «Гоголь. Творчество, жизнь и религия», <М., 1914Х собр. соч., т. X, и исследование Мочульского в его книге о духовном пути Гоголя.
[Закрыть]. Само собою разумеется, придя к абстрактному замыслу изобразить печальную “серость” жизни маленького забитого человека, Гоголь, будучи художником, а не ученым, пишущим социально-психологический трактат, творит своею фантазиею конкретный уголок жизни и для своей цели должен сосредоточить сугубое внимание на форме, чтобы получилось выразительное целое; в “Шипели” это такое целое, в котором комизм мелкой жизни вдруг обертывается драмою, потрясающею читателя. Но вся эта форма рассчитана на то, чтобы внедрить в душу читателя содержание, дорогое художнику. Нельзя отрицать, что форма имеет громадное значение; в этом своем утверждении формализм прав. Однако существенная форма художественного произведения неразрывно связана с содержанием и служит ему: она содействует раскрытию мирового смысла и красоты мира, присущей целому, состоящему из содержания и формы. Как раз “Шинель”, заключающая в себе высший вид комического, именно сочетание его с драматизмом, есть наглядный образец неразрывной целости формы и содержания как носительницы эстетической ценности. Отодвигая в сторону содержание, как будто бы эстетически безразличное, формалист превращает истину ценности формы в вопиющую ложь.
Бывают случаи, когда художник увлекается искусною, завлекательною, остроумною формою ради нее самой. Это явление возникает тогда, когда художнику нечего сказать по существу, когда у него душа пуста. Такой художник не имеет цены и не будет жить в веках; это – гурман, эстет в дурном смысле этого слова, и творчество его может вполне удовлетворять только таких же гурманов, опустошенных людей, как он сам.
Правы те русские критики, которые говорят, что эстетический формализм низводит литературу на уровень “безыдейной игры”. Культ приема превращает искусство в средство забавы. Боюсь, не под влиянием ли теорий формалистов произошел в творчестве выдающегося художника Андрея Белого тот упадок, который обнаружился в конце его жизни в романе “ Маски”. В романе “Петербург”, стоящем почти на уровне творений Достоевского, А. Белый использует свой гений словотворчества для целостного и точного воплощения тончайших оттенков бытия людей, вещей, города Петербурга и жизни России. А в “Масках” своеобразное выражение мимолетных событий звуками и строением слова становится у него самоцелью, и роман распадается на множество кусочков, утрачивая цельность.
Мысль В. Виноградова, что “форма создает себе содержание”, могла придти в голову только человеку, не способному к художественному творчеству и не вживавшемуся в него. Для положительной эстетической ценности необходимо единство формы, а оно рождается из органического единства содержания.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.