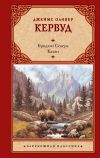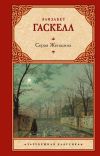Текст книги "На самом краю леса"

Автор книги: Петр Ильинский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Было это уже в сорок четвертом, но еще до того, как Вольфганг пропал, так что на бедняжку Эльзу все свалилось чуть не в один час. Сначала пришло письмо от кого-то из старинных родительских приятелей, кажется, пастора, его потом еще нацисты арестовали, он чудом жив остался, а потом опять сидел, уже при коммунистах, долго сидел. За него ваши патлатые никаких митингов не устраивали, писем не подписывали, им бы только в Латинской Америке революции придумывать. Но извините, теперь уж я сам виноват, отвлекся. Не по почте пришло, без марки и обратного адреса – кто-то в ящик опустил, вечером, наверно, они и не слышали. Мол, выражаю соболезнование, прямое попадание, смерть мгновенная, молитесь о душах ваших родителей. Думайте о ребенке, это вам поможет, и да благослови вас Господь Бог. А извещение о Вольфганге пришло в следующем месяце.
Но все-таки не похоронка, а что «пропал без вести». Тут хотя бы какая-то надежда. Еще с той войны люди помнили, что возвращались некоторые иногда года через два, а то и три, особенно, которые в Россию попали. Почернела Эльза, потемнела, но траура не надела – нельзя, подумают, что по мужу. И снова – за работу. В городах тогда всех сгоняли рвы рыть, убежища строить. А в деревне все же полегче было – и кое-каким хозяйством они обзавелись, успели, на последние-то гроши. Куры там, утки. По малости, конечно, много тогда ни у кого не было. И городские они – опыта никакого, смех один, хотя старая фрау Ортер в деревне выросла, помнила кое-что. Ну и Эльза потом поднаторела, тоже, чай, не белоручкой росла.
Летом начали уже по-настоящему бомбить и потянулся народ в деревню, кто мог. Все больше женщины с детьми малыми. Эльза две семьи к себе пустила, таких же жен солдатских, одна уже вдовая была. Хоть и тесно стало, а легче, да и по дому помощь как-никак. Одна из горожанок оказалась музыкантом и начала Марианну на скрипке учить. Да, вот так и перебивались, друг без дружки выжить непросто было. Ох, время, времечко…
Только тем, кто на востоке остался, еще хуже пришлось. Эвакуироваться ведь запретили, а потом надо было защищать нашу священную землю до последнего человека, сами знаете. А когда русские пришли, тоже, извините меня, сухарями с повидлом никого не кормили. Так ведь и мы их не миловали, прости Господи. Вот жизнь-то распроклятая, как подумаешь, а зачем это было? Что нам, одной войны не хватило?
Эльза никому не рассказывала, как прожила это время, так что не знаю, не спрашивайте. У них, слава богу, сражений не вели, даже город по соседству не бомбили – там теперь один сплошной музей, вы, я надеюсь, заезжали? Ну, тогда завтра, прямо с утра двигайтесь, обязательно, таких мест в Европе раз-два и обчелся. Тоже повезло, без этого на войне никак. Был, говорят, у англичан или у американцев в штабе разумный человек из старых офицеров. Или не злой, не знаю уже. Распорядился не трогать.
Так что выжила и даже не болела ни разу, не до того было. Что у нее на душе делалось – откуда мне знать, посудите сами. Только обмолвилась как-то: когда по радио объявили капитуляцию, она решила выбраться в город за продуктами – была не была – у них соль уже с неделю как кончилась. И вот услышала вместо сирены это «сообщение верховного командования», но ничего не почувствовала, никакого облегчения, только злость какую-то. Даже остановилась, слезла с велосипеда прямо у радиорупора, села в траву и ну рыдать в голос, никак остановиться не может. Не поверите – и ведь не она одна, мне многие, кто конец войны помнит, говорили подобное, и мужчины тоже. Даже не знаю, что сказать, как объяснить, но ведь и понятно, истощились все до предела, до самой последней ниточки, а тут всё, конец.
Только кому конец, а кому – еще ждать-дожидаться, годами мучиться. И долго, бывало, иногда лет двадцать спустя в Россию всё ездили, с сопровождающими разными, последние деньги изводили. Искали могилки, кресты ржавые или хотя бы таблички с датами. Не у всех вышло, даже так скажу: мало у кого, разве что у счастливцев каких. И никаких зацепок. К архивам не подступиться, да и не вся правда в архивах-то этих. До сих пор даже кое-кто ищет, сами знаете. Уже дети состарились, а так ничего разузнать и не могут.
У соседки новой, скрипачки, муж вернулся один из первых, даже не покалеченный. Чудеса – попал к англичанам, а они его быстро выпустили, и полугода не прошло. Он такой был, ничего, работящий. Птичник им сразу состряпал из последних досок. Взаправдашний, с насестом, а не палатку какую-нибудь с дырками в полстены. Но скоро съехали они, вот жалость, кричал бедняга по ночам страшно, всех будил, детей пугал. А сам такой небольшой совсем, лысенький, даже субтильный. По утрам ничего не помнил, стеснялся ужасно, конфузился до икоты. В общем, уехали они – лечиться и жизнь как-то устраивать. Но скрипку она Марианне оставила: сказала, учись, девочка, может, кому-то на этой земле еще понадобится музыка.
И аккурат в канун Рождества от Вольфганга пришла открытка, через Красный Крест. Мол, здоров, нахожусь в плену, место сообщить не могу, но обращаются хорошо, дают работать, ждите дальнейших известий. И про то, как в ответ писать, тоже сообщил, там и приписка была официальная, разъяснительная.
Вы спросите, что Эльза? Ну, она всегда говорила, что ни на единый миг не сомневалась. В том, что вернется. Что каждую секунду чувствовала – не погиб он. Наверно, так и было. Только ведь многие похоже говорили, а потом оказывалось – неправда, умер он, давно, в тот же самый день, когда извещение выписали. Или позже скончался – в плену, от ран да болезней. Или даже неизвестно, где и когда. Только не вернулся ни тот, ни этот, ни третий. Пропали вчистую. А Вольфганг – вернулся. Правда, если честно, после первой открытки в этом ни у кого сомнения не было. Коль он из той мясорубки живым вышел, то уж дальше как-нибудь выберется, головастый-то наш. Так оно и вышло. А что через пять лет, так многие же дольше просидели. Когда приехали – слова немецкого не помнили, слышали про такое? И все больные-пребольные, только и годны, что в санаторий. Вольфганг же, сами помните. Ну, постарел, обветрился малость и поседел чуток, но узнать можно. И здоров, и вообще – красавец мужчина, если уж напрямую. Тогда такие на вес золота были, между прочим.
Мать его, правда, не дождалась, вот что обидно. Сразу после войны ей чуток лучше стало, а когда открытка-то от Вольфганга пришла, она совсем приободрилась, по дому ходить начала. Убиралась, Марианну из школы ждала, чай заваривала. Они с Эльзой, к концу ее жизни, совсем сдружились, ладно жили, тихо. Не каждая мать со своей дочерью так может, скажу я вам. И ведь в какой-то момент от Вольфганга письма пошли чаще. Стало ясно, что положение улучшается и что скоро можно будет уехать, только держат его какие-то формальности да зацепки бумажные. Или еще какая закавыка? С русскими, сами знаете, договориться тяжело было – и тогда, и сейчас. Никакой разницы. Так что до последнего момента все было неясно. Может быть, фрау Ортер это и подкосило окончательно: то он вроде уже почти едет, а то вдруг опять что-то срывается. Последнее письмо из России, где он писал, что их не сегодня-завтра отправляют, Эльза ей у постели читала вслух, а та только глазами показывала, что понимает.
Перед смертью к ней речь ненадолго вернулась. Эльза рассказывала, что даже оторопела. Задремала она, вроде, у кровати-то. А старая фрау вдруг вздохнула и говорит: «Всегда-то я его слушалась…» Эльза сидит, сна ни в одном глазу, слова вымолвить не может. А та снова: «Всегда-то я его слушалась…» Замолчала и отошла вскоре. Вспоминала она, видать, что-то такое. Особенное, наверно, как же иначе. Так оно заведено в минуты нашего земного ухода. Но не знаю, даже представить не могу, что она имела в виду. Может, у нее уже сознание помутилось, так что и обсуждать здесь нечего, только остановиться на мгновение и почтить память усопшей. Хотя нет, говорят, что совсем в последний момент, наоборот, просветляется все. А вы как думаете?
Расспрашивал ли Вольфганг жену? И она его – как да что? Не знаю. Да чего тут расспрашивать, все ж и так понятно. Если выжили, надо жить. Вольфганг, между прочим, дома недолго сидел. Нанялся в налоговое управление, счетоводом, и еще поделками всякими подрабатывал, как-то обмолвился, что никогда ручной труд не любил, а русские сделали из него мастера на все руки. Что у них тоже с мужчинами остался большой недобор, вот и приходилось…
После работы гулял – всегда в одном направлении, к станции, сначала ровно полчаса, а потом, как силенок стало побольше, то и до часу доходило. И вечерами часто на крыльце сидел, точил что-то, собирал, свинчивал. Иногда задумывался, останавливался прямо посередине. Эльза тогда к нему на всякий случай не подходила – мало ли что. И так она нарадоваться не могла – вернулся живой, с целыми руками-ногами, без болей всяких да снов ужасных. Это, если честно, не часто бывало, спросите, если не верите.
Марианна, правда, никак к нему привыкнуть не могла. Да и понятно, она ж без него выросла, ей уже почти десять лет было, когда отец пришел. Чуралась, бегала. Начал он ее в город возить на велосипеде – музыкой заниматься, три раза в неделю, все деньги на это отдавали, а лишних тогда ни у кого не было. Тем более что они уже сестричку ожидали, вот так-то, на зависть многим. И родилась, Екатериной назвали. А потом через два года еще одна – Елизавета. Такие вот имена царские, даже императорские, можно сказать. Ну, эти девицы так и выросли – боевые, на подбор, с прямыми спинами да широкими глазами, никогда за словом в карман не лезли, их в школе даже учителя побаивались.
По службе Вольфганга постепенно продвигали, потом перевели в какое-то центральное управление. Стал он ездить туда на поезде почти полтора часа, на двух электричках, но жить к работе поближе никак не хотел. Не знаю, почему – привык, что ли? Да только жил-то здесь он не так давно, чтобы привыкнуть, так что вряд ли. Но домик тот, конечно, решил перестроить, расширить. Тогда вообще жизнь получше стала, если помните.
Только вот незадача – после родов-то последних Эльза страсть как сдала. Нервное что-то – пошла заговариваться, застывать на одном месте. Начали ее врачам показывать, а те ничего понять не могут: кто одно говорит, кто другое, кто шестнадцатое. И как тут разобраться, я вас спрашиваю? Этот предлагает пансионат, тот воды, третий – больницу с особым терапевтическим режимом. Делать нечего, надо все пробовать.
И так они ее, бедняжечку, тридцать лет возили: то на месяц с лишком в больницу, то снова домой. Не то чтобы совсем без пользы лечение это, бывало облегчение и не раз. Но как поправят ее чуть-чуть, проживет она в семье с несколько недель или даже больше, и прямиком обратно в больницу. Когда дома, то ничего страшного, совсем нормальная была, со стороны не заметно ни капельки. Только больше месяцев трех не удавалось ее в норме держать – приступы, скорая помощь, – и назад, под надзор знающих людей. Потом, конечно, задерживалась и на подольше – когда новые лекарства появились, успокаивающие. Но сначала тяжело было. И все – на Вольфганге, Марианна тогда уже поступила в консерваторию, хотя могла бы, конечно, отцу помочь, с сестрами-то. Ну да у нее уже другая жизнь началась, это правда. Вообще, другая жизнь очень быстро началась, лет через десять после войны, и была, знаете, веселая, что ли? Уж точно не грустная. Всегда так бывает: у молодых свое, у стариков свое. Одним – ломать дрова, другим – собирать опилки. Хотя какие они старики были – едва сорок стукнуло.
Вскоре после рождения Елизаветы, уже в середине пятидесятых, Вольфганг начал ходить на почту, отправлять какие-то заказные письма. Раз в месяц примерно. Толстые, с наклейками. Получал обратные, такие же толстые, но, как правило, с большой задержкой и нерегулярно. В серых конвертах грубой бумаги, с проеденными углами, перетянутые бечевкой, с какими-то старыми сургучными печатями. Потом объявил, что его перевели в другой департамент, но никогда не распространялся, какой именно. Письма ему по-прежнему продолжали приходить, правда, редко.
Иногда его с нового места посылали в командировки, недели на две. О них тоже Вольфганг особо не распространялся: куда, зачем, по какому случаю? Ни домашние не знали, ни соседи понятия не имели, хотя он их то и дело просил за дочками присмотреть. Только тогда платили маленькие суточные, вот он и стал немного экономить. Машину лет десять, наверно, не менял, а то и больше. Но жили Ортеры, конечно, не так уж плохо. Я о деньгах говорю, естественно, а про остальное разве кто знает. Сами слышали: чужая семья – потемки. И о правительстве от Вольфганга – ни одного дурного слова, а его, если помните, кто только тогда не поругивал. Все были недовольны – и левые, и правые, и либералы, и ветераны.
Марианне открыл глаза кто-то из ее однокурсников, кажется, даже пытавшийся в то время за ней ухаживать. Длинноволосый, по тогдашней моде, в узких, чуть коротковатых брючках и широконосых ботинках, которые, наоборот, были ему велики, смехота, да и только. «А не работает ли твой папаша на ведомство по охране конституции? Или на контрразведку?.. Сколько-сколько лет он пробыл в России? И язык знает? И ты об этом никогда не задумывалась? Ну, даешь!»
На последнюю фразу Марианна даже чуть-чуть обиделась, хотя была тем парнем серьезно увлечена. Но не вышло у них совсем по другой причине, я вам как-нибудь потом расскажу, сейчас не к спеху. А зарубку себе сделала – действительно, отец о своей работе никогда не рассказывал, никогда не уезжал в командировку без паспорта и по-прежнему часто гулял по вечерам, до городка и обратно, четыре километра, не меньше. Как-то она напросилась с ним, хочу, мол, прошвырнуться. Он удивился, но ничего не сказал. Махнул рукой в сторону – пожалуйста, и пошел вперед. Только иногда хлестнет палкой по травинкам: вжик, вжик. Или шнурок распустившийся завяжет. И дальше идет. Она – за ним, нога в ногу, но так и не решилась спросить о чем-либо. Так и прошагали они час с лишком – молча. Как во время оно на велосипеде – не было у них никаких разговоров, он ее вез, жал на педали, следил за дорожным движением, а она смотрела по сторонам или думала о предстоящем уроке. Да и о чем беседовать малому со старым-то? Вы не согласны?
И уже когда вдали завиднелось светящееся окно столовой, у которого ее родители, быть может, сидели поздней осенью сорок третьего года, Марианна вдруг спросила совсем не то, что собиралась: «А ты никогда не хотел съездить на восток, посмотреть на наш… твой дом?» – «Его уже нет, – быстро ответил Вольфганг. И зачем-то добавил: – Незачем перебираться через границу для того чтобы смотреть на развалины». – «А Колизей?» – тут же взвилась Марианна и даже не заметила, как их разговор повернул совсем в другую сторону.
По выходным герр Ортер продолжал понемногу работать над пристройкой к дому. Все материалы отбирал сам – ездил по магазинам, приценивался, проверял. Дотошный был хозяин, и знающий. Проектировщика пригласил для каких-то чертежей, а остальное – своими руками. Теперь немногие так делают, а в старое время, особенно в селах, было положено, чтобы каждый хозяин с деревом работать умел. Это ж вам не печи класть.
И вполне симпатичная комнатка получилась, доложу я вам. С окнами на восток, правда, на чей-нибудь вкус, чересчур широкими. Солнца многовато, особенно поутру. К тому же он туда передвинул свой письменный стол, а потом и кушетку – Эльза-то к тому времени не часто дома бывала, бедная. И, кстати, судачили тут некоторые, что надо бы Вольфгангу по закону развестись с ней, а то здоровый сорокапятилетний мужик пропадает. А если кто помнит, то на мужчин тогда еще очень даже большой спрос был. Это, доложу я вам, годов до семидесятых чувствовалось. Но Вольфганга ни в чем упрекнуть было нельзя – даже слухов о нем не ходило пакостных. Может, правда, у него на службе и были какие-нибудь шашни, никто не безгрешен, но тогда бы дошло до нас, так или иначе. Только ничего не слыхали мы: видать, и впрямь пусто. А что – ответственная работа, там, если найдется подходящий повод, сразу шантаж иностранных держав. Вот какие люди есть в нашей Германии, а вы всё – несчастная история, нам нечего любить, нечем гордиться… Трепаться теперь каждый умеет, научились. Волосы сначала подстригите, штаны подтяните и принимайтесь работать, вот что я вам скажу. Тогда и поговорим, так сказать, предметно.
Марианна уже взрослая была, совсем в город переехала. Домой заезжала редко-редко, но на Рождество по старой памяти всегда заскакивала, то с одним парнем, то с другим. Ничего, доложу я вам, среди них попадались, вполне. И как-то, это уже при Брандте было, одна приехала и вся такая белая, бледная. Щеки запавшие, скулы торчат, губы тонкие – одни глаза на лице. Вольфганг ее встретил на станции, привез, но не сказал ничего. Пошел на кухню – а готовить он тоже, знаете, за эти годы неплохо научился – за окороком смотреть.
Марианна в кресло упала, прямо в прихожей, и вдруг ему вслед – ни с того, ни с сего: «А чего это ты, папа, обеих сестер назвал, как русских императриц?» Вольфганг повернулся на пороге и говорит: «Потому, доченька, что некоторым русским я кое-чем обязан». Еще хотел добавить что-то, но понюхал воздух – и быстрехонько к плите. Но дверь на кухню не закрыл, нет.
Марианна тогда пробыла дома дня четыре или даже пять, до Нового года. Отошла немного, но ничего о себе не рассказывала. Кушала хорошо, с аппетитом. Говорят, она потом мать навещала, а до этого давно к ней не наведывалась. Эльза к тому времени уже совсем засела в больнице. Редко-редко Вольфганг ее домой привозил, может быть, раз в полгода, не чаще. У него как раз вдруг закончились командировки эти – то ли на повышение пошел, то ли деньги совсем урезали. Тогда, если помните, совсем морозно стало, кое-кто даже новой войны ждал – а что, правильно, кругом шпионы русские, вы же помните эту историю с помощником канцлера? Ух, тогда многих почистили. Что, может, и Вольфганг попал под горячую руку. У нас иногда не смотрят, когда по шапкам раздают. Не знаю, право.
Эльза его, бедняжка, умерла еще года через три, так и не оправилась от этой заразы. Вон как оно бывает. Уже и Екатерина с Елизаветой выучились и в город уехали. Да, всё один вытянул – а какие хорошие девочки получились! Теперь и говорите, что мужчины не способны детей воспитывать, это смотря какие мужчины. Нынешние – да, послабже будут. Нервные, одним словом, как что – сразу бегут на прием к психоаналитику, шасть на кушетку и давай жаловаться. Тут на меня голос повысили, там косо взглянули, а еще – мама тридцать лет назад беспричинно дала подзатыльник и я с тех пор ощущаю неуверенность в себе. Жизнь у них, скажу я вам, слишком легкая, в наше-то время не до нервов было. Вот Вольфганг: стал бы на нервы пенять каждому встречному-поперечному, никогда бы не сдюжил.
Марианна потом насовсем вернулась – видите, как оно склалось. Вот чего никто не ожидал. И не одна, а с малявкой-ползунком, симпатичным таким, веселеньким. Звали его Петер, все еще шутили, как один: Peter der GroEe[7]7
Петр Великий.
[Закрыть], понимаете, вот дурачье, ничего более умного придумать не могут. А Вольфганг так ее ни о чем и не спросил. Втроем жили. Марианна начала в школе детей музыке учить, и хорошо у нее получалось. Помните, наш школьный хор тогда даже земельный конкурс выиграл? Ну вот, это года через полтора было после ее появления.
Вскоре на Востоке все стало меняться. Многие ведь не верили, что из этого выйдет какая-нибудь польза. Думали: опять они что-то затевают, надо быть настороже. А Вольфганг – нет, воспрянул прямо-таки, помолодел даже. Расставил по подоконнику сувениры какие-то деревянные, раскрашенные, смешные. Хранил он их где-то, что ли?
Опять начал отлучаться, зачастил по своим делам, а ему уже годочков немало было. Ездил куда-то, писал, даже заверял что-то у местного нотариуса. Но по-прежнему не складывалось у него там, в неведомых инстанциях, хоть и с боннскими адресами были у него письма, и с берлинскими, и еще с какими-то, иностранными – все заказные, с уведомлением. А потом вдруг: раз, и он уже на пенсии. Подчистую. А что вы хотите, выслуга лет, тут исключений не бывает, мы ж не Латинская Америка какая-нибудь, у нас порядок. И все равно продолжал на почту ходить, слал пакеты всякие, письма – боролся, стало быть, за справедливость. Или чувствовал ответственность за порученное дело, хотел довести до конца. Да, в наше время таким было не удивить, это сейчас: дают расчет – так и конец, как отрезало. Ничего его, сударика, не волнует, ничего ему не надо. Ох, не доведет это нас до добра.
Только Вольфгангу – вот что странно – не отвечал никто. Молчок. А ведь должны, даже если дело самое что ни на есть глупейшее, отвечать, слать подтверждение, номер запроса, давать официальные разъяснения. Особенно человеку с таким послужным списком, да что там: любому обязаны. Порядок – он на то и порядок. Мы же не Латинская Америка, в конце-то концов. Что, я это уже говорил?
Вольфганг уже уставать начал. Гулял реже. На почту тоже почти перестал заходить, отчаялся, видно. Но тут до него никому дела не было. Все к экранам прилипли. Такое в Берлине закрутилось… И главное – вдруг, неожиданно – ну, вы помните, кто ж не помнит? А Вольфганг телевизора никогда не держал. Марианна не настаивала, и правильно: для детей оно лучше без телевизора. Вы, что, думаете, ее Петер случайно в школе лучший отличник? Но себе она купила маленькое радио и слушала тихонечко, чтобы отца не беспокоить – музыку иногда филармоническую, да и новости, конечно. Все-таки учитель, должна быть в курсе.
И вот как-то вбегает она к нему в кабинет этот затворнический, с окнами на солнце, и кричит: «Vati, Vati, die Mauer ist geoffnet!»[8]8
Папочка, Стену открыли!
[Закрыть] Именно «папочка», а не «отец». Никогда она его так не называла. Никогда. Вольфганг посмотрел на нее так – не забыть. Она осеклась, вышла на крыльцо, села и заплакала. Ноги сами подкосились. Уж сама не знает, чего плачет, родственников у них на Востоке никого уже сорок лет не было, только ревет без продыху, остановиться не может. А потом успокоилась, зашла в дом, и слышит: у отца в комнате шевеление какое-то. Хотела заглянуть, посмотреть, но не решилась. Пробралась к себе потихонечку, включила радио, ну, вот это самое: «Die Tore in der Mauer stehen weit offen»[9]9
Ворота в Стене по-прежнему остаются открытыми (известная фраза немецкого тележурналиста, сказанная 9 ноября 1989 г. в прямом эфире).
[Закрыть]. И слышит – кто-то стучит едва-едва, тихонечко, как пальцами по стеклу барабанит.
Открыла дверь, а там Вольфганг, уже собранный, с чемоданом, стройный такой, как из камня вытесанный. «Теперь, – говорит, – им никуда не деться. Пусть только попробуют меня не пустить». И когда Марианна обнимала его на прощание-то, вдруг почувствовала, сама говорила потом, первый раз в жизни, что это – ее родной отец.
Вот о чем я вам все это время толкую? Поняли, наконец? А, то-то же. Ну, слава богу, не отбили у вас газеты эти кое-какие извилины. Да, таких людей, как Вольфганг, чтобы сразу – и здравый смысл, и способность к анализу информации, у нас в Германии мало. Увы, мои дорогие, увы. Раз, два и обчелся – весь мой рассказ об этом. Видите, у него и чемодан, оказывается, был готов. Вы говорите: кто знал, кто думал? Некоторые, получается, очень даже все предвидели. Впрочем, может, у него сохранились разные каналы, старые связи-то. И он о таком проведать мог, о чем мы никак не догадывались. А вы как считаете?
2008–2012
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.