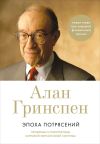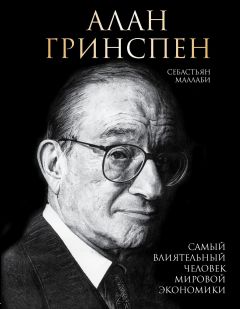
Автор книги: Себастьян Маллаби
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Глава 2
Не-кейнсианец
14 августа 1945 года полмиллиона жителей Нью-Йорка собрались на Таймс-сквер, прямо у ресторана Childs, где Гринспен выступал с оркестром Генри Джерома. Взгляды всех были прикованы к электрическому табло с бегущими строчками на здании New York Times, и в 7:03 вечера они услышали ожидаемую новость: «Официально – Трумэн объявляет о капитуляции Японии».
Последовал незамедлительный взрыв ликования. Люди на улицах подкидывали вверх шляпы и размахивали в воздухе флагами; офисные работники рискованно высовывались из окон и разбрасывали конфетти и серпантин, которые падали на головы прохожим; и повсюду передавали новости. В Гарлеме пары танцевали джайв на улицах, и автомобили не могли проехать, пока поливальные машины не разогнали пешеходов. В итальянских местечках Бруклина ликующие семьи устанавливали столы на улицах и предлагали прохожим еду, вино и ликеры. В Гарментском округе яркие ткани, перья и шляпки были усыпаны летавшим в воздухе конфетти. На кривых улочках китайского квартала мужчины, женщины и дети забирались на пожарные лестницы, бегали и размахивали американскими и китайскими флагами, а также приветствовали толпу ритуальными драконами, танцевавшими на пути по Мотт-стрит и Дойерс-стрит. Гудящие грузовики, заполненные радостными людьми, медленно двигались через плотный людской океан на Таймс-сквер. Мужчины и женщины обнимались. «Вчера в Нью-Йорке не было незнакомых людей», – констатировала New York Times1.
Тем не менее в атмосфере всеобщего ликования присутствовала и тревожная нота. Президент Трумэн, появившись на газоне перед Белым домом вместе со своей женой Бесс, отметил, что наступил «тот день, которого мы все ждали», однако затем предупредил: «Перед нами стоит величайшая задача… и нам понадобится помощь каждого из вас, чтобы решить ее»2. Страна была выведена из Депрессии благодаря военным потребностям, причем половина из них финансировалась в долг; это был, по словам историка Джеймса Паттерсона, «самый крупный проект общественных работ в истории страны»3. Но капитуляция Японии ознаменовала конец оборонного бума, и теперь США столкнулись с проблемой демобилизации 12 млн военнослужащих. Многие опасались, что вернувшиеся военные останутся не у дел, и очереди разочарованной, безработной молодежи будут предвестниками возвращения Депрессии4. Опросы общественного мнения показывали, что семь из десяти американцев ожидали ухудшения ситуации и сокращения их увеличившейся вдвое зарплаты, которой они наслаждались во время войны. Писатель Бернард Де Вото диагностировал у нации «страх, который кажется совершенно новым чувством… Это, возможно, самое ужасающее проявление войны – боязнь наступления мира»5.
Большинство американцев справились с этим чувством, положившись на правительство. Опыт военных лет показал, насколько эффективным может быть федеральное супергосударство; правительственные плановые институты решали, что́ должен выпускать каждый завод, и это способствовало успешному завершению войны6. В 1944 году Конгресс отреагировал на настроение нации, проведя законопроект GI – «солдатский билль о правах», предложив щедрые стипендии возвращающимся военнослужащим, которые хотели купить дом или поступить в университет. Той осенью в ходе президентской кампании Рузвельт поднял ставку, пообещав больше больниц, больше авиаперевозок и 60 млн новых рабочих мест; он выиграл выборы, одержав внушительную победу. К 1945 году общий объем федеральных расходов достиг $ 95 млрд по сравнению с $ 9 млрд в 1939 году; расходы в течение военных лет были вдвое больше, чем за предыдущие 150 лет истории США7. Внезапная смерть Рузвельта от кровоизлияния в мозг в апреле 1945 года не снизила энтузиазм страны в отношении его активистского подхода. После капитуляции Японии Трумэн обещал бороться за новый закон, гарантирующий полную занятость.
Таков был интеллектуальный климат, когда Алан Гринспен поступил в Школу торговли и финансов в Нью-Йоркском университете. Вера в государственное регулирование находилась на пике, а идеи laissez-faire (свободного предпринимательства) были отложены в сторону. «В 1945 году в Соединенных Штатах не существовало четкой, скоординированной, самосознательной консервативной интеллектуальной силы, – заявил Джордж Нэш, великий историк консервативного движения. – Раздавались, самое большее, разрозненные голоса протеста»8.
Приехав в университетский городок Нью-Йоркского университета застенчивым 19-летним юношей, Гринспен вряд ли мог не почувствовать эти интеллектуальные течения. После ухода из группы Генри Джерома он провел лето, курсируя между публичной библиотекой и квартирой своей матери. Гринспен усердно читал учебники, которые ему предстояло изучать в первый год своего экономического образования. Он хотел извлечь максимальную пользу из занятий, оплачиваемых его музыкальными заработками, и был настроен преодолеть стоявшее перед ним препятствие – двухлетний перерыв, проведенный вне учебного класса. Когда в сентябре университет открылся, молодой Гринспен ездил взад-вперед от Вашингтон-Хайтс до кампуса в Гринвич-Виллидж, где здания факультета окружали нелепую мраморную арку на Вашингтон-сквер, построенную в самоуверенном подражании Триумфальной арке в Париже. Там молодой Гринспен ощутил социальный климат, где доминировали легионы вернувшихся сержантов, отдыхавших вокруг богато украшенного фонтана в парке на Вашингтон-сквер. Они симпатизировали правительству, как и любая студенческая когорта – государство платило за их образование.
Преобладавший в стране прогрессивизм «Нового курса» не повлиял на формирование Гринспена: достигнув совершеннолетия в эпоху кейнсианского мышления, он оказался не-кейнсианцем. Заманчиво объяснить этот парадокс с точки зрения интеллектуального микроклимата, в котором жил Гринспен, поскольку Школа торговли в Нью-Йоркском университете по крайней мере частично противоречила более широкому национальному духу. Во-первых, у школы имелась строго практическая миссия – недаром ее прозвали фабрикой по производству множества бухгалтеров, страховых агентов, менеджеров по недвижимости и т. д. Серьезные молодые люди, обучавшиеся по данным специальностям, ходили по кампусу в форменных рубашках и галстуках, заранее отвечавших дресс-коду тех профессий, освоить которые они стремились9. Кроме того, эти специальности не всегда были дружественными по отношению к Новому курсу. В 1945 году Ира Мошер, лидер Национальной ассоциации производителей, осудила «беспрецедентную войну, которая в течение десятилетия велась против свободной конкурентной системы предприятий»10. Возможно, часть подобных настроений просочилась в Школу торговли, несмотря на общую проправительственную направленность поколения Гринспена.
Кроме того, университетские экономические факультеты в некотором роде пострадали от деформации времени. К 1945 году идеи Джона Мейнарда Кейнса были восприняты новыми дилерами в Вашингтоне, но еще не доминировали в учебной программе бакалавриата так, как после 1948 года, когда Пол Самуэльсон, самоотрекомендовавшийся как «наглый начинающий предприимчивый делец» в Массачусетском технологическом институте, опубликовал свой классический вводный учебник «Экономика»11. Текст Самуэльсона закрепил в умах студентов базу для смешанной экономики, и если бы Гринспен подвергся этому воздействию в начале своих исследований, не исключено, что он мог бы развиваться по-другому. «Современный человек уже не способен поверить, «что чем меньше правительство управляет, тем лучше», – уверенно заявил Самуэльсон в своем учебнике; и его глубокое влияние на учеников на несколько лет моложе Гринспена можно оценить по тому, что консерваторы осудили его12. В книге «Бог и человек в Йеле» (God and Man at Yale), опубликованной в 1951 году, Уильям Ф. Бакли-младший сокрушался, что ровно треть класса Йельского университета подверглась воздействию сочинений Самуэльсона и что «собственно влияние экономики Йельского университета» было «полностью коллективистским»13.
Но когда Гринспен начал учиться в Нью-Йоркском университете, учебник Самуэльсона еще не опубликовали. Вместо него Алан слушал курсы, которые вел Уолтер Спар – глава факультета экономики Нью-Йоркского университета, чей взгляд на «Новый курс» был крайне критическим. В типичной речи в Экономическом клубе Детройта в 1949 году Спар осудил «марш в Долину смерти социализма», восклицая, что «“либерализм” не означает практически ничего, кроме социализма или коммунизма, или того, чтобы быть либералом на чужие деньги». Предвосхищая возражение, что «народ», о котором идет речь, проголосовал за либералов, Спар говорил на лекции, что «в последнее народное голосование за Гитлера было подано почти 100 % от общего количества голосов»14. Очевидно, что в те годы, когда мир обновлялся, останки довоенного понимания экономики еще обретались на факультете Нью-Йоркского университета.
Вопрос в том, насколько это всё было интересно молодому Гринспену. В конце своей студенческой карьеры он записался на курс Спара, посвященный трактовке бизнес-циклов. По иронии судьбы, взгляды Спара на эту тему предвосхищали лекции и статьи, которые Гринспен написал в свои 30–40 лет. По мнению Спара, Кейнс и его ученики отставали от бизнес-циклов: они предпочитали бюджетный дефицит и печатание денег для борьбы с рецессиями, но Спар горячо верил, что такая активность будет только усугублять нестабильность экономики. Однако он отстаивал свою позицию недостаточно эффективно. Ожесточенные выступления Спара за пределами кампуса резко контрастировали с его скромной манерой держаться в университете, и он затушил идеологический огонь влажным одеялом своего стиля преподавания, что сделало его последним человеком, способным вдохновить молодые умы идеями консерватизма. Стоя перед заполненной аудиторией, где находились 50 или около того учеников, Спар велел им открывать учебники на определенной странице, а затем интересовался, есть ли у кого-нибудь вопросы по содержанию. Студентам, как правило, либо было слишком скучно, либо они боялись спрашивать, затрагивая сколько-нибудь рискованные темы, поэтому Спар просил их перейти на следующую страницу, а затем повторял свой вопрос.
Однажды, когда Спар таким образом мучил учеников, молодой моряк-ветеран по имени Роберт Кавеш посмотрел на своего однокашника Алана Гринспена, который сидел рядом. Гринспен, казалось, прятал от профессора какую-то вещь, и когда Кавеш присмотрелся, то он увидел, что это такое. В учебнике Спара по бизнес-циклам Гринспен уместил томик меньшего объема, посвященный Кейнсу, и читал его с восторженным волнением. Тот факт, что Спар был убежденным консерватором, явно не интересовал его ученика. Спар не только не увлек Гринспена консервативными идеями, но почти оттолкнул от них15.
Правда состоит в том, что микроклимат в Школе торговли повлиял на Гринспена меньше, чем литература, которую он сам подбирал для своего чтения16. Важные факторы его детства – интроспективная изоляция, с одной стороны, и жгучее честолюбие с другой – заставляли Гринспена заниматься самообразованием, сводя к минимуму влияние посторонних. У него имелись друзья в университете, и он был счастлив сыграть на кларнете в оркестре колледжа, спеть в веселом окружении в клубе и вместе с Бобом Кавешем, однокурсником по классу бизнес-циклов, основать музыкальный клуб, который они назвали Симфоническим обществом17. Но так же, как Гринспен достиг желанного места в Джульярде, а затем бросил, и подобно тому, как он прервал занятия джазом, а затем обратился к экономике и финансам, в студенческий период он шел своим путем, не интересуясь происходящим вокруг. Если его более позднее либертарианство и имело корни в прошлом Гринспена, то они лежали в собственной природе этого молодого человека, а не в усилиях учивших его профессоров. Вера в индивидуализм должна была воззвать к столь чистому индивидуалисту.
Курс собственного чтения начался у Гринспена с экономической истории. Его юношеское увлечение железными дорогами вернулось в новой ипостаси: он проглатывал книги о провидцах-предпринимателях, которые превратили Соединенные Штаты в промышленную электростанцию, и всё это – в пределах жизни одного человека. Историки могут писать об армиях, и флотах, и договорах, но истинное становление нации сводилось к пару и стали, которые соединяли страну, занимавшую почти весь континент. Гринспену особенно нравился Джеймс Дж. Хилл, создатель Великой Северной железной дороги, чьи идеи и изобретательность превратили дикую природу великого северо-запада в процветающую производительную экономику18. В сознании молодого Гринспена промышленники конца XIX века были не грабителями-баронами, а пионерами и героями. Когда первый поезд пропыхтел через Дакоту к побережью Тихого океана, в этих вагонах ехала американская империя, и клубы дыма из трубы паровоза значили столько же, сколько тлеющий пепел Геттисберга19.
Гринспен также, напрямую и косвенно, впитал идеи Кейнса. Он прочитал работу Элвина Хансена, выдающегося экономиста из Гарварда, который в 1930-х годах принял эти идеи. Хансен усвоил главное в озарении Кейнса – так называемый парадокс бережливости – и дал ему новый поворот, повлиявший как на разработчиков политики, так и на молодое поколение экономистов. Парадокс Кейнса описывал, как циклический спад может подпитываться самим собой: когда экономика замедляется, осторожные потребители будут стремиться к снижению расходов, лишая бизнес клиентов и тем самым усугубляя замедление. Но Хансен считал, что слабый частный спрос и избыточная экономия стали структурной болезнью. Силы, которые стимулировали расходы в XIX веке, исчерпали себя; замедление темпов роста населения, закрытие американской границы и зрелость великих капиталоемких отраслей, таких как железнодорожное строительство и производство стали, сигнализировали, что расходы будут низкими в течение неопределенного срока. Хансен полагал, что полная занятость и инфляция были почти немыслимы в подобных условиях; а, следовательно, политические предписания, с которыми Кейнс выступал во время Депрессии, были на самом деле постоянными императивами. Чтобы противостоять тому, что Хансен назвал секулярным застоем, правительству пришлось бы отказаться от излишних сбережений, перераспределяя деньги от прижимистых богачей к активно тратящим беднякам. Это привело бы к увеличению государственных расходов и уравновесило большие бюджетные дефициты.
Гринспен не был убежден ни в одном из данных положений. Утверждение о том, что избыточная экономия будет накапливаться и никто не захочет тратить деньги или инвестировать их, казалось слишком пессимистичным. Для молодого человека, который вдохновлялся мужественными железнодорожными магнатами XIX века, казалось очевидным, что всегда будут появляться новые технологии, которые позволят делать новые ставки. Это Хансена – экономиста, которому уже в начале Депрессии было за сорок – спад поверг в состояние мучительного мрака. Но для Гринспена Депрессия являлась всего лишь декорацией его детства; он не видел в ней ничего обескураживающего, поскольку считал нормой20. Его воспоминания о 1930-х годах не имели ничего общего с избыточными сбережениями или очередями безработных; вместо этого Гринспен помнил острые ощущения от посещения Всемирной ярмарки в Нью-Йорке в 1939 году, где впервые заглянул в волшебный ящик под названием «телевизор». Еще через несколько лет после того как он переехал в Нью-Йоркский университет, Гринспен увидел, что город меняется под воздействием этого ящика – тощие леса антенн прорастали на его крышах. Как Хансен мог утверждать, что прогресс остановился? И как мог кто-нибудь предположить, будто больше нечего тратить?
Прочитав всё, что нашел по этой теме, Гринспен случайно наткнулся на опровержение Хансена Джорджем Терборгом – безвестным экономистом, работавшим в Институте машинного оборудования и смежных продуктов. Обычный студент не удостоил бы этого автора своим вниманием – зачем читать посредственные исследования из лоббистского лагеря, когда против него выступает выдающийся профессор Гарварда? Но с ушлой независимостью человека, занимающегося самообразованием, Гринспен изучил книгу Терборга «Призрак экономической зрелости» (The Bogey of Economic Maturity) и согласился с тем, что в ней написано. «Застойная позиция» Хансена была чрезмерно окрашена «мрачными тридцатыми»21.
По воле судьбы события вскоре подтвердили правоту Гринспена и Терборга. Конец нормирования военного времени привел к буйному росту потребительских расходов. Американцы покупали стиральные машины, автомобили, электротовары, хлопчатобумажные изделия, корсеты, нейлоновые колготки, камеры, кинопленку, спортивное снаряжение, игрушечные электропоезда – им было отказано в этом во время войны, и теперь они с радостью тратили сэкономленное, чтобы побаловать себя22. Вопреки заявлениям Хансена, потребительские расходы, экономический рост и инфляция не умерли, и во время второго года обучения Гринспена в колледже потребительские цены выросли на 17,6 %. Таким образом, его скептицизм в отношении неокейнсианской идеи подтвердился. Кроме того, он убедился, что его всесторонний подход к собственному интеллектуальному развитию оказался правильным.
Гринспен менялся по мере своего несогласия с Кейнсом. Он начал учебу в колледже неуверенным юнцом, сбежавшим от бесперспективной работы во второсортной джазовой группе. За два года учебы Алан превратился в молодого человека с призванием. В конце своего первого года в Нью-Йоркском университете Гринспен занял второе место среди претендентов на стипендию Бета Гамма Сигма в университете, что было признанием его «эрудиции, характера и серьезности цели»23. Его друг Боб Кавеш, который сделал выдающуюся карьеру в качестве профессора экономики, уверял, что никогда не видел, чтобы кто-то столь эффективно собирал информацию из эклектичных источников. Открыв экономику, Алан нашел свое призвание.
Это было захватывающее время для вступления в профессию. Гринспен пришел в экономику тогда же, когда Соединенные Штаты стали доминировать в данной области. Перед войной Лондон и Кембридж Джона Мейнарда Кейнса сформировали экономическое мышление. После войны Бостон, Чикаго и Нью-Йорк одержали верх, ведя злобные академические бои между собой24. То, что действительно захватило Гринспена, не являлось ни миссионерским кейнсианством бостонцев, ни идеями свободного предпринимательства чикагской школы. Именно интенсивный эмпиризм нью-йоркской школы сформировал подход, сохранившийся на протяжении всей его карьеры и объяснявший его самые большие достижения.
Штаб-квартира нью-йоркской школы находилась примерно в шести милях к северу от Нью-Йоркского университета, в Колумбийском университете и в ближайшем Национальном бюро экономических исследований, которое было создано в 1920 году профессором по имени Уэсли Клэр Митчелл. Цель Национального бюро заключалась не в том, чтобы теоретизировать о функционировании экономики, а, скорее, в измерении того, что она уже сделала, например: объем полученного хлопка или чугуна; количество часов, проработанных среднестатистическим рабочим в неделю; денежные суммы, потраченные компаниями на новые машины или здания. В течение следующей четверти века исследователи из Национального бюро собрали статистику, необходимую для документирования бизнес-цикла и формирования национальных отчетов, на основе которых рассчитывается валовой внутренний продукт. В начале Депрессии администрации Гувера и Рузвельта столкнулись с крахом производства, понятия не имея о том, что же, собственно, производилось. К тому времени, когда Гринспен окончил Нью-Йоркский университет, армии помощников Уэсли Митчелла следили за всеми аспектами продуктивного существования американцев.

Президент Форд поздравляет Алана Гринспена в Белом доме после того, как Гринспен был приведен к присяге в качестве председателя Совета экономических советников. Роуз Голдсмит, мать Гринспена, стоит справа, Вашингтон, 1974
В свой первый год в Нью-Йоркском университете Гринспен почувствовал вкус к этому измерительному проекту. Он прослушал курс статистики профессора Джеффри Мура, преподавателя Торговой школы, который был еще и исследователем в Национальном бюро. Мур позже стал специальным уполномоченным по статистике труда при Ричарде Никсоне и значительно повлиял на эту сферу, работая над определением ведущих и тормозящих показателей бизнес-цикла. Мур увидел в молодом Гринспене единомышленника и рекомендовал его на летнюю практику в престижный банковский дом Brown Brothers Harriman. Гринспен доехал на метро до здания Brown Brothers на Уолл-стрит и вскоре вступил в святилище с толстыми коврами, позолоченными потолками и столами-конторками. Младший партнер в банке попросил его подготовить еженедельную сезонную корректировку данных Федеральной резервной системы о продажах в универмагах, и в течение следующих двух месяцев Гринспен изучал технические статьи о том, как рассчитываются сезонные корректировки, сортируя данные с помощью логарифмической линейки25.
Корпя над цифрами, Гринспен узнал о себе кое-что новое. Он получал больше удовлетворения от этой узкой задачи, чем от грандиозных, но неубедительных дебатов о правительстве и рынках, захвативших некоторых из его друзей в университетском городке. Что-то мощное внутри него требовало контроля над ограниченной областью. Гринспен хотел быть правым и знать, что он прав; в итоге он преуспел в решении проблем, которые были под силу одиночке, свободному от мнения других. Критики нью-йоркской школы высмеивали Национальное бюро за проведение «измерений без теории». Застенчивый молодой интроверт был счастлив просто заниматься измерениями26.
Гринспен закончил summa cum laude в 1948 году, обеспечив себе непрерывную строку оценок A по всем предметам первого семестра27. Ему дали стипендию, чтобы он мог остаться в Нью-Йоркском университете, учиться по вечерам и получить степень магистра; его сбережения от заработка джазового музыканта закончились, и ему требовалось работать днем. Рекламное агентство сделало Гринспену выгодное предложение, но его сердце не лежало к рекламному бизнесу; вместо этого он занял более скромную позицию в качестве бизнес-исследователя в Национальном совете промышленной конференции[7]7
Экономическая исследовательская организация. – Прим. перев.
[Закрыть]. С зарплатой $ 45 в неделю новая должность приносила меньше денег, чем прежние выступления с группой Генри Джерома, но она давала возможность стать экономистом.
В Совет Конференции входило около 200 компаний-членов, на которых держался американский бизнес и чей подход к экономике был продолжением эмпирической нью-йоркской школы. Совет разработал первую версию индекса потребительских цен и был лучшим источником данных о безработице во время Депрессии. В просторных офисах на Парк-авеню группы исследователей собирали данные, с которыми хотели ознакомиться его корпоративные члены: тенденции в добыче полезных ископаемых, сведения об урожае хлопка, внешней торговле, выпуске стали и т. д. Гринспен поставил перед собой задачу овладеть всеми источниками информации в библиотеке Совета Конференции и начал публиковать статьи во внутреннем журнале Совета. Он подготовил тщательный анализ прибыли мелких производителей, начала строительства жилья и тенденций потребительского кредитования. Члены Совета Конференции узнали имя автора. New York Times перепечатал одну из его статей.
Обосновавшись в Совете Конференции, Гринспен привлек к себе внимание отца. Покинув Роуз вскоре после рождения Алана, Герберт исчез из жизни сына; он снова женился и создал вторую семью. Теперь, когда Алан добился профессионального успеха, Герберт появился на горизонте, предлагая ему партнерский бизнес: возможно, они могли бы создать консалтинговую фирму или даже попробовать свои силы в торговле. Однако его предложения встретили холодный прием. Уйдя в свой внутренний мир, Алан справился с отсутствием отца, но он не собирался вступать в партнерство с человеком, который когда-то загнал его в раковину.
Кроме того, в Герберте было нечто, вызывавшее инстинктивный отклик Алана. Отец испытывал по отношению к нему неловкость, что заставляло и его неловко реагировать. Мало того, что он унаследовал этот недостаток, еще хуже было, что отцовское присутствие усиливало его. При всем его уме от Герберта исходил удушливый запах неудачи. Он увлеченно говорил о создании нового бизнеса; как и многие сторонники фондового рынка в 1940-х годах, он был очарован ценовыми графиками, подсказывающими, когда покупать или сбрасывать акции. Но Герберту не хватило характера, чтобы произнести свою скороговорку; он по-прежнему был тем человеком, который обещал навестить маленького сына в Вашингтон-Хайтс, а затем снова и снова не держал данное слово. Если безусловная преданность Роуз Голдсмит укрепила в Алане чувство победителя, то аура растраченного потенциала Герберта Гринспена стимулировала его иным образом. Сын решил не быть таким, как отец. Он докажет, что он другой, отделившись от него профессионально28.
Гринспен был готов превзойти отца29. В 1950 году он получил магистерскую степень в Нью-Йоркском университете и поступил на программу подготовки докторов наук (PhD) в Колумбийском университете. Его наставником стал Артур Бернс, в 1970-х годах ставший председателем Совета директоров ФРС. Бернс был впечатляющей фигурой, красивый, с хорошо поставленной речью; о его карьере в правительстве говорили, что, где бы ни сидел, он всегда находился во главе стола30. Мильтон Фридман, который учился у Бернса в Университете Ратджерса, писал, что кроме родителей «бесспорно» обязан всем Бернсу, называя его «почти суррогатным отцом»31. Гринспен отреагировал на Бернса точно так же; что-то в его старомодном облике – густые волосы, разделенные посередине пробором, и задумчивое набивание трубки – вызывало симпатию и привязанность. «Вот бы мне стать кем-то вроде него, а затем получать $ 20 000 в год», – вспоминал о своих мечтах Гринспен32. Если собственный отец был для Алана чем-то вроде ролевой антимодели, то Бернс олицетворял профессиональный успех, к которому стремился молодой человек.
Бернс был главным наследником эмпирической традиции Уэсли Митчелла, и его влияние сдерживало энтузиазм, который Гринспен мог бы почувствовать к новым тенденциям, которые начали зарождаться в экономике. По прибытии в Колумбийский университет Гринспен прослушал курс математической статистики, позднее ставший известным как эконометрика. В курсе было показано, как можно использовать измерения, созданные эмпириками, и проверить соотношения между ними с помощью методов регрессивного анализа. В отсутствие этих инструментов экономисты могли делать обоснованные предположения о том, как одна часть экономики связана с другой. Например, всплеск производства стали логически сигнализировал о всплеске активности в отраслях, использующих сталь, таких как автомобилестроение. Это, в свою очередь, служило основанием для прогнозирования более быстрого роста всей экономики. Но с помощью регрессивного анализа экономисты могли достичь большего, чем просто догадки. Им оказалось бы под силу рассчитать взаимозависимость между прошлым ростом производства стали и ускорениями роста экономики, а затем исходя из этого спрогнозировать будущее, основываясь на чем-то близком к научным убеждениям.
Годы спустя Гринспен применил регрессивный анализ к созданию модели экономики и описал себя как «эмпирика, которого ограбили эконометрики»33. Но благодаря влиянию Бернса он изучил в Колумбийском университете математическую статистику, не принимая ее полностью. В своей работе в Совете Конференции он продолжал держаться в стороне от неопределенной деятельности по расчету отношений между экономическими переменными, предпочитая эмпирический сбор данных. Количественное измерение экономики было достаточно сложным: одну серию данных за другой следовало периодически корректировать с учетом сезонных колебаний и проверять на согласованность с другими сериями – и всё это без помощи компьютеров. Гринспен не сомневался, что эта скромная задача имеет бо́льшую ценность, чем отвлеченная математика. Даже самый точный эконометрический расчет был ограничен, потому что вчерашние статистические соотношения могли не сработать завтра; по контрасту, более точные измерения того, что происходит с экономикой на самом деле, больше, чем просто оценки, – это факты. Даже в дальнейшем, приняв эконометрику и став председателем ФРС, Гринспен никогда не расставался со своим убеждением, что для экономиста качество данных важнее, чем сложность моделирования.
В 2011 году, во время одной из наших длительных бесед в его офисе в Вашингтоне, Гринспен схватил с полки выцветший зеленый том. Это была копия «Измерительных бизнес-циклов» (Measuring Business Cycles), классическое исследование Артура Бернса о превратностях американской экономики, написанное в соавторстве с отцом эмпиризма Уэсли Митчеллом. Книга с любовью хранилась с тех пор, как Гринспен учился в Колумбийском университете шесть десятилетий назад.
«Откройте», – позволил мне Гринспен.
Я распахнул книгу наугад. На странице преобладали таблицы и диаграммы: производство чугуна, цены на железнодорожные акции, онкольные процентные ставки[8]8
Процентная ставка по ссудам до востребования. – Прим. перев.
[Закрыть].
Я вопросительно поднял глаза, но строгий жест велел мне снова открыть книгу. На этот раз мне попалась другая страница, и я обнаружил, что смотрю на таблицу, которая досконально сообщала о пиках и падениях добычи битуминозного угля[9]9
Битуминозный уголь (его также называют жирным) характеризуется более высоким содержанием углерода и более высокой теплотой сгорания, чем бурый уголь. – Прим. перев.
[Закрыть]. Содержание «Измерительных бизнес-циклов» свидетельствовало обо всех деталях промышленного расцвета Америки. Взгляд Бернса-Митчелла на экономику строился на статистике по каждому виду сырья, каждой шахте, каждой фабрике.
Я понял, почему Гринспен показывал мне книгу своего наставника. Это было окно в экономическое мышление другой эпохи, и он хотел, чтобы я увидел, откуда появилась его любовь к статистике.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?