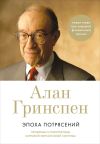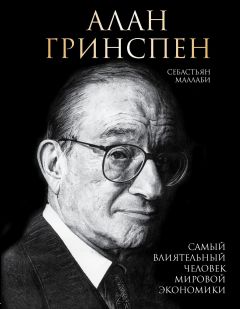
Автор книги: Себастьян Маллаби
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Уже вскоре писатель и экономический консультант стали друзьями. Подшучивая над его темным костюмом и мрачными манерами, Рэнд назвала Гринспена гробовщиком[12]12
В английском языке игра слов: Undertaker – 1) гробовщик; 2) предприниматель. – Прим. перев.
[Закрыть]. «Ну как, Гробовщик решил, что он всё еще существует?» – спрашивала она свое окружение, словно наказывая его за попытку бросить ей вызов. Вскоре будущий любовник Рэнд, Натаниэль Бранден, взял на себя обязательство спасти Гринспена от вечной тьмы. На протяжении ряда встреч в ресторанах и в его квартире он пытался разговорить Гробовщика, помогая ему сбросить старые логико-позитивистские одежды и обратиться в философию, которую он и Рэнд позже назвали объективизмом.
Как-то в 1954 году Бранден ехал с Рэнд в такси.
«Угадай, кто существует?» – выпалил он.
«Не говори мне, – сказала Рэнд, – что ты победил Алана Гринспена».
«Да, победил, – объявил Бранден. – И я думаю, ты изменишь свое мнение о нем. Я считаю, что он действительно интересный человек с очень необычным мышлением»23.
Гринспен начал регулярно появляться на субботних собраниях адептов Рэнд, которых она называла Коллективом – ее ирония не отличалась тонкостью. Окна квартиры обычно закрывались, а жалюзи нередко были опущены: одна из кошек Рэнд выпрыгнула из окна навстречу своей гибели, вынудив посетителей отныне страдать от духоты. Однако силы интеллекта Рэнд хватало на то, чтобы не давать ее гостям заснуть. Для застенчивого сборщика фактов о промышленности эта маленькая женщина с ее необузданно яркими убеждениями служила своеобразным тоником.
И дело было не только в том, что Рэнд пришла к истине способом, который Гринспен счел убедительным. Ее видение истины выглядело глубоко привлекательным. Выросшая в коммунистической России в семье еврейских антикоммунистов, Рэнд исповедовала настолько свирепый индивидуализм, что Гринспен просто терялся на ее фоне. Рэнд вспоминала, что в детстве «… была так занята мысленно своими собственными проблемами, что у меня не развилось никакого социального инстинкта… То, что я не могу общаться, – это следствие того, что люди в социальном смысле были абсолютно не важны для меня»24. Это звучало как крайность, но вымышленные герои Рэнд пошли еще дальше. Говард Роарк, архитектор-герой в «Источнике», совершенно не обращает внимания на социальное давление: «Для него улицы были пусты. Он мог бы без забот выйти туда голым». Презиравший общество Роарк обладал сильным чувством собственного величия, характерным и для молодого Гринспена. «Я установил свои собственные стандарты, – заявляет Роарк в «Источнике». – Я ничего не наследую. Я не придерживаюсь ни одной традиции. Я могу, возможно, стоять в начале новой традиции».
Поклонение творческим героям и презрение к массам были основой взглядов Рэнд. Она не терпела натурализма с его почтением к повседневным предметам. «В возрасте семи лет я не могла понять, почему нужно хотеть рисовать или любоваться изображениями мертвых рыб, мусорных баков или толстых крестьянок с тройными подбородками, – говорила она. – Я отказалась читать… рассказы об обычных детях. Они наскучили мне до смерти. Меня не интересовали такие люди в реальной жизни, и я не видела причин, почему они должны быть интересными в художественной литературе». Натуралисты могли отстаивать свое внимание к повседневным предметам, утверждая, что они представляют жизнь такой, какая она есть; они высмеивали романтиков, считая их эскапистами. «Убежище от чего?» – спросила Рэнд. Достойными предметами искусства были «величие, интеллект, способность, добродетель, героизм», и если изображение таких качеств означает побег, то медицина – это побег от болезни, сельское хозяйство – побег от голода, знание – побег от невежества, амбиции – побег от лени, а жизнь – побег от смерти… Жесткий реалист – это животное, пожирающее червей, которое сидит неподвижно в луже грязи, созерцает свинарник и скулит, что “такова жизнь”. Если это реализм, то я эскапист. Таким был Аристотель. Таким был Христофор Колумб»25.
Будучи страстным романтиком, Рэнд выступала за экономическую систему, которая «требует и вознаграждает лучшее в каждом человеке, великом или среднем, и которая, очевидно, является капитализмом свободного предпринимательства». Она прибыла почти нищей студенткой в гавань Нью-Йорка в 1926-м – в год рождения Гринспена, и была сразу очарована открывшимися ей перспективами. Standard Oil Building, Singer Tower, Woolworth Building представляли собой триумфальные выражения творческой силы капитализма; они были «овеществленной волей человека». Промышленники, которые командовали этими структурами, являлись в глазах Рэнд героями. Она разделяла энтузиазм Гринспена в отношении лихих капиталистов прошлого, но пошла в своих взглядах гораздо дальше. Джеймс Дж. Хилл, железнодорожный магнат, захвативший воображение Гринспена, был и ее идеалом, поскольку он не только связал пустыню тихоокеанского Северо-Запада с остальной страной, но сделал это, как заметила Рэнд, отказавшись от грантов на землю и других государственных ассигнований от федерального правительства. Самый совершенный капитализм позволял таким героям следовать их собственному ви́дению, без налогообложения, регулирования или других мелочных обременений. В «Манифесте индивидуализма», грандиозной, но оставшейся неопубликованной попытке Рэнд сделать для капитализма то, что «Коммунистический манифест» сделал для левых, писательница настаивала: капиталистическая система превосходит другие не только потому, что она эффективна. Ей стоило отдать предпочтение, поскольку она была естественной, а значит, и моральной: капитализм принимал эгоистичную личность человека и не пытался изменить его. Люди, свободные от социализма, религии и других антииндивидуалистических кредо, будут зависеть от своего естественного эгоизма, чтобы строить, изобретать и процветать. «Эгоизм – изумительная сила», – утверждала Рэнд26.
Когда Гринспен встретил Рэнд, она уже десятилетие была занята своим самым амбициозным проектом – романом «Атлант расправил плечи» (Atlas Shrugged), который в итоге насчитывал более 1100 страниц. Писательница подошла к этой работе с саморазрушающей манией: однажды она не отрывалась от сочинительства на протяжении тридцати трех дней, не выходя из квартиры и поддерживая себя амфетаминами и амбициями. Иногда, во время специальных собраний Коллектива, страницы романа передавались по кругу для комментариев, и в этих случаях Гринспен чувствовал, что его самые глубокие личные страсти были поняты и подтверждены. Героиня романа, инженер по имени Дэгни Таггарт, почти могла направить Гринспена в определенное русло, когда рассуждала о железных дорогах, описывая их как метафору предназначения человека – «моральный кодекс, отлитый из стали». Между тем, герой был сталелитейным магнатом, что позволяло Гринспену помогать Рэнд, детально описывая ту отрасль, которую он хорошо знал. Энтузиазм Гринспена по отношению к роману и его консультации в области металлургии осветлили пятно его логико-позитивистского протеста. Рэнд теперь отказалась от прозвища «Гробовщик» и вместо этого нарекла его «Спящим Гигантом» – тихой фигурой, которая однажды проснется и достигнет величия.
В 1957 году, когда приближался момент выхода «Атланта…», члены Коллектива с нетерпением ждали общественной реакции. Один молодой адепт надеялся, что книга сможет убедить американцев вернуться к свободному предпринимательству XIX века. Сам Гринспен считал, что посыл романа был настолько «лучезарно точным», что он вынудит каждого честного читателя согласиться с его главной мыслью. Гринспен также подарил автору миниатюрный золотой брусок, отсылая к намеку «Атланта…» на золотой стандарт27. Издатели Рэнд из Random House подготовили самодельные сигареты, украшенные золотыми знаками доллара. Таким образом они поддерживали выход книги из печати, хотя редактор тщетно умолял Рэнд сократить рукопись. «Вы бы сократили Библию?» – возразила Рэнд28. А Барбара Бранден лояльно заявила любовнице своего мужа: «[Заслуживает] ли мир, чтобы его спасли, будет зависеть от того, как отреагируют на вашу книгу»29.
Как выяснилось, первая общественная реакция показала, что мир не заслуживает спасения. В New York Times рецензент Гранвилл Хикс пожаловался, что роман Рэнд «воет в ухо читателя и бьет по голове, чтобы привлечь его внимание, а затем, когда он его покорил, разглагольствует страница за страницей». Другие согласились: «Непросто найти такое проявление гротескной эксцентричности вне стен сумасшедшего дома», – заявила Los Angeles Times, в то время как Chicago Tribune умудрилась сравнить Рэнд с Гитлером30. Возможно, еще более болезненным для Рэнд оказалась реакция ее предполагаемых союзников-консерваторов. «Я не могу вспомнить ни одной книги, в которой был бы так неумолимо выдержан тон непреклонного высокомерия, – писал Уиттакер Чэмберс в National Review. – Эта безоговорочная пронзительность. Этот безжалостный догматизм… Он предполагает, что станет последним откровением. Поэтому нельзя противостоять главной мысли… Почти на каждой странице “Атланта…” с болезненной необходимостью слышится команда: “В газовую камеру, марш!”»31
Коллектив быстро встал на защиту Рэнд, и среди них не было защитника более самоотверженного, чем Гринспен. New York Times опубликовала его письмо протеста 3 ноября 1957 года:
«Атлант расправил плечи» – это праздник жизни и счастья. Осуждение книги необоснованно. Творческие и рациональные люди, непреклонно идущие к цели, достигают радости и удовлетворения. Паразиты, которые упорно избегают или достойных целей, или причин, погибают, как и должно быть. Г-н Хикс подозрительно удивляется, услышав «о человеке, который поддерживает такое настроение, написав 1168 страниц и потратив около 14 лет работы». Этот читатель удивлен человеком, который считает, что неумолимая справедливость беспокоит его лично.
Письмо стало поворотным пунктом для Гринспена. Впервые он выступил наперекор общественному мнению по вопросу, выходящему за рамки статистических данных, и сделал это, размахивая кулаками. Более того, следующие несколько месяцев научили его наслаждаться публичными столкновениями, поскольку Рэнд и ее защитники отомстили критикам. «Атлант…» вскоре появился в списке бестселлеров Times, наряду с романом «На дороге» (On the Road) Джека Керуака; в течение пяти лет было продано более миллиона экземпляров. Письма приходили от тысяч читателей, которых один журналист называл «в значительной степени ненормальным классом мыслящих неинтеллектуалов»32. Опус Рэнд начал свой путь к необычайному культовому статусу: он достигнет его позже, оправдывая отказ автора сократить рукопись до более скромных размеров. В 1991 году в опросе, организованном Библиотекой Конгресса, читатели сказали, что роман «Атлант расправил плечи» повлиял на их жизнь больше, чем любая другая книга, за исключением той, которую ни один редактор не стал бы сокращать, – Библии33.
За год до публикации «Атланта…» Роберт Кавеш, однокашник Гринспена со студенческих дней, вернулся в Нью-Йорк после времени, проведенного в Гарварде и Дартмуте. Теперь, работая в банке, Кавеш разыскал своего старого друга и был потрясен произошедшими с ним переменами. В 20 лет Гринспен являлся скромным эмпириком, излагавшим факты и редко выходившим за их пределы. Но теперь, когда он разменял свои тридцать, со скромностью и эмпиризмом было покончено. В бизнесе он перешел от того, чтобы быть просто успешным, к тому, чтобы стать откровенно преуспевающим. А в мыслях и письмах Гринспен не боялся казаться всё более упрямым. Кавешу стало ясно, что Айн Рэнд повлияла на мнение Гринспена о себе. Ее бесконечные перекрестные допросы заставили Гринспена обдумать свои взгляды и четко разобраться в вопросах, которые раньше он мог бы обойти стороной, особенно в крупных проблемах государственного вмешательства или свободного предпринимательства. Из того, что Гринспен поведал Кавешу о Рэнд, было очевидно: он ей многим обязан. Гринспен интересовался, слышал ли Кавеш о Рэнд, что из ее работ он читал и как отреагировал на них. Когда Кавеш вспомнил, что несколько лет назад прочитал «Источник», его собеседник обещал принести ему подписанную копию «Атланта…», когда тот будет опубликован.
Для такого приверженца главной линии в кейнсианстве, как Кавеш, недавно обретенная Гринспеном ясность представлялась почти безумием. Во время учебы в Нью-Йоркском университете Гринспен был по характеру индивидуалистом, который стремился заниматься самостоятельно. Однако он не увлекался индивидуализмом как философским учением, и даже прослушав лекции профессора Уолтера Спара, не проявил большого энтузиазма по поводу восстановления золотого стандарта XIX века34. Однако теперь Гринспен рассматривал золото как неопровержимую защиту от манипуляций деньгами со стороны правительства, что он вскоре подробно объяснил в своей статье 1959 года для Американской статистической ассоциации. Кавеш решил, что нет смысла спорить с другом – его взгляды казались непоколебимыми. Но он наслаждался встречами с Гринспеном, во время которых они играли в теннис на набережной в центре города. Кавеш играл лучше, но Гринспен был азартным соперником35.
Кавеш оказался прав: Рэнд глубоко изменила его друга. Теперь Гринспен превратился в преданного защитника государственного невмешательства не благодаря какому-нибудь экономическому светилу, а под влиянием харизматичного романиста. В некотором смысле это было вполне типично для него. С периода своего пребывания в оркестре Генри Джерома, когда он читал книги по экономической истории, в то время как его товарищи по группе курили траву, Гринспен выбрал собственный путь. И его близость с культовым автором выглядела не более причудливой, чем энтузиазм по поводу малоизвестного памфлетиста вроде Джорджа Терборга – экономиста, развенчавшего послевоенные предсказания о вечном застое. Кроме того, энтузиазм Рэнд в отношении предпринимателей и изобретателей, похоже, был напрямую обращен к индивидуалисту-консультанту, который строил свой бизнес, и ее романтическое увлечение промышленными магнатами XIX века увенчало их связь. Действительно, поскольку Гринспен всё более охотно отстаивал свои взгляды, его близость к XIX веку проявляла себя во всём.
В сентябре 1961-го, два года спустя после представления своей новаторской статьи о финансах, Гринспен продолжил нападки на усилия правительства, направленные на обуздание монополий антимонопольным законодательством. На этот раз местом встречи стало заседание Национальной ассоциации бизнес-экономистов, но тон Гринспена был гораздо менее академичен, чем тот, с которым он обращался к Американской статистической ассоциации. По сути, он был агрессивным:
Антимонопольный мир напоминает «Алису в Стране чудес»: всё, казалось бы, есть, но, по-видимому, одновременно ничего нет. Это мир, в котором соперничество восхваляется как основная аксиома и руководящий принцип, но «слишком большая» конкуренция осуждается как «убийца». Это мир, в котором действия, направленные на ограничение конкуренции, называются преступными, когда их предпринимают бизнесмены, но восхваляются как «просвещенные», если они инициированы правительством. Это мир, в котором закон настолько неясен, что у бизнесменов нет возможности узнать, будут ли их конкретные действия объявлены незаконными до тех пор, пока они (уже после свершившегося факта) не услышат вердикт судьи.
Гринспен продолжил требовать полного переосмысления отношения Америки к монополиям. В первые дни существования республики, напомнил он, американцы опасались концентрации деспотической власти в руках правительства. Они по-разному относились к бизнесу, у которого не было сил заставить подчиняться себе, и полагались вместо этого на клиентов, которые свободно выбирали, у кого покупать. Но эти презумпции эпохи Просвещения (ограничивавшие правительство, с одной стороны, и расширявшие торговлю – с другой) были забыты, – посетовал Гринспен. Франклин Рузвельт атаковал тресты, а затем перешел в генерализованную атаку на свободное предпринимательство36.
Контрнаступление Гринспена включало три аргумента. Во-первых, критики монополий должны помнить, что большинство из них было создано благодаря вмешательству правительства – по крайней мере, так утверждал Гринспен. Например, правительственные субсидии и гранты на землю для тесно сотрудничавших с государством железнодорожных магнатов создали барьеры для участия в бизнесе несубсидированных конкурентов; Джеймс Дж. Хилл – героическое исключение. Если бы принцип свободного предпринимательства надлежащим образом соблюдался, то в первую очередь игровое поле было бы равным для всех, и, следовательно, стало бы не нужно дальнейшее вмешательство правительства в форме антимонопольного законодательства. «Я благодарен за работу Айн Рэнд “Заметки об истории американского свободного предпринимательства” (Notes on the History of American Free Enterprise) для идентификации этого принципа», – признал Гринспен37.
Он подкрепил исторический аргумент Рэнд вторым, экономическим. Монополии были менее пагубными, чем принято считать, настаивал Гринспен. Если бы они действительно вредили потребителям, их огромная прибыль привлекала бы конкурентов, поэтому Standard Oil, которая контролировала более 80 % перерабатывающих мощностей страны на рубеже веков, вскоре столкнулась бы с проблемой соперников, таких как Texaco и Gulf. В тех случаях, когда конкурентов не возникало, это только доказывало, что монополия не приносила вреда – полная противоположность тому, что утверждали критики. Ссылаясь на пример алюминиевого гиганта, который пользовался его консалтинговыми услугами, Гринспен утверждал, что Alcoa не сталкивалась с конкуренцией именно потому, что вела себя так, как будто у нее были конкуренты. Эта компания всегда искала способы снизить цены и лучше обслуживать клиентов. Те, кто критиковал ее доминирование, фактически завидовали тому, что Alcoa «слишком успешна, слишком эффективна и слишком хороший конкурент».
Гринспен завершил выступление третьим аргументом, который соответствовал его взгляду на финансовый вопрос. В статье 1959 года, следуя подходу Тобина к анализу, он указал, что не только корпоративные менеджеры хотели бы бросить вызов монополистам; сама финансовая система требует, чтобы это было сделано. Если бы монополия получала жирную ренту со своих клиентов, цена ее акций резко повысилась бы; это дало бы предпринимателям стимул создавать конкурентов данной монополии, а финансисты получили бы стимул усиленно навязывать этим соперникам богатый капитал. Лучшим гарантом конкуренции, по мнению Гринспена, были не законодательные антимонопольные ограничения, которые так нравятся статистикам. Им стало появление всё более динамичных рынков капитала, которые следует еще больше поощрять финансовым дерегулированием.
Скептицизм Гринспена в отношении антимонопольного законодательства разделяли многие ведущие интеллектуалы той эпохи. Но его вклад заключался в потрясающем стиле изложения – он преодолел пропасть между интеллектуальной осторожностью и полемической дерзостью. В «Конституции свободы» (The Constitution of Liberty), опубликованной в 1960 году, либертарианский идол Фридрих Хайек утверждал, что правительственные нападки на монополии могут принести больше вреда, чем пользы; но он смягчил свою позицию, признавая, что монополии действительно допускают злоупотребления38. Два года спустя в «Капитализме и свободе» (Capitalism and Freedom) Милтон Фридман занял аналогичную позицию, признав, что можно приветствовать антимонопольное законодательство39. Поток критики Гринспена с аналогиями из «Алисы в Стране чудес» был грубее: «Вся структура антимонопольных законов в этой стране является мешаниной из экономической иррациональности и невежества», – категорически заявил он. Спустя годы, вспоминая эту вспышку гнева, Гринспен наполовину извинился: «Когда вы молоды, мир кажется вам черно-белым, каким он никогда не будет», – сказал он40. Но он был не так уж молод. Его полемику переиздали в Barron’s в феврале 1962 года, за месяц до его 36-летия41.
Отказ Гринспена пойти на уступки критике бизнеса являлся тем более примечательным, если учитывать драматические перемены, которые происходили вокруг него. Одно дело защищать промышленников XIX века, но к началу 1960-х годов предприятия стали крупнее и всё больше связанными с политикой: их безоговорочная защита требовала решимости игнорировать реальность42. Говоря о черно-белых моментах, Гринспен представлял себе корпорации, управляемые смелыми собственниками-капиталистами, такими как магнаты, которых он идеализировал в молодости. Но в эпоху «человека организации» крупные корпорации Америки управлялись технократическими создателями империи, которые сосредоточились на контроле за всё большей долей рынков. Когда Гринспен на своем великолепном Buick посетил Fairless Steel works, он лично наблюдал эту имперскую тенденцию. Место, куда он приехал, как бы заявляло о себе: U. S. Steel контролирует треть рынка стали. Производитель его транспортного средства тоже провозгласил свою значимость: General Motors контролировала половину рынка автомобилей43. Столь крупные компании почти неизбежно искажали идеал свободной конкуренции Гринспена – их расчеты по оплате устанавливали стандарты заработной платы во всей экономике; их ценовые решения влияли на уровень инфляции; их боссы свободно входили в коридоры власти – и если политические решения нарушали законодательство в их пользу, только наивный удивился бы этому. Чтобы принять безупречную конкуренцию и признать ненужным антимонопольное законодательство, Гринспен должен был игнорировать экономическую реальность, в которой он жил.
Конечно, в глубине души он знал это. Но Айн Рэнд вывела его на пьянящий путь, который, как оказалось, соответствовал его темпераменту. Как только Гринспен согласился с тем, что аргументы могут быть справедливыми без эмпирического доказательства, он позволил себе широкое мировоззрение, которое клика Рэнд будет рассматривать как экономическую составляющую ее философии объективизма. Пока это мировоззрение находилось в разработке, Гринспен был готов выметать сор из-под ковра; он хотел получить большую доказанную картину и лишь потом переживать из-за беспорядочности реального мира. Его решимость одиночки – та же самая решимость, которая нашла выражение в статистике бейсбола, часах уединенных музыкальных упражнений и упорных попытках извлечь бизнес-озарения из статистических данных – теперь нашла новый выход в идеологическом исследовании; а тот факт, что Рэнд окрестила его Гробовщиком и Спящим Гигантом, только усиливал его преданность делу. С детства Гринспен знал, что он способен на нечто великое, но достигнет этого через тяжелую работу; он был слишком Гробовщиком – или слишком сайдменом, – чтобы завоевать вожделенное признание, не прилагая серьезных усилий. В начале 1960-х годов человеком, чье признание было для него особенно ценно, являлась Айн Рэнд, так что приоритетом Гринспена стало содействие объективизму.
Спустя годы экономист описал этот период своей жизни как этап, который он вынужден был пройти44. Ему требовалось завершить построение философии Рэнд, прежде чем он почувствовал готовность позволить реальности вторгнуться в его жизнь; только после этого Гринспен мог начать свой переход с либертарного края американских дебатов к позиции, находящейся ближе к центру. В подобной самооценке много правды. В отличие от внешнеполитических консерваторов, которые в 1970-х годах начинали умеренными «реалистами» и постепенно становились более радикальными в своей вере в то, что демократия может распространяться силой оружия, Гринспен был радикальным вначале и умеренным позже. Обращаясь к знаменитому высказыванию, гласившему, что консерватор – это либерал, которого ограбила реальность, Гринспен однажды заметил: «Меня ограбили в другом направлении»45.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?