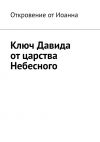Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Почему?
– Потому что несмотря на перевод инструкции со всеми предупреждениями на испанский, какой-нибудь идиот обязательно установит зеркало на улице в солнечный день. И знаешь, что произойдет?
– Что?
– Линза фокусирует солнечный луч, он проходит через два зеркала и – БУМ! – мы получаем идиота с пожаром в жопе. И добро пожаловать в Город исков, это я точно тебе говорю. Потребуют возвращения денег и все такое.
– А откуда возьмутся деньги на все это?
– От лотереи и исследовательского проекта.
– Что за лотерея и что за проект?
– Я думаю устроить в больнице Святого Где-Нибудь что-то вроде того, что делают в Вегасе. Если твоя операция назначена на понедельник, а ты ложишься в пятницу, то бесплатно участвуешь в лотерее, приз – морской круиз. В результате больница заполняет койки, а я получаю откат. Если ты выиграл, но в результате операции умираешь, круиз достается наследникам.
– А что насчет исследовательского проекта?
– Я, пожалуй, не буду говорить. Это будет финансироваться из твоих налогов, и это абсолютно незаконно.
– Рассказывай!
– В следующем месяце я буду работать в больнице Ассоциации ветеранов[51]51
В США ветеранам войн оказывается бесплатная медицинская помощь в учреждениях системы здравоохранения Министерства ветеранов.
[Закрыть]. Все знают, что там можно нагреть лапу. Беспредел в стиле Уотергейта. Добро пожаловать в Город взяток.
– Ты это просто придумал, правда? – спросил я, думая о том, что сказала бы Берри. – Обычный треп? Ты же не будешь на самом деле заниматься такими вещами?
После паузы, заставившей меня поежиться, он сказал:
– Деньги – это не какое-нибудь дерьмо. В них нет ничего постыдного. Наша великая страна имеет долгую и славную историю коррупции, взяточничества, злоупотреблений служебным положением и прочих махинаций. Да просто подумай о том, что мы делаем с целыми континентами и не очень развитыми странами. Да мы же с целыми народами обращаемся как с крысами, и я уже не говорю об отдельно взятых людях. И почему тогда я должен ограничивать себя? Ограничивал ли себя антисемит Генри Форд? А Спиро Агню? А Джо Маккарти или Джо Ди Маджио? Ты же слышал, как Великий Янки поет в телике кофейные джинглы? А Мерилин Монро, думаешь, она сомневалась – стоит ли позволять ветру из первой попавшейся решетки в метро задирать ее идиотское платье и завывать в ее фригидной вагине? А Норман Мейлер?[52]52
Джо Маккарти – американский сенатор, ярый антикоммунист, с именем которого связывают период политических репрессий, получивший название «маккартизма». Джо Ди Маджио – выдающийся бейсболист, игравший за клуб «Нью-Йорк Янкиз»; после окончания спортивной карьеры рекламировал электрокофеварки. Норман Кингсли Мейлер – знаменитый писатель, журналист и драматург, известный буйным темпераментом, постоянный герой скандальной светской хроники.
[Закрыть] А ЦРУ или долбанное ФБР? Ни хрена, Баш, ни хрена. Поэтому надо просто забить на все, делать дело и грести бабло.
– За мошенничество?
– За воплощение американской мечты. В данном случае – американской медицинской мечты.
К нам подсели Чак с Коротышкой, и Коротышка, этот ходячий сериал (выключить его было невозможно), выкатил последний эпизод «Пикантных штучек Крутых Бедер»:
– Она была в своем обычном игривом настроении. Мы смотрели телик, она поглаживала меня по внутренней поверхности бедра. Новости закончились, она сняла с себя абсолютно все и пошла в спальню. Она не хотела долго возиться с прелюдией и сказала нечто такое, от чего у меня встало мгновенно, как от электрического разряда.
– И что же она сказала, старик?
– Точно не помню, но там было слово «п…да». Она просто золотая жила. Я довольно долго ласкал ее, и был как раз тот момент, когда она должна была начать ласкать меня. Я лизал ее половые губы, они такие красивые и тонкие-тонкие, как уши у щенка… а с тех пор, как у меня появилась фантазия, что в старшей школе она залетела и родила, я все время хотел рассмотреть там все повнимательнее, чтобы найти шрам от эпизиотомии, но в этот раз я оказался слишком близко, и у меня заслезились глаза. Ха! Вот это реально сносило крышу, в этой позиции, когда она сидела у меня на лице так же, как сидели девки моего соседа Нормана, и она нагнулась и ласкала мой член. И тут я сделал это! Я вроде как подтолкнул ее – и тогда ее голова уткнулась мне прямо в пах и, говорю вам, она…
Мы прекратили жевать.
– …рехнулась.
– Рехнулась? – переспросил Толстяк.
– Натурально! – подтвердил Коротышка. – Ха! Мы озверели. Чуть не сломали кровать. Она вертелась у меня на лице, а я чувствовал ее зубки на основании моего члена. Вау! Девушки, которые нравились моей мамочке, насмерть пугались уже на той стадии, когда у меня начинало крепчать в штанах! И знаете, что она сказала на этот раз, когда я вошел?
Мы понятия не имели, что могла бы сказать Энджел, когда внутри у нее был коротышкин пенис.
– Она сказала: «Ох, доктор Рантский, вы такой большоооой!!!»
И Коротышка действительно стал казаться нам выше.
– Сегодня она выдала мне зубную щетку. Это третья по счету зубная щетка в ее ванной.
Толстяк, переставший жевать примерно в тот момент, когда Крутые Бедра взяла у Коротышки в рот, и ошалело спросил:
– Мужики, что тут у вас вообще, черт возьми, происходит?
И мы рассказали ему. Рассказали о Чаке и Хэйзел, обо мне и Молли, о том, как Коротышка при помощи Таула и Крутых Бедер стал выше. Мы рассказали ему о Золотом веке, наставшем в отделении, и о нашем легендарном умении справляться с самыми тяжелыми пациентами, и о наших легендарных личных связях, благодаря которым (спасибо, Хэйзел) в нашей дежурке не было клопов, зато всегда были свежие простыни; благодаря которым (спасибо, Молли) о наших пациентах заботились как нигде. Мы рассказали, что взлетели столь высоко и сияли столь ярко, что раскрашенным осенью кленам, видневшимся сквозь растущий скелет крыла Зока, оставалось только завидовать нам.
– Осталась только одна проблема. Размещение, – сказал я. – Мы не придумали, как избавляться от гомеров. Анна и Ина все еще с нами.
– Это не проблема, – заявил Толстяк. – Размещение проще пареной репы. Кто отвечает за размещение?
– Социальные службы.
– Угу, Социальные Шлюшбы. Третья зубная щетка подсказывает мне, что Энджел не прочь делиться, так почему бы и вам не делать так же? Вы, ребята, должны склеить Социальных Шлюшек. И запомните: если хочешь трахнуть библиотекаршу – говори с ней о Шекспире. Бывайте!
Он точно был гением! В каждом отделении была Социальная Шлюшка, отвечавшая за размещение пациентов. Размещение было проблемой: несчастные гомеры никому не были нужны. Богадельни заявляли, что гомер слишком здоров, поэтому они его не возьмут; их семьи утверждали, что гомер слишком болен и ему требуется уход в доме престарелых; частники считали, что гомер чрезвычайно болен и поэтому нуждается в лечении в Божьем доме, а интерны говорили, что их уже достало лечить Леди Брокколи, проклинающую их за то, что ей опять сохранили жизнь, и не будут ли Социальные Шлюшки столь любезны отправить ее отсюда к чертовой матери. Гомеры в этой дискуссии участия не принимали.
Социальные службы были ключом ко всему. В них работали два типа женщин. Первые – молодые и энергичные идеалистки, занимавшиеся этим из-за чувства вины перед оставленными родителями или старенькими бабушками и дедушками, при этом они все время находились в процессе поиска Мистера Совершенство со стетоскопом в кармане штанов. Вторые – постменопаузальные, разведенные, оставленные детьми (точь-в-точь похожими на Социальных Шлюшек первого типа), растерявшие молодой задор, но способные к сочувствию, сентиментальные, циничные и склонные к мазохизму – они работали, чтобы отдалить свою старость, и все время находились в поиске второго или третьего по счету Мистера Совершенство (и чтобы в штанах у него было хоть что-нибудь).
Розали Кон была из категории молодых Шлюшек. Из-за акне – тяжелого и не поддающегося лечению – ее лицо напоминало пиццу, и она расстегивала пуговички на блузке чуть ли не до пояса, отвлекая внимание. Главная Шлюшка принадлежала ко второму типу, ее звали Сельмой. У нее был такой кривой и длинный нос, так что объятия и поцелуйчики с ней по идее должны были быть в основном объятиями: целуясь, ты рисковал остаться без глаза. Но от шеи и ниже она была очень даже ничего. Сельма противостояла времени, уносившему ее жизнь, она была сексуальна и темпераментна. А еще она страдала формой фрустрации «я либеральнее, чем мои дети» – синдромом, который поразил Америку семидесятых и произвел на свет сонмы мамаш, курящих дурь под причитание дочек: «Мама, отдай мне косяк, ну пожалуйста».
Я легко подцепил Сельму.
– На меня произвели впечатление ваши слова о проблемах, возникающих, когда пациента слишком долго держат в палатах. Доктор Баш, я должна сказать, что вы превосходно проанализировали ситуацию и убедительно аргументировали вашу точку зрения.
Чак переглянулся со мной, потом с Коротышкой (и тот подмигнул и ему, и мне), а я в свою очередь переглянулся с Чаком – и снова стал смотреть на Сельму. Она продолжала:
– Тридцать лет я безуспешно пыталась научиться выражать словами свой гнев, а у вас это получается. Может быть, вы смогли бы помочь мне с этим? Правда, я должна заметить, что многие психотерапевты этого города уже пытались, но не смогли.
Я понял, что она запала на меня. Мое сердце замерло, и я призывно улыбнулся.
Следующим утром Чак пришел на обход первым, опоздав всего лишь на полчаса. Я пришел еще через полчаса, а через какое-то время ввалился и Коротышка. Отделавшись от разъяренной Джо, я рассказал Чаку и Коротышке, как отправился вчера к Сельме домой, где мы слушали тяжелый рок, и как она рассказывала о своем одиночестве и неприкаянности, а потом, после коктейля и косяка, предложила мне остаться. И как я гнал от себя мысли о том, что она очень напоминает мою маму – и думал только о своем долге перед друзьями и отделением, и готовился к самому худшему, но когда она притушила свет и сняла лифчик, я был шокирован.
– Что, так хреново? Старик, так мы никогда не пристроим этих гомеров!
– Наоборот! Очень даже неплохо. Хорошо. Даже отлично! Ее грудь прекрасна. Винтаж, типа Авы Гарднер[53]53
Ава Лавиния Гарднер – актриса и певица, одна из ярчайших звезд Голливуда 1940-х и 1950-х годов.
[Закрыть], сделано в 1916 году, но все еще ого-го-го!
– Как это ей удается?
– Я спросил о том же. Премарин.
– Премарин?
– Премарин. Заменитель эстрогена. Женский половой гормон. Это как трахать молекулярно очищенную женщину. Сногсшибательно.
Коротышка, молчавший во время этого диалога, дождался окончания – и поделился своей новостью, заключавшейся в том, что он переспал с Розали Кон. Это заставило Чака скривиться:
– С этой страхолюдиной? Фу!
– Было офигенно, – сказал сияющий Коротышка, маниакально улыбаясь.
– Этот чувак трахнул Розали Кон! – сказал я. – Чак, мы породили монстра!
– Старик, и каково оно было просыпаться со старушкой Рози?
– Ну, – сказал Коротышка. – Честно говоря, я и в самом деле старался не смотреть ей в лицо.
После этого гомеры начали исчезать. Наступил настоящий Золотой век. Ни один из представителей больничной иерархии – начиная от Синяка и заканчивая Легго – не мог понять, по какой причине койки в богадельнях вдруг оказываются свободными для гомеров из южного крыла отделения № 6 – и только для них. Гомеры, стоявшие на пороге смерти, описывались нашими Социальными Шлюшками как обладающие великолепным реабилитационным потенциалом – и отправлялись на первую освободившуюся койку. Гомеры с недержанием, заливавшие все отделение дерьмом и мочой, сервировались как полностью контролирующие процесс дефекации и мочеиспускания, и вот они, срущие на каталке, и в лифте, и в коридоре, и во время поездки в завывающей скорой, попадали в богадельню по выбору семьи, где могли продолжить засирать свой путь к бессмертию. В домах престарелых – таких, как «Новая Масада», – гомеров раскладывали по этажам в соответствии со степенью тяжести состояния: тех, кто был ближе к небытию, отправляли повыше, будто бы приближая к раю. Анна и Ина провели в отделении четыре месяца, и нам даже было грустно с ними расставаться. Но даже если они и почувствовали что-то в момент прощания, то выразили это лишь посредством своих «РРРУУУДЛ» и «УХАДИ». Пыхтя и воняя, отчалила Леди Брокколи. Исход продолжался.
Гомеры уходили – и отделение наполнилось еще более тяжелыми больными, но иногда кого-то из неизлечимых молодых удавалось спасти. Однажды я вдруг увидел на последней биопсии костного мозга портного Сола здоровые лимфоциты – они были похожи на цветки лотоса посреди выжженной Хиросимы.
– Что это? – поразился я, уставившись в микроскоп на эти цветы, означавшие, что Сол, возможно, будет жить. – Смотрите, ремиссия!
– Ого! Это что-то, – сказал Чак, заглянув в микроскоп.
– Ррррррррррррммммммм Ррррррррррмммммммм! Порядок! Не то, что всякое дерьмо!
– Это прекрасно! – сказал я, осознав, что, до сих пор понимая, сколь невелики шансы Сола, я даже не допускал мысли о его возможном выздоровлении.
Задыхаясь, я вбежал в его палату и закричал:
– Сол, у тебя ремиссия!
– Таки ой, – сказал он. – Сначала лейкемия, а теперь еще и ремиссия? Ох.
– Нет! Ремиссия означает выздоровление. Сол, это чудо! Ты не умрешь!
– Нет? Хочешь сказать, я не умру?
– Нет, теперь нет!
Маленький щуплый человечек замер на месте, посмотрел мне прямо в глаза и рухнул на кровать, как подкошенный.
– Я не умру? Что это значит? То есть не сейчас?
– Да, Сол, ты будешь жить!
– Ох… Ох, спасибо, Господи, спасибо… – и он схватил меня за руку, положил голову мне на плечо, и после всего того времени, когда он стойко держался, хотя не мог надеяться ни на что, он вдруг всхлипнул, задрожал и прижался ко мне как маленький ребенок. – И что теперь? Еще немного жизни и этой моей жены, да? Слава Господу – и обратите внимание, доктор Баш, до этого мне от него не слишком-то перепадало, но вот теперь… Спасибо, доктор Баш, спасибо. Эта жизнь… Это как снова родиться ребенком…
Мы были счастливы. Целый мир казался излечимым, ярким, сексуальным, и мы упивались им, и все бюсты, и соски, и бедра, и чулочки, и трусики Божьего дома были с нами. Это было так же хорошо, как шум грузовиков, едущих по булыжной мостовой в Бронксе, шум, который убаюкивал меня в домике моей тетушки Лили, где я проводил лето в детстве и где мне всегда было легко и очень весело.
Не было ни легкости, ни веселья. Наш коррумпированный вице-президент подал в отставку – и честняге Джерри Форду пришлось сразу же с головой лезть в это осиное гнездо. В воскресенье, после «Субботней резни»[54]54
«Субботняя резня» – один из этапов Уотергейтского скандала. 23 октября 1972 года Никсон приказал генеральному прокурору Элиоту Ричардсону уволить прокурора Арчибальда Кокса, запросившего аудиозаписи разговоров Никсона; Ричардсон отказался подчиниться и подал в отставку. После этого обратился с аналогичным требованием к заместителю Ричардсона Уильяму Ракелсхаузу, ставшему и.о. генпрокурора, но тот последовал примеру Ричардсона. И.о. генпрокурора стал Роберт Борк, который наконец уволил Кокса. Эти действия Никсона вызвали настоящую ярость общественности и Конгресса, именно после этого Палата представителей начала готовить импичмент Никсону.
[Закрыть], учиненной Никсоном в попытке избавиться от людей, которые хотели избавиться от него, я проснулся – а вокруг было прекрасное осеннее утро, наполненное листьями всех цветов; и я был счастлив от осознания того, что я просто живу на свете ровно до того момента, пока не вошел в Божий дом, в это царство живых мертвецов. Я должен был провести здесь следующие тридцать шесть часов. Воскресные дежурства в Доме заставляли меня чувствовать себя ребенком, которого наказали – и теперь не выпускают на улицу, но разрешают смотреть на нее из окна. Джо, находясь снаружи дома, всегда стремилась вновь оказаться внутри: она не могла доверить отделение извращенцам и маньякам вроде нас. И по воскресеньям, даже будучи выходной, она приходила «помочь».
На прошлой неделе она пригласила меня на ужин. Ее квартира оказалась безликой, как комната в мотеле. Стереосистема так и стояла в коробках, в доме не было ни одного растения, а обеденный стол ей пришлось долго освобождать от учебников, конспектов и медицинских журналов. Ужин проходил довольно напряженно, но мы пытались разговаривать, и я погружался в ее гнетущее одиночество. Она рассказывала о том, как трудно приходится женщинам в медицине, о том, что практически невозможно познакомиться с мужчиной не из больницы. Что я мог ей ответить? Она пыталась понять нас, возможно, даже хотела с нами подружиться. Ей не нравилась атмосфера в отделении. Наверное, она выбрала меня как самого старшего и как потенциального лидера – и спросила, что, по моему мнению, мешает нашей работе.
– Ты должна нам доверять, – сказал я. – И хотя бы немного расслабиться. Не делать всего для каждого пациента – не преступление. Согласна?
– Да, это так, – нервно ответила она. – Я знаю это, но никак не могу принять.
– А ты попробуй!
– Но как я могу это сделать?
– Ну, для начала попробуй не приходить в воскресенье, когда я буду дежурить. Это будет хорошим началом.
– Я постараюсь. Спасибо тебе, Рой! Спасибо большое.
В итоге в это воскресенье она заявилась в Божий дом даже раньше меня. Едва сдерживаясь, я спросил:
– Зачем ты пришла?
– Я пыталась не делать этого, Рой, поверь мне, пыталась. Но я сейчас готовлюсь к экзамену, и я больше не могла учить. И потом, тебе же может понадобиться помощь!
Я понял, что у меня нет выхода. Я был в ярости, но не мог сказать ей об этом, опасаясь, что после моих слов ей захочется спрыгнуть с моста. Ведь, хотя терны и травмировали ее своим сексуальным разгулом (и любой намек на это очень глубоко ее ранил), единственным счастьем для Джо было находиться внутри Дома, быть частью его медицинской иерархии – и гробить себя чрезмерной погруженностью в работу.
Новое поступление поставило меня в тупик. Пациенту, Генри, было двадцать три года, и у него барахлили почки. Его привезли к нам из больницы Святого Где-Нибудь – там Генри с его начальной почечной недостаточность превратили в уремичную, тотально инфицированную кучку плоти, стоящую у края могилы. К тому же Генри был умственно отсталым. Чтобы спасти его, надо было расшифровать записи, прибывшие вместе с ним. Страницы были не пронумерованы, не очень хорошо отпечатаны и, судя по всему, еще и написаны врачом-иностранцем, и я не смог разобрать ничего. Синяк попытался помочь мне, читая выдержки из записей вслух. Я сказал, что это неподходящий случай для студента, и отправил его восвояси. Уходя, он спросил:
– Что с ним?
– Микродекия.
– Что это такое?
– Пойди и почитай.
Он свалил, а я вновь попытался сосредоточиться, но не смог. Я смотрел на осень через окно.
Молодая пара развлекалась, кидая друг в друга сухие листья, и они прилипали к их белым шерстяным свитерам. Я чуть не заплакал. Грудь сжало от осознания того, чего я был лишен: второй чашки кофе в постели с женщиной, воскресной «Таймс», боли в легких во время пробежки на свежем воздухе… Явилась Джо и потребовала доложить ей о пациенте. Я взорвался. Я орал на нее, грозил, что если она не уйдет, то уйду я. Я осыпал ее разными мерзостями о ней самой и об ее эмоциональной инвалидности. Я стоял над ней и орал, и чувствовал, что лицо мое побагровело, а по щекам текут слезы. Но я не успокоился до тех пор, пока не выгнал эту маленькую жертву собственной карьеры из отделения и не отправил вниз на лифте вон из Божьего дома.
Я было вернулся к записям об Умнике Генри, но в итоге сидел над ними и плакал. Мне необходима была разрядка, и я снова и снова стучал кулаками по столу, избивая весь мир. Я не мог больше так продолжать. И тогда вспомнил, как ребенком, играя в супермена, я думал: «Если я приложу максимум усилий, я не смогу ошибиться». И я попробовал продолжить. Я еще раз осмотрел Умника Генри: молодого парня с отсутствующим взглядом, с седыми волосами, причесанными на пробор, с голосом, тембр которого постоянно скакал в диапазоне от баса до фальцета. Я спросил о его самочувствии, и он ответил: «Док, если я завтра умру, то буду самым счастливым из всех живущих».
Каким-то образом это заставило меня очнуться, и я принялся за работу. Моим ассистентом в этот злосчастный день был Синяк – и он собственноручно устроил в отделении Джо настоящий погром. Синяк начал заниматься нашим вторым поступлением – молодой женщиной в черном кружевном белье, у которой был язвенный колит. И хотя Синяк очень обрадовался при виде крови и слизи, обнаруженных при исследовании прямой кишки, и был готов сделать сигмоидоскопию прямо сейчас, а потом лететь в библиотеку и «читать о кале до утра», его очень смутила эротическая составляющая осмотра. К сожалению, пациентка отнеслась к Синяку очень благосклонно и, лежа на кушетке обнаженной, всячески демонстрировала, что осмотр ее возбуждает – и что она наслаждается этим. Когда Синяк это заметил, он запаниковал, убежал от пациентки и примчался ко мне, дрожа.
– Я никогда не видел обнаженной женщины, тем более молодой. Нас этому не учили. Боже, мне так стыдно!
– Стыдно? Что ты с ней сделал, черт возьми?!
– Ничего. Мне стыдно за недостойные профессионала мысли.
Он настолько расстроился, что отказался работать с этой пациенткой до тех пор, пока не обсудит ситуацию со своим психоаналитиком, и я отправил его к миссис Баилс, женщине с воображаемой болезнью сердца, которой он не так давно поставил синяк. В час ночи он вернулся и сказал:
– Ну вот, я только что закончил гипнотизировать миссис Баилс.
– Что ты закончил и с кем?! – спросил я нервно.
– С миссис Баилс. Я ее загипнотизировал, чтобы избавить от болей в сердце.
– Без дураков?! А доктор Крейнберг знает об этом?
– Нет. Я ему не сказал.
– Эй, я уверен, что он будет в восторге. Почему бы тебе ему не позвонить?
– Сейчас?! В час ночи?
– И что? Он любит слушать о динамике его пациентов.
Синяк позвонил Малышу Отто Крейнбергу.
– Доктор Крейнберг? Это доктор Леви… Брюс Леви… Да, вы правы, я еще не совсем доктор, я студент ЛМИ, но… да… я взял за правило звать себя «доктор Леви»… Да, я хотел сказать, что закончил гипнотизировать миссис Баилс от ее стено… гипнотизировать… гипн… да, как фокусники, и она… для ее нервов… Да?.. Конечно… э э э э… это общепринятый… Да, простите, конечно, я сейчас же выведу ее из транса. Спасибо, сэр. До свидания.
Синяк совсем расклеился. Я спросил, не мог бы он мне помочь.
– Да?! – спросил он, надеясь реабилитироваться.
– Я был слишком занят весь день и не сходил в туалет. Можешь сделать это за меня? По большому. По маленькому я уже сходил.
– Ты не можешь так со мной обращаться! И еще я посмотрел, что такое «микродекия», и такой штуки не существует.
– Микродекия?! Конечно, существует. Это означает «играть неполной колодой». Спокойной ночи.
Я пошел спать. Ночной медсестрой была Молли, и мы сегодня уже пытались оказаться в постели вместе, но все наши попытки заканчивались провалом – то из-за Синяка, то из-за гомеров. Но теперь Синяк был в библиотеке, а я ОТПОЛИРОВАЛ гомеров, и сидел голым на нижней койке в дежурке, ожидая свою медсестру. Хэйзел постелила свежее постельное белье, а рядом с подушкой положила куколку, сделанную из лейкопластыря и назогастральной трубки. К ней была приколота записка:
«Рой – шалун и Молли – егоза, принесу я вам мои игрушки, если вы не против групповушки. Звоните».
Наконец-то!
В радостном ожидании я пялился в окно – на общагу школы медсестер. В одной из комнат раздевалась женщина. Она сняла форму, а потом потянулась – о, это прекрасное движение – чтобы расстегнуть лифчик. Я увидел ее грудь как раз в тот момент, когда Молли вошла в дежурку. Я был похож на бомбу с часовым механизмом. Молли села рядом со мной, и я показал ей, куда смотрел, а потом расстегнул ее блузку, обнажил ее девичью грудь и начал ласкать ее длинные соски. И вот с нее уже слетает одежда, чулки, лифчик, бикини, да и сама она слетает с катушек… Я вдруг подумал о представлении англичан об идеальном сексе: когда и он, и она кончают одновременно, по звону будильника, и как раз тогда, когда мы уже были готовы засунуть мою твердую штучку в ее полую штучку, она вдруг остановилась и, постанывая от удовольствия, спросила:
– Я тебе показывала, как монахини в школе медсестер учили нас обращаться с пациентом с эрекцией?
– Неа.
– Надо шлепнуть по нему, и тогда он сразу опустится.
– Ты хочешь сделать это сейчас?
– Нет, сейчас я хочу, чтобы ты меня трахнул.
И мы делали это, все быстрее и быстрее, все жестче и жестче, а когда уже были готовы кончить, раздался невероятно громкий БАБАХ, и мой пейджер завелся: меня требовали в отделении, но моя женщина завелась еще сильнее и жаждала меня все больше и больше, приговаривая: «Иисусе, Боже всемогущий, подожди, продолжай, оооооо, ААААА!!!»
БАБАХ произошел потому, что Синяк, пытаясь реабилитироваться за все глупости этого дежурства, решил помочь мне СПИХНУТЬ миссис Баилс, использовав для этого электрокойку для гомеров. Миссис Баилс, ту самую пациентку Малыша Отто Крейнберга, которой он сначала поставил синяк, а потом загипнотизировал. Он выбрал ортопедическую высоту, и по неестественно вывернутому бедру миссис Баилс было видно, что у нее межвертельный перелом.
– Я сделал это для тебя, доктор Баш, – гордо улыбаясь, сказал Синяк. – Я уже позвонил ортопедам.
– Синяк, мне очень тяжело говорить тебе это, и я на самом деле ценю то, что ты для меня делаешь… Но электрокойка для гомеров была шуткой.
– Чем?
– Шуткой! Толстяк шутил!
– Боже! Боже. Я совершил страшную ошибку! Я должен позвонить доктору Крейнбергу, немедленно.
– Синяк!
– Да?
– Позвони сначала своему психоаналитику.
Многие неизлечимые молодые умерли. Джимми, лежавший в БИТе рядом с «ДЛЯ ЕЗДЫ НА ХАРЛЕЕ НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ ЯЙЦА», после лечения классическим крысиным ядом, уничтожившим его костный мозг, умер – облысевший, инфицированный, весь покрытый язвами, кровоточащий, умер. Умник Генри, у которого тоже обнаружился рак, воплотил свое желание «стать самым счастливым из всех живущих», умерев на следующий день. И многие другие умерли тоже. Я спросил у Чака: «Какого черта умирают только наши ровесники?», а он ответил: «Не знаю, старик, не знаю, но ты не находишь, что нас ждет великое будущее?» Все знали, что вскоре умрет Желтый Человек и что все это время будет умирать доктор Сандерс.
Доктор Сандерс расставался с жизнью медленно и мучительно. Облысевший, с непрекращающимися инфекциями, тихий и истощенный, он приводил в порядок свои дела. Мы сдружились. Он умирал с таким достоинством, как будто смерть была нормой его жизни. В какой-то момент я начал избегать его палаты.
– Я все понимаю, – говорил он. – Самое трудное в нашей работе – быть доктором для умирающих.
Мы с ним разговаривали о медицине, и я с горечью поведал ему о моем растущем цинизме и о том, чем я занимаюсь, работая в южном крыле отделения № 6. И он сказал:
– Я согласен, мы работаем не ради излечения кого бы то ни было. Я тоже никогда в это не верил. Я в свое время был таким же циником как ты. Надо же: нас столько учат, а мы выходим из институтов такими беспомощными! И все же, несмотря на все сомнения, я скажу, что кое-что мы все-таки можем. Не излечить, нет. Но мы можем сострадать, любить, и это тоже помогает. И лучшее, что мы можем сделать, – это быть с рядом пациентом, сопереживать – так, как ты делаешь это сейчас для меня.
И я старался быть рядом с ним. Я смотрел, как Молли аккуратно подстригала ему ногти на руках и ногах, чтобы предотвратить появление царапин, которые кровоточили, а затем инфицировались. Я видел, как в палате соблюдается стерильность. Я наблюдал, как Джо обращалась с ним, как с «интересным случаем», и я наблюдал, как онколог предельно объективно разговаривает с ним о неминуемой смерти, и все это время я вопреки всему надеялся, что ему дадут умереть с достоинством.
Его смерть стала кошмаром. Мне позвонили среди ночи, я прибежал и увидел, что он истекает кровью – несмотря на огромное количество тромбоцитов, которые ему влили взамен уничтоженных химиотерапией. Он был почти без сознания, давление упало до предела, из обеих ноздрей и из уголков рта вытекали струйки крови, и я знал, что (хотя этого пока и не было видно) кровь сейчас сочилась из всех капилляров его внутренних органов. Его сил хватало лишь на то, чтобы просить: «Помогите, пожалуйста, помогите мне…»
Я знал, что ничем не могу ему помочь, и единственное, что я мог сделать для него как врач, – быть с ним. Я сел рядом, вытер мокрой губкой кровь с его лица, посмотрел в его уже невидящие глаза и сказал: «Я здесь», – и я надеялся, что он услышал это и понял, кто это говорит.
«Помогите, пожалуйста, помогите…»
Кровь продолжала течь, я вытирал ее и повторял: «Я здесь» – и тихо, стараясь не напугать его, плакал.
– Привет, Рой, как дела?
Говард стоял у входа в палату – со своей дурацкой ухмылкой, дымя своей идиотской трубкой. Я зашипел на него: «Убирайся отсюда!» Усевшись в другом конце палаты, он затянулся, выпустил дым и сказал:
– Хреновенькие перспективы у доктора Сандерса, да?
– Вали отсюда! Сейчас же!
– Ты же не против, если я останусь? Продолжение лечения, понимаешь? Очень трудно работать в приемнике, если не знаешь, что стало с пациентами, которых ты осмотрел. Хочется, знаешь, какого-то чувства завершенности.
– Уйди отсюда, Говард, пожалуйста!
«Помогите…»
Кровь продолжала течь, и простыни уже были пропитаны ею насквозь. Его глаза закатывались.
– Я здесь, – я обнял его.
– Ты отправишь его на вскрытие?
Я хотел встать и убить его прямо сейчас, но я не мог оставить доктора Сандерса. Я умолял его уйти, а Говард улыбался и трепался о том, как тяжело терять тех, кого лечил, и курил свою трубку, и не уходил.
«Помогите…»
Я пытался избавиться от Говарда, моя одежда была в крови доктора Сандерса, и я думал, как бы сделать так, чтобы он умер поскорее, не так сильно мучаясь, чтобы он ушел с достоинством.
«Помоги мне, Боже, это ужа…»
Я пытался отвлечься и подумать о чем-нибудь хорошем. Оксфорд, ивовые берега реки Чаруэлл, женщина, катающаяся на плоскодонке и ласкающая рукой усыпанную листьями поверхность воды… Но все, что приходило мне в голову, – это ужасающие заголовки газет: шестнадцатилетняя девочка, сбежавшая из дома посмотреть мир и обнаруженная на пляже во Флориде обнаженной, засунутой в огромный чемодан; истерзанный младенец, лежащий в коляске в зале суда в позе эмбриона, – ребенок, который уже никогда не сможет поправиться, – и врач, под присягой рассказывающий о том, что когда он впервые увидел этого ребенка, то не мог понять, что перед ним: его тельце было просто кусками плоти, грязной и гниющей, и на покрытой струпьями спине было выжжено сигаретой: «Я ПЛАКАЛ»…
Когда я вновь взглянул на доктора Сандерса, он уже умер. Процентов восемьдесят его крови были на его постельном белье – и на мне.
Я держал его голову у себя на коленях, пока его больная кровь, отказываясь свертываться, вытекала из его сердца и мозга, кишечника и кожи, изо всех частей тела, из которых она не должна была вытекать, включая его воспаленный анус. Я обнимал его, пока кровь не прекратила течь. Тогда я положил его обратно на постель, накрыл окровавленными простынями и всхлипнул. У меня впервые умер пациент, которого я любил. Я пошел к посту медсестер. Я сел и почему-то вспомнил шизофреничку, одну из «девушек Зигфелда»[55]55
«Девушки Зигфелда»– танцовщицы и певицы, участницы популярнейшей 1910–1930-х годах серии бродвейских шоу «Безумства Зигфелда», где дебютировали многие звезды. Последняя из участниц шоу умерла в 2010-м в возрасте 106 лет.
[Закрыть], находившуюся в психиатрической больнице со дня распада труппы: она каждый день, и под дождем, и под солнцем, гуляла по лугу, пересекая его решительным и точным балетным шагом, по идеально прямой линии, которая преисполнила бы радостью сердце землемера: цок-цок-цок – женщина, идущая в никуда, абсолютно пустая внутри.
– Доктор Сандерс умер, – сказал я, увидев Джо на следующий день.
– Ужасно. Ты получил разрешение на вскрытие?
Я представил, как я хватаю это медицинское дарование за тощие плечи и трясу до тех пор, пока ее мозг не расплющится о кости черепа, и она не забьется в судорогах. Я представил, как бью ее коленом в живот, пока ее яичники не превратятся в кашу, а потом выкидываю из окна шестого этажа, чтобы она превратилась в разбросанные по асфальту части тела, которые соберут и превратят в пакет с человеческим месивом, которое потом с удовольствием отпрепарируют Гипер-Хупер и его израильтянка из патологии. Но она была несчастна, мне было ее жаль – и я сдержался и выдавил сквозь зубы:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.