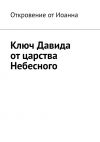Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
В дневное время мы с Чаком шли на поводу у фанатизма, с которым Джо относилась к неизлечимым больным, и позволяли ей бесконечно показывать нам, как можно делать все, что только можно, для негомеризированных умирающих пациентов. Целый день мы таскались за ней, используя ее как живой учебник. А поскольку она не доверяла нам ни в чем, мы еще и с успехом сваливали на нее особо неприятные процедуры типа ручной раскупорки кишечника.
Я рассказал Чаку и Потсу о мыслях Толстяка по поводу Джо, так что поначалу мы старались вести себя прилично и обращались с ней как с карточным домиком, готовым рухнуть от любого неосторожного движения. Мы скрывали пренебрежение, с которым относимся к ней, мы скрывали то, что ничего не делаем для гомеров. Дни с Джо тянулись один за другим: долгие, скучные, полные лицемерия, неотличимые друг от друга. Но каждую третью ночь мы дежурили вместе с Толстяком – и это позволяло мне оставаться живым. Я не забыл его слова о том, что он говорит вслух то, что другие врачи запихивают глубоко в себя – и что в итоге съедает их изнутри.
Я наблюдал за Джо и видел у нее симптомы той самой язвы, съедающей изнутри. У Рыбы язва была большой, у Легго – гигантской. И я почти постоянно чувствовал незримое присутствие Толстяка где-то рядом со мной. И это помогало.
У меня был Толстяк, Чак был самодостаточен – и, судя по всему, в жизни ему случалось сталкиваться и с чем-то похуже гомеров. Мы держались. А у Потса не было никого, и ему было очень хреново. Он продолжал казнить себя за то, что вовремя не рассказал Толстяку об уровне печеночных ферментов у Желтого Человека, и в результате не утаивал от Джо ничего. А поскольку их дежурства совпадали, Потс был с Джо и днем, и ночью, и его ночи были такими же, как дни: он все время продолжал делать все возможное для всех сорока пяти пациентов.
Даже если бы Потс и захотел оставить в покое гомера-другого, он не смог бы утаить это от Джо: преисполненная недоверия, она перетянула ведение почти всех пациентов Потса на себя. Она, как фанатичный студент-отличник, просиживала ночами над историями болезни, подробно описывая «интересные случаи» и сопровождая записи ссылками на литературу, Каждый «бип» кардиомонитора, каждый крик гомера, каждый вопрос медсестры, раздававшиеся в кафельных стенах отделения, позволяли ей чувствовать себя нужной, наполняли ее жизнь подобием смысла. Вне стен Божьего дома шансов на это у нее не было.
Потсу становилось все хуже. Гомеры, ставшие жертвой агрессивных методов лечения Джо, получали осложнения, и их невозможно было СПИХНУТЬ; умирающие молодые все равно умирали, но делали это медленнее – и в итоге количество подопечных Потса росло. Из сорока пяти пациентов отделения двадцать пять вел он.
Подход Джо к работе означал, что во время своих дежурств Чак не мог вздремнуть даже пары минут, а днем он вынужден был работать дольше и тяжелее, чем мы. Мы с Чаком в вечера дежурств Потса были свободны, и наша дружба крепла с каждой неделей. А Потс становился все более тихим и замкнутым. Его жена, проходившая хирургическую интернатуру, дежурила в ЛБЧ через день и практически исчезла из его жизни. Он погружался в себя – и чем дальше, тем глубже, и возможность вытащить его оттуда представлялась все менее реальной. Даже Отис, его пес, затосковал.
Во время грозы, разразившейся жарким августовским вечером, Желтый Человек начал кричать, но по выражению лица Потса можно было подумать, что это его печень сейчас разрывает болезнь. По случайному стечению обстоятельств среди его пациентов оказался еще один с патологией печени: Лазарус, уборщик средних лет. Он не очень удачно выбрал профессию: всю жизнь он работал ночами, и ничего не мешало ему тихо и незаметно для окружающих убивать свою печень дешевым алкоголем.
Его болезнь не была чем-то экстраординарным. Обычный цирроз печени, прячущийся на кончике бутылки, обернутой коричневым бумажным пакетом. Такое можно встретить в любой точке планеты. Лазарус должен был умереть и приложил для этого все усилия. Но на его пути стояли Джо и Потс. Вначале их усилия по спасению пациента казались героическими, потом переросли в фантастические – даже по меркам Божьего дома. Мы с Чаком попытались подбодрить Потса, напомнив, что цирроз, как это ни печально, неизлечим.
– Знаю, – сказал Потс. – Долбаная печень, она постоянно меня преследует.
– Почему бы тебе не позволить ему умереть? – спросил я.
– Джо сказала, что он выживет.
– Только если вырастит себе новую печень, – сказал Чак.
– Джо сказала, что я должен сделать абсолютно все возможное.
– А сам-то ты этого хочешь? – спросил я.
– Нет. Во-первых, цирроз неизлечим. А во-вторых… Я расскажу вам кое-что. Когда Лазарус в последний раз приходил в сознание, он сказал мне, что мечтает о смерти. Он был в агонии, он умолял меня дать ему умереть. Последнее пищеводное кровотечение, когда он тонул в собственной крови, напугало его до чертиков. Я бы хотел дать ему умереть. Но я боюсь даже заикнуться об этом Джо.
– Старик, ты слышал, что она говорила? Она хочет знать о наших проблемах.
– Ты прав, – сказал Потс. – Она сказала, что все должно быть в открытую. Я скажу ей, что не хочу больше тянуть Лазаруса.
Подумав, что Джо обязательно припомнит ему Желтого Человека, я посоветовал:
– Не говори ей. Она порвет тебя в клочья.
– Она хочет услышать, – сказал Потс. – Она говорила, что хочет знать.
– На самом деле ничего она не хочет знать. Поверь.
– Она хочет услышать!
– Нет. Скажешь ей об этом – порвет в клочья.
Потс сказал ей, что не думает, что решение продолжать тащить Лазаруса, не давая ему умереть, было правильным, – и Джо порвала его. В качестве примера его некомпетентности она привела Желтого Человека.
6
Проработав вместе с Джо пять душных недель, мы с Чаком многому научились. Главным нашим навыком стала виртуозная ПОЛИРОВКА историй болезни, полностью удовлетворяющая Джо, которая удовлетворяла Рыбу, который удовлетворял Легго, который, в свою очередь, удовлетворял кого-то там еще, кого он должен был удовлетворять. К тому же мы с Чаком отлично научились скрывать от Джо то, что мы делаем с гомерами. Основным нашим действием было бездействие, но бездействовали мы гораздо интенсивнее любых других тернов Дома. Раз за разом, читая в историях гомеров о наших с Чаком великих усилиях и видя, что гомеры в отличном состоянии, Джо с гордостью изрекала: «Отличная работа. Чертовски отличная работа, клянусь Богом! Я же говорила, что по части ведения пациентов Толстяк полный псих».
Мы с Чаком круто подставились, даже не заметив этого. Истории, которые мы показывали Джо, были идеально ОТПОЛИРОВАНЫ, и когда Джо показывала их на обходе Рыбе и Легго, те были в восторге. Это было именно то, о чем они грезили: здравоохранение в лучшем виде. Ссылки! Излечения! И вот Легго решил, что нас с Чаком надо поощрить.
– Как мы их поощрим? – спросил Рыба.
– Мы дадим им лучшую награду, такую, о которой интерн может только мечтать, – заявил Легго. – Когда я был интерном, мы дрались за право получить самого тяжелого пациента и показать нашему шефу, на что мы способны. Вот какой будет их награда. Мы дадим им самые трудные случаи. Скажи им об этом.
– Мы дадим им самых трудные случаи, – сказал Рыба Джо.
– Они дадут вам самые трудные случаи, – сказала Джо нам с Чаком.
– Трудные случаи?!
– Да, самых тяжелых больных, поступающих в Дом.
– За что? Почему?
– Серьезно, что мы сделали не так?
– Вы как раз все сделали так! – сказала Джо. – Это награда от Легго. Знак его благодарности. Он дает вам возможность вести самых тяжелых больных и проявить себя. Я считаю, что это прекрасно. Вы еще увидите, какие случаи нам теперь достанутся!
И вскоре мы это увидели. Хуже было некуда. На наши головы повалились все катастрофы Божьего дома: в основном это были молодые пациенты, неизлечимые, стоящие на пороге смерти, с болезнями с пугающими названиями – такими, как лейкемия, меланома, гепатома, карцинома и прочие ужасомы. С болезнями, с которыми невозможно было справиться средствами этого или любого другого мира. Мы с Чаком подставились, и южное крыло отделения № 6 стало самым тяжелым отделением Дома. Мы не ожидали этого, мы не хотели этого, да что там – мы делали все для того, чтобы добиться прямо противоположного эффекта, но теперь нам пришлось учиться справляться с самыми страшными болезнями, которые нам только мог предложить Дом.
Мы выматывались, потели, матерились, мы ненавидели все это, но мы помогали друг другу – я делился с Чаком знаниями, почерпнутыми из книг, статистикой, фактами; он со мной – житейской мудростью и практическими приемами. Мы рисковали. И мы учились. Из-за потока неизлечимых молодых пациентов количество обследований кишечника, назначаемых для выявления причин головной боли, сильно сократилось, а поток гомеров практически иссяк. Мистер Рокитанский вернулся в богадельню, Софи села в путцелевский «континенталь» и отправилась домой. Ина и Анна, до сих пор не пришедшие в себя после агрессивного лечения Джо, все еще оставались в отделении, потихоньку возвращаясь в колыбель слабоумия. Анализы доктора Сандерса показали болезнь Ходжкина – прогрессирующую и находящуюся в неизлечимой стадии, он начал курс химиотерапии и отправился в Западную Вирджинию на свою последнюю рыбалку с братом. Желтый Человек оставался в своей палате: неподвижный, иссохший, плоский, похожий на пожелтевший осенний лист.
Мы с Чаком обнаружили, что оба без ума от баскетбола. И теперь, когда наши свободные от дежурств вечера совпадали, мы помогали друг другу покончить с работой и, стараясь не попасться на глаза Джо, оставляли наших пациентов на Потса, прятали в шкафчики наши докторские саквояжи, хватали купленный вскладчину мяч, надевали низкие черные кроссовки, процесс завязывания которых обжигал память воспоминаниями о великих играх детских лет, переодевались в хирургические костюмы и трусцой бежали по длинными коридорам Дома на улицу – чувствуя себя мальчишками, бегущими на свободу из надоевшей школы. Казалось, что мы дружим уже лет двадцать. Если спортивная площадка рядом с Домом была пуста, мы играли один на один, с наслаждением ловя моменты, когда изящное обманное движение позволяет оставить в дураках лучшего друга. Временами мы играли в стритбол – и вставали в одну команду. Во время игры между нами вспыхивали искры взаимопонимания, мы отлично взаимодействовали, играя против странных команд, где были и очкастые еврейские студенты из ЛМИ, и крутые пацаны из трущоб. Мы бегали и толкались, мы тяжело дышали и беспокоились о боли в груди, которая могла бы означать сердечный приступ; мы толкались и пихались локтями при грязной игре на подборах, и вступали в яростные споры с пятнадцатилетками по любому сомнительному моменту игры… Но на самом деле наши тычки и наша ярость были направлены на Джо, и Рыбу, и Легго, и неизлечимые болезни, и на Божий дом, в котором проходило время нашей молодости.
После игры мы шли в бар – или же зависали в квартире у Чака, обставленной идеальной, как в рекламе, мебелью, пили пиво или бурбон и смотрели баскетбольные матчи – или же ставили старые фильмы, но выключали звук и врубали чикагский соул. Превращенные Домом в десятилеток, мы сдружились так, как могут сдружиться только мальчишки. И в какой-то момент я точно понял то, что уже подозревал раньше: демонстрируемое Чаком презрение к учебе было лишь игрой.
Мы играли против студентов ЛМИ, уверенных в том, что они – крутые игроки. Они играли с той же яростью и азартом, которые привели их в ЛМИ: грубо, били по рукам, фолили, спорили и выкрикивали фолы на нас по любому поводу, как будто от результата игры зависела оценка на экзамене по хирургии[36]36
В уличном баскетболе фолы (нарушения правил игры) выкрикиваются играющим, считающим, что на нем сфолили. Сфоливший может оспорить это.
[Закрыть].
Против Чака играл худший из них, паренек, впитавший презрение к окружающим даже не через материнское молоко, а через плаценту – и эту черту в нем его мамочка лелеяла особо. Таких обычно ненавидят все окружающие. Играл он не ради игры, а ради того, чтобы порисоваться на публике (даже если публики и не было). Каждый раз, когда Чак получал мяч, паренек фолил; а при каждом броске – выкрикивал фол на Чака. Но Чак, несмотря на все достававшиеся ему тычки и удары, не выкрикнул фола ни разу. Наконец, этот умник выступил с настолько идиотской претензией, что даже один из его приятелей вышел из себя и заявил: «Хватит, Эрни, просто играй, а?» Но Эрни набросился на Чака: «Если ты не фолил, то какого черта тогда молчишь и не споришь?», а Чак просто сказал: «Ладно-ладно, давай играть».
В этом «ладно-ладно» было что-то угрожающее. И после этого Чак начал играть всерьез. Он бросал трешки, он уделывал Эрни силовыми проходами, не обращая внимания на фолы, – или же, сымитировав дальний бросок, проскальзывал мимо него, или, имитируя проход, в итоге бросал средний; он набирал очко за очком, приводя Эрни в ярость, заставляя его фолить все чаще и чаще. Но эти фолы действовали на Чака не сильнее, чем укус комара – на скаковую лошадь. Это был настоящий балет – сильный, техничный, интеллектуальный.
Игра фактически пошла один на один в злой напряженной тишине. Чак выставлял Эрни кретином до тех пор, пока кто-то не сказал, что уже темно и не видно кольца. Чак попросил Эрни отдать нам мяч, но Эрни зашвырнул его подальше в кусты. Наступила тишина. Мне хотелось дать Эрни в глаз, а Чак сказал: «Что ж, Рой, теперь, когда мы выиграли, я, пожалуй, пойду и заберу наш мяч». И мы гордо ушли, обнимая друг друга за потные плечи.
Позже, когда мы сели пропустить по стаканчику, я сказал:
– Черт, а ты не хило играешь. Ты выступал за колледж?
– Угу, за один маленький американский колледж, на последнем курсе. Основной состав.
– Все, я тебя раскусил. Твое спокойствие – лишь актерство. Ты серьезно относишься ко всему, что делаешь.
– Конечно, старик, ты прав.
– Так зачем ты делаешь вид, что тебе плевать?
– На улице это – единственный способ выжить. Если ты покажешь, кто ты есть, что у тебя есть и как тебя можно использовать, – ты попал. С тебя не слезут. Это как у Потса с Джо. Мне может быть больно, старик, но я этого никогда не покажу. Спокойствие – единственный способ выжить.
– Потрясающе. Там, откуда я родом, все строго наоборот. Там ты хнычешь и говоришь о том, как тебе больно, чтобы от тебя отвалили. Что скажешь?
– Я скажу, что все путем, старик, все путем.
Иногда Потс соглашался играть с нами, но это было ужасно. Он был неуклюж и застенчив, боялся причинить кому-нибудь боль и не мог постоять за себя. Получив возможность бросить, он пасовал. В любом споре правыми оказывались другие. Он никогда не повышал голос.
Ночи стали холодными, кленовые листья наливались красным, на опустевших полях играли в футбол, а Потсу становилось все хуже. Он откололся от нас с Чаком, неделями не видел собственную жену, переживал о своем тоскующем ретривере, и над ним висело проклятье Желтого Человека. И Потс стал бояться рисковать. Но если в те моменты, когда ты остаешься с пациентом один на один, ты не можешь пойти на риск – ты никогда не станешь врачом. Перепуганный, утративший веру в себя, Потс в полном соответствии с графиком, выданным ему в первый день, отправился работать в другое отделение. На смену ему пришел Коротышка.
В день его появления мы с Чаком сидели на посту медсестер, закинув ноги на стол и потягивая из больших стаканов имбирное пиво со льдом[37]37
Безалкогольный напиток, который почему-то закупается в больницах в больших количествах. При этом далеко не все пациенты могут его пить, чем и пользуются интерны.
[Закрыть]. Зная нервозность Коротышки, мы заранее наполнили шприц валиумом и прикрепили его к доске. Назначение гласило: «Вколоть в правую ягодицу по прибытии в отделение».
Эта доска была главным средством общения частников и персонала отделения. Под моим именем кто-то написал:
*ЛИД*
Эта загадочная надпись с недавнего времени стала появляться рядом с моим именем по всему Дому. Буквы были написаны одной рукой, и никто не знал, кто это делает. Недавно мне сказали, что это означает «Лучший интерн Дома»: ходили слухи, что Рыба и Легго решили провести конкурс на это звание. «ЛИД» уже прочно ассоциировалось с моим именем, и ко мне стали так обращаться, а при моем появлении говорили: «А вот и ЛИД!» Я спросил Рыбу, действительно ли я – претендент на звание лучшего интерна, а он ответил, что ничего не знает о такой награде. Я сказал ему, что слышал, как Легго говорил о ней – и называл ее «одной из старых традиций Дома». Когда я спросил про лучшего интерна у Легго, он ответил, что не слышал о такой награде, и тогда я сообщил ему, что Рыба рассказывал о ней и называл ее «одной из старых традиций Дома». Я высказал Рыбе, что меня совершенно не устраивает, что кто-то пишет «ЛИД» под моим именем где попало, и он пообещал, что служба безопасности госпиталя проведет расследование. Следующие несколько дней я мог лицезреть громилу, наряженного в поддельную форму Военной академии, выглядывающего из-за угла в надежде поймать того, кто пишет «ЛИД» под моим именем.
Но больше всего эти надписи бесили частников, а самым взбешенным из них был Малыш Отто Крейнберг, чье имя так и не вызвало в Стокгольме ни малейшего интереса. Так как Отто принципиально не разговаривал с интернами, доска была для него единственным способом отдавать нам распоряжения, а из-за надписи «ЛИД» места для этого не оставалось. Малыш Отто рвал и метал. Мы с Чаком видели, как Отто подошел к доске, выругался, стер «ЛИД», написал распоряжение для меня и отчалил. Почти в ту же секунду, стоило ему уйти, а охраннику отвернуться, под моим именем на доске снова появилось: «ЛИД».
Так как число надписей со временем возрастало, Отто и другие частники были вынуждены все чаще и чаще брать в руки губки. А когда губки куда-то исчезли, Отто стал совсем невменяемым. Он бесился все сильнее, а я тоже был все сильнее недоволен Легго и Рыбой, которые не могли пресечь это издевательство над моим именем. Из-за моих претензий им пришлось нанять еще нескольких охранников – и расставить их во всех отделениях. Вокруг загадочного «ЛИД» возникало все больше шума, и тогда другие терны начали допекать Легго и Рыбу, объясняя, что Баш, который только и делает, что сидит, закинув ноги на стол и попивая имбирное пиво, ну никак не может претендовать на звание лучшего интерна – звание, которое может быть и не существовало больше нигде, кроме как на доске в отделении.
– Мальчики?!
– Хэй, хэй, Хэйзел, – обрадовался Чак. – Иди к нам, девочка!
Хэйзел, старшая у уборщиков, стояла в дверях. Я часто видел ее, толкающей тележку с бельем и швабрами, но я никогда не видел ее такой, как сегодня. На ней были облегающие белые леггинсы, а зеленая форма натягивалась на груди так туго, что пуговицы, казалось, вот-вот отскочат и обнажат смуглый бюст, стиснутый белым лифчиком. Лицо выглядело изумительно: рубиновая помада, румяна, тени, накладные ресницы; ее каштановые волосы были заплетены в афрокосы, а руки – унизаны разноцветными браслетами.
– У тебя есть чистое белье и горячая вода в дежурке, Чак?
– Все отлично, Хэйзел, просто отлично, девочка. Спасибо!
– А твоя машина? Ей не требуется ремонт?
– О да, Хэйзел, моя машина не в лучшей форме. Над ней нужно поработать. Знаешь, мне кажется, что передок нуждается в осмотре. Да, именно передок.
– Передок? Хо! Да ты скверный мальчишка! И когда же ты хочешь загнать машину в гараж?
– Что ж, надо подумать… Как насчет завтра, девочка? Да, завтра?
– Отлично, – сказала Хэйзел, хихикнув. – Завтра! Передок, ха! Пока, мальчики! Adios![38]38
До свидания (исп.).
[Закрыть]
Я был потрясен. Я знал, что Чак интересовался Хэйзел, но не ожидал, что он добился таких успехов. Даже когда эта кубинская комета уже улетела дальше, ее огненный хвост, ее образ, казалось, продолжал полыхать в воздухе.
– Хэйзел вроде не испанское имя? – заметил я.
– Знаешь, старик, это как обычно. На самом деле у нее другое имя.
– Какое же?
– Джезулита. И мы имели в виду совсем не ремонт машины.
Джезулита. Это было еще одним знаком происходившего с нами: сексуализации интернатуры. Не отдавая себе в этом отчета, по мере того, как росла наша компетентность и наше негодование по поводу того, как нас дрессировали Джо и местные лизоблюды, мы постепенно начинали, как выражался Чак, «зажигать» с сексапильными обитательницами Дома.
Я думал о Молли, красивой женщине, разочаровавшейся в романтической любви, но на «отлично» изучившей в школе медсестер сестринские маневры прямого наклона, и о том, как завязались наши с ней отношения. Все началось довольно невинно, в тот день, когда я увидел ее плачущей на сестринском посту. Я спросил, что случилось, и она сказала, что она может умереть из-за родинки, которая начала расти на бедре, высоко на бедре. Я предложил посмотреть, и мы пошли в дежурку, уселись как школьники, на нижней койке – и она сняла чулки. Я взглянул и… Боже, я увидел прекрасное бедро, и конечно, увидел и чудесные трусики в яркий цветочек, прикрывавшие выпуклый кустик светлых волос, но увидел и эту опасную черную родинку, из-за которой Молли может умереть. Я не слишком разбирался в родинках, но изобразил из себя эксперта и, пользуясь своей карточкой с надписью «Доктор Баш», провел ее в дерматологическую клинику, где резидент-дерматолог изошел слюной, увидев эти цветы и этот кустик вместо привычных гомеров с их псоратическими телами. Он сделал биопсию, а через двадцать четыре часа сообщил Молли, что это обычная доброкачественная родинка и что никто не умрет.
Молли, вырванная мною из лап смерти, преисполнилась благодарности и пригласила меня на ужин. Мы съели кошмарное жаркое, я попытался переспать с ней в тот же день, но добился лишь того, что оказался в ее постели, где ласкал ее еще совсем девичьи груди с длинными сосками под звуки ее «НЕТ-НЕТ-НЕТ» (но без финального восхитительного «ДА»), и в конце концов услышал классическое «ЕСЛИ БЫ Я ДАЛА ТЕБЕ ЭТО, ТО ОТДАЛА БЫ СЕБЯ ВСЮ». Это была точка невозврата. Торжествующе торчащий член, муки и радости предвкушения, эротика в царстве гомеров, новая влюбленность против старой, ставшей уже привычной…
Внутри Божьего дома Берри для меня попросту не существовало, да и вне его, когда я был с Молли, ее тоже не было. И нам с Чаком стало ясно, что секс – это один из способов, позволяющих нам выжить здесь. Это было совершенно непонятно и незнакомо нашему резиденту, Джо: за все годы учебы в ЛМИ она опустилась с верхней строчки рейтинга на экзамене лишь один раз, и это был экзамен по медицинским аспектам человеческой сексуальности. Ее лимбическая система находилась в бессрочном отпуске. Секс был нашей победой над Джо.
Когда Коротышка объявился в отделении, он был на грани нервного срыва: измотанный двумя месяцами, проведенными в отделении вместе с резидентом категории «ноль-ноль» по прозвищу Бешеный Пес, Гипер-Хупером и Глотай Мою Пыль; страшно перепуганный слухами о тяжелых пациентах в нашем отделении; задавленный мыслями о скорой смерти от укола иглой, побывавшей в Желтом Человеке; истерзанный своей заумной поэтессой, Джун, которая бесилась, что он не проводит все свое время с ней. Он так боялся, что, казалось, стал на три дюйма ниже. Его волосы растрепались, а усы жили собственной жизнью. Мы с Чаком пытались его успокоить, но все было без толку, так что мы вызвали Молли с валиумом.
– Ну все, чувак, – сказал Чак, – снимай штаны.
– Здесь? С ума сошел?
– Давай, – сказал я, – мы все подготовили.
Коротышка снял брюки и нагнулся. Молли пришла с подругой – Энджел, медсестрой из блока интенсивной терапии. Та была рыжей полногрудой ирландкой с мощными бедрами. Работа в БИТ, в этой обители смерти, усилила ее сексуальность, и по слухам Энджел год за годом оказывала интенсивную сексуальную помощь и пациентам, и всем тернам мужского пола. Эти слухи (а возможно и мифы) никому из наших проверить пока не довелось.
– Молли, – сказал я. – Познакомься с Коротышкой, нашим новым терном.
– Очень приятно, – сказала Молли. – А это – Энджел.
Коротышка вывернул шею, покраснел, его ягодичные мышцы сжались, а яички в мошонке подпрыгнули, как от удара током.
– Приятно познакомиться… Я еще ни с кем не знакомился из такого положения. Это была их идея, не моя.
Энджел заявила:
– В этом, – она обвела рукой пространство вокруг Коротышки, – нет ничего нового, – она указала на себя, – для медсестры.
Было очень странно наблюдать за тем, как трудно Энджел говорить, не жестикулируя. Но возможно, это происходило потому, что она занервничала, увидев Коротышку в такой позиции. Казалось, Энджел хочется провести рукой по его лицу, носу, щекам, яичкам, даже по его анусу – и ей нелегко было сдерживаться. Мы ограничились тем, что разрешили ей вколоть Коротышке валиум. Она сделала это с профессиональной сноровкой и, закончив, поцеловала место укола. Сестры ушли, и мы спросили Коротышку, как он себя чувствует, и он ответил, что отлично и что он уже влюблен в Энджел, но все равно до судорог боится работать в отделении с самыми тяжелыми.
– Старик, тут тебе не о чем беспокоиться, – успокоил его Чак, – хотя тебе и достались все сложные случаи Потса, но ты унаследовал еще и Таула.
– Кто такой Таул?
– Таул?! Таул, парень, ну-ка давай сюда, живо! – заорал Чак. – Таул – лучший чертов студент из всех, что ты когда-либо видел.
Он действительно был таким. Рост четыре фута, черные очки с толстенными стеклами, грубый, как у сержанта в учебке, голос. Словарный запас у Таула был таким же маленьким и суровым, как и он сам, его речь была замедлена и переходила в рычание. Но его талантом были не слова, а дела. Он был могуч и неотвратим, как паровоз.
– Таул, – сказал Чак. – Это Коротышка. С завтрашнего дня он твой новый терн.
– Рррррррррмммммммм рррррррмммммм, привет, Коротышка, – прорычал Таул.
– Парень, ты будешь вести пациентов Коротышки так же, как ты вел их для Потса. Лады? Теперь расскажи ему о них.
– Рррррррррмммммммм рррррррмммммм, двадцать два пациента. Одиннадцать гомеров, пять тяжелых и шесть клуш, которых надо было гнать из приемника. Девять человек на американских горках.
– Американских горках?
– Да, – сказал Таул, показывая жестом вагончик, который катается на горках вверх и вниз, вверх и вниз и наконец уходит в открытый космос.
– Он имеет в виду СПИХ, – пояснил я.
– Так что насчет тяжелых? – заволновался Коротышка. – Я, пожалуй, начну с них прямо сейчас.
– Рррррррррмммммммм рррррррмммммм нет. Не нужно. Я уже все сделал. Я не дам новому терну их трогать, пока не пойму, что он знает, что делает.
– Но ты же не можешь писать назначения, – запротестовал Коротышка.
– Я не могу их подписывать, а писать – могу. Иди домой, Коротышка, и приходи завтра. Что ж, надо покончить со всей ерундой в отделении и свалить домой пораньше.
Несмотря на все наши старания, Джо и южное крыло отделения № 6 вгоняли Коротышку в гроб. Джо, дежурившая вместе с Коротышкой, начала с того места, где остановился Бешеный Пес: доказывала, что его работа никогда не может быть закончена, но при этом не давала ему принимать никаких решений, не проконсультировавшись с ней. Боясь рисковать, Коротышка ничему не учился.
Методы работы Джо с гомерами привели к тому, что у Коротышки собралась целая коллекция самых жалких и несчастных пациентов Дома. Коротышка никак не мог собраться и во всех бедах пациентов винил себя. Кровотечение Лазаруса было его виной. Отсутствие дефекации у птицеподобной старушки с паралитической непроходимостью было его виной. Его виной было все. Он проводил с пациентами все больше времени, и один старик так привязался к нему, что каждый раз, когда Коротышка к нему подходил, начинал плакать, целовать руки, называть его лучшим другом, а когда Коротышка пытался сбежать – снова плакал, целовал руки и предлагал ему один и тот же подарок – старый галстук-бабочку.
Несмотря на усилия, которые прилагали мы с Чаком и Таулом, Коротышка постоянно испытывал чувство вины. Мы видели, что произошло с Потсом, и не хотели, чтобы это повторилось. И мы полагали, что, если у Коротышки что-то сложится с Энджел, он обретет хоть какую-то уверенность в себе. Его поэтесса, рассерженная тем, что из-за усталости Коротышка не мог проникнуться ее творениями, отправляла его спать на диван в гостиной. Но Коротышка был настолько затюкан, что не мог набраться храбрости, чтобы пригласить Энджел на свидание.
– Ну почему ты не зовешь ее на свидание? – спросил я. – Она тебе не нравится?
– Не нравится?! Да я от нее без ума! Я мечтаю о ней. Она – та женщина, с которой моя мать никогда не разрешила бы мне встречаться. Она именно из тех, за кем я наблюдал в замочную скважину, из тех, кого трахал мой сосед Норман.
– Так почему ты не ее не пригласишь?
– Я боюсь ей не понравиться и услышать «нет».
– И что?! Что ты теряешь?
– Надежду на то, что она скажет «Да». Что бы ни случилось, я не хочу терять эту надежду.
– Послушай, старик, – сказал Чак. – Если твой член не начнет двигаться, ты не станешь врачом.
– Да как это между собой связано?!
– Кто знает, старик, кто знает…
Вместо того, чтобы пригласить Энджел на свидание, Коротышка продолжал работать в отделении, купаясь в чувстве вины; продолжал вертеться, пытаясь поудобнее устроиться на диване в гостиной; продолжал ходить на похороны своих молодых пациентов – а Джо к тому же ежедневно уменьшала его потенцию рассказами о том, чего он опять не сделал.
Кроме того, по настоянию поэтессы, дошедшей со своим психоаналитиком до анально-садистической фазы[39]39
По Фрейду – одна из фаз психосексуального развития, которую ребенок обычно проходит в возрасте одного-полутора лет.
[Закрыть], Коротышка (и без того заанализированный своим семейством до практически полной атрофии полового органа) был вынужден вернуться к своему психоаналитику, с которым не расставался все годы учебы в ЛМИ, измученный своим бля…ном-соседом, Норманом, владельцем электрооргана, игравшего на нем лишь одну песню: «Если бы ты знал Сюзи, как знаю ее я». Поскольку всех его пассий звали Сюзи, каждая из них была счастлива, зайдя к нему в комнату, услышать «свою песню».
Душным и жарким вечером я отбывал свое дежурство, а Коротышка допоздна засиделся с пациентом, у которого были серьезные проблемы. Я пытался заставить его свалить домой и позвонить, наконец, Энджел – но он отказывался и от одного, и от другого. Таул ушел домой, а Коротышка зашел в тупик, не зная, что делать с миссис Ризенштейн. Химиотерапия уничтожила у старушки костный мозг, и теперь он не производил никаких клеток, что означало неминуемую смерть. Наконец, он спросил моего совета. Я занимался новыми поступлениями, пытаясь в то же время держать под контролем состояние тяжелых больных, – и сорвался на него.
– Вали уже домой, черт тебя дери! Я обо всем позабочусь!
– Я не хочу домой. Там Джун. Если я вернусь, мы опять поссоримся из-за ее анального садизма!
– Пока, – сказал я.
– Куда ты?
– В сортир, у меня кишечный грипп.
Я устроился в тишине туалета, любуясь новым шедевром наскальной живописи: «НЕ БУДЬ ГАВНОДУШНЫМ».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.