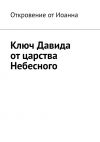Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Фигня, – раздраженно сказал Толстяк, – эта женщина в жизни не здоровалась с интернами и не собирается начинать с таких, как ты, – охотников за ее трупом. Активность кишечника?
– Ноль. Никаких звуков перистальтики. Кишечник как мертвый. Вообще ничего с тех пор, как ты в прошлом месяце подсунул ей свой «экстракт»!
– Это динамит, – заявил Толстяк. – Продолжай давать ей антибиотик Ассоциации ветеранов, Хупер. Мы должны снова включить ее. Следующий?
Мы прошлись по списку и закончили Королевой Вшей. Толстяк спросил у Глотай Мою Пыль Эдди, диагностирован ли у нее рак или аллергия.
– Понятия не имею – ответил Эдди. – Я от нее отказался.
– Отказался? Что это значит, черт возьми?
– Отказался от пациента, – сказал Эдди. – Новая концепция.
– Ну-ка хватит! Соберись! Ты не можешь отказываться.
– Почему нет?
– Ты доктор, вот почему, понимаешь? – спросил Толстяк, нахмурившись. – Иисусе, ты нашел у нее рак или аллергию?
– Нет, – сказал студент Эдди, – все, что мы нашли, – это сперму. Три последних анализа мочи вернулись с пометкой «сперма».
– Сперма? СПЕРМА?! У слабоумной семидесятидевятилетней гомерессы?
– Сперма. Мы думаем, что это от Сэма Левина, этого извращенца с диабетом.
Следующим утром Рыба повез нас на экскурсию. Хупера потребовал к себе Легго, и, ожидая его возвращения, мы гадали, для чего: чтобы смешать с землей за убийство бедной Розы Бадз или чтобы поздравить с получением разрешения на вскрытие. Мы с Эдди, как обычно, издевались над Рыбой, пока тот, подозрительно нас оглядев, не свалил под предлогом последних приготовлений к поездке. Хупер наконец появился, и Рыба посадил нас всех в микроавтобус. По дороге он со всей искренностью вещал об убийстве Хупером Розы Бадз: «Знаете, невозможно научиться медицине, не убив пару пациентов. Да что там, я сам убивал пациентов. Но каждый раз, убивая их, я чему-то от них учился…» Было сложно поверить в то, что он действительно говорит это, так что я отключился и представил, как Рыба вещает: «Убийства пациентов меня особенно интересуют. Я недавно имел возможность познакомиться с последними мировыми исследованиями, посвященными убийствам пациентов. Это могло бы оказаться очень интересным исследовательским проектом, и, возможно, кто-то из молодых сотрудников…», – и к тому времени, как я включился обратно, мы уже оказались у офиса Жемчужины.
Это был наш второй выезд. Рыба устраивал нам такие экскурсии, чтобы уменьшить вред, который мы наносили его шеф-резиденству и всей его карьере. В первый раз мы нанесли визит в амбулаторию, находящуюся в гетто, и казалось, что Рыба чувствует себя там страшно неуютно. На этот раз ситуация была прямо противоположной: Жемчужина вознесся над всеми лизоблюдами Дома – именно так, как хотелось бы Рыбе, – и в настоящее время являлся самым богатым частным врачом в Доме, а, может быть, во всей стране или даже в мире. Его офис был набит автоматикой и фоновой музыкой. В качестве последней выступал «Скрипач на крыше»[86]86
«Скрипач на крыше» – популярный бродвейский мюзикл и фильм, снятый на его основе. Сюжетная основа – рассказы Шолом-Алейхема о Тевье-молочнике, действие происходит в деревне Анатовка.
[Закрыть]. Приемная была переполнена: СБОП сдавали анализы крови, подпевая «Восход, закат…»; потом отправлялись угол, где делали ЭКГ, в унисон с лаборантом выводя «Обычай…», и следовали дальше, к табличке «Сюда, в Анатовку», где сдавали анализы мочи, купаясь в горько-сладких стонах скрипки, страдающей о потерянном доме. После всего этого СБОП (и мы) получали личную аудиенцию в офисе Жемчужины, где звучало «Скажем, будь я Ротшильд…», и перед компьютером, обрабатывающим результаты анализов, сидел Жемчужина, окруженный флагштоком с флагами Израиля и США, оригинальными картинами Шагала и чем-то, очень напоминающим оригинал клятвы Гиппократа. Он был мил, добр и щедр, он казался лучшим чертовым доком, и он сообщил, что осматривает в среднем по 119 СБОП в день. И никаких гомеров! На обратном пути я подсчитал, что годовую зарплату интерна Жемчужина зарабатывает за два дня. Повернувшись к сидящему позади меня Толстяку, я сказал:
– Толстяк, это был Город Денег.
– А то! Состояние можно найти в любых кишках, не обязательно звездных.
После ужина я отправился на шестой этаж, проведать Молли. Она была зла на меня: я забыл, что сегодня был день Святого Валентина, и ничего ей не подарил. Она кричала на меня, и я почувствовал себя виноватым, ведь Молли действительно мне очень нравилась, и я даже заметил, что она стала часто мне сниться. Вероятно, это означало, что я влюбился в нее, и я совершенно точно обожал заниматься с ней любовью, когда она стонала, как влажная от страсти вавилонянка. В теории мой интерес к ней остался прежним: я по-прежнему видел в ней старшеклассницу Вавилонской женской школы – марширующую в короткой юбочке на параде, и раскидывающую ноги в разные стороны, и мастурбирующую самым длинным в мире жезлом, и вызывающую эрекцию у слабоумных легионеров, выстроившихся на пути следования парада, но Город Гомеров так достал меня, что моя сексуальная энергия пошла на спад. Я знал, что трахаюсь с Молли отчасти для того, чтобы убедиться в том, что я еще жив. И мне уже приходила в голову неприятная мысль: раз я теперь почти с ней не трахаюсь, не значит ли это, что я перестаю быть живым? Я слушал, как она говорит мне о том, что я стал скучным и веду себя, как тридцатилетний, и я понял, что в каком-то смысле она права. Мне теперь было неимоверно трудно выйти на смертельный холод и идти куда-то под пронизывающим ветром, чтобы увидеть ее – несмотря на все мое желание, несмотря на ревность при мысли о том, что предназначенные мне масло и мирра могут достаться какому-то другому парню. Я почувствовал влечение и, видя ее перед собой – сексуальную и готовую ко всему прямо здесь и сейчас, – положил обе руки на ее сиськи, такие крепкие, обтянутые таким милым костюмчиком медсестры; а потом добрался до ее светлого пушистого лобка и уткнулся в него носом; и прижал ее к себе, и целовал, вспоминая круговые движения ее бедер и губ – и мы вспыхнули, как вспыхивали раньше. Я спрашивал себя, куда делась та часть меня, которая была готова совершать усилия, и начал мечтать о том, что проведу с Молли всю эту ночь, но тут она отстранилась от меня и попросила оказать ей услугу: взглянуть на пациента с агональным дыханием.
– Агональное дыхание означает смерть. Он должен умереть?
– Я не уверена. У него миелома в терминальной стадии, почечная недостаточность, он уже несколько недель в коме, но доктор Путцель так и не обсудил ситуацию с семьей. И теперь непонятно, продолжать ли диализ и когда он должен умереть. Это не имеет никакого смысла.
Я пошел осмотреть его. Это было слишком. Молодой мужчина, совершенно серый, умирающий. Его дыхание наполняло комнату запахом мочевины. Его дыхательные центры были практически мертвы, и дышал он так, как дышит выброшенная на берег рыба. Я вернулся к Молли и сказал:
– Он умрет минут через пятнадцать. Ты уверена, что он не испытывает боли?
– Нет. Коротышка всю ночь давал ему морфий.
– Хорошо. – Меня затопило нежностью, ведь мы с Молли были молоды и пока не умирали, хотя конечно, в один день все-таки умрем, а если повезет – мы будем при этом под завязку наполнены морфием, и я сказал: – Задерни его занавеску, родная, сядь со мной и давай поговорим.
Но дать неизлечимо больному молодому пациенту умереть в мире – и без боли – было недопустимым для Божьего дома. Хотя и Путцель, и Коротышка были готовы разрешить Человеку с Агональным Дыханием умереть этой ночью, заявился консультант-нефролог, искусный лизоблюд по имени Мики, бывшая футбольная звезда своего колледжа. Он осмотрел пациента, завопил и срочно вызвал Коротышку. То, что его «случай» умирает, привело его в бешенство. Я напомнил о раке костей в терминальной стадии, на что он ответил: «Да, но мы поставили шунт для диализа за восемь тысяч, и каждые три дня диализная команда приводит показатели его крови в идеальное состояние!» Я понял, что сейчас здесь начнется омерзительное, – и ушел. Я видел, как из лифта выскочил кипящий от злости Коротышка, как он побежал по длинному коридору, и стетоскоп его раскачивался, как слоновий хобот. Я думал о костях, изъеденных миеломой до такой степени, что они стали хрупкими и ломкими, как чипсы. Через несколько минут Человек с Агональным Дыханием даст остановку сердца. Если Мики попытается начать закрытый массаж, кости грудной клетки просто превратятся в пыль. Нет, даже Мики, полностью разделяющий принцип Легго «всегда делать все для каждого пациента», не решится объявить остановку сердца!
Мики объявил остановку сердца. Терны и резиденты со всего Дома помчались в палату, чтобы спасти Человека с Агональным Дыханием от легкой и безболезненной смерти. Я вошел в комнату и увидел даже большую мерзость, чем ожидал: Мики делал закрытый массаж, и слышно было, как хрупкие кости хрустят, хрустят и трещат под его сильными мясистыми лапами. Индус-анестезиолог, стоявший у изголовья и качавший кислородный мешок, смотрел на этот кошмар с сочувственным презрением, возможно, вспоминая о мертвых нищих, которых в Бомбее на рассвете собирают с улиц как мусор. Молли плакала, пытаясь выполнять приказ, Коротышка орал: «Хватит! Прекратить реанимацию!», а Мики, ломая кости, вопил: «Пошли все вон отсюда! Каждые три дня его показатели крови идеальны!»
Но самое тошнотворное началось, когда в комнату влетел Говард с трубкой, зажатой в зубах, и, нервно хмыкнув, решил взять инициативу в свои руки – совсем как терн в книжке «Как я спас мир, не запачкав халата». Он завопил: «Нужно поставить этому парню большую вену, немедленно!», схватил здоровенную иглу, увидел пульсирующий сосуд (который оказался искусственно сконструированным, тщательно оберегаемым шунтом между артерией и веной, гордостью и радостью команды Микки) – и, светясь от радостного возбуждения, вонзил в него иглу, раз и навсегда уничтожив идеальные показатели крови на каждый третий день. Когда Мики увидел это, он прекратил ломать кости, глаза его налились яростью опорного защитника, и он окончательно слетел с катушек, вопя: «Мой шунт! Ты, ублюдок, это мой шунт! Восемь штук на то, чтобы сделать это, а ты сломал мой шунт!» Я решил, что с меня хватит, и свалил, думая, что, может быть, на этом все закончится, и они не станут переводить Человека с Агональным Дыханием и Раздробленными Костями в БИТ.
Они перевели его в БИТ, дежурным терном там оказался Чак. Когда я зашел его проведать, то увидел, что у входа в блок стоит семья, плачущая и слушающая объяснения Мики. Чак, весь в крови, склонился над останками Человека с Агональным Дыханием, у которого на самом деле уже не было никакого дыхания, кроме того, которое создавал аппарат искусственной вентиляции. Чак посмотрел на это и сказал:
– Отличный случай, а?
– Как у тебя дела?
– Жуть. Знаешь, что сказал Мики? «Продержи его до утра, ради семьи». Это что-то!
– Какого хрена мы все это делаем?
– Деньги! Старик, хотел бы я быть таким богатым! Черный «флитвуд» с гангстерской белой обивкой и похоронным венком на капоте.
Мы засели в комнате медперсонала и приложились к чаковой бутылке «Джека Дэниэлса». Он откинулся в кресле и затянул своим фальцетом: «На небе лунаааа…», и, слушая его, я думал, что наша дружба стала такой же призрачной, как и его мечта стать певцом. Чаку было очень трудно приспособиться к новому городу. Одной из причин было то, что он никак не мог понять, кому здесь давать взятки. Когда его остановили за превышение скорости, стандартный чикагский прием с протягиванием прав с вложенных в них десятидолларовой купюрой привел к пренеприятнейшей лекции о «подкупе блюстителей закона» и максимальному штрафу. Озадаченный и потерянный, Чак проводил время дома, объедаясь, напиваясь и пялясь в телевизор. Его страдания оседали на его талии и усугубляли тяжесть его похмелья. Я пытался поговорить с ним об этом, но он отвечал своим обычным «ладно, ладно». Мы оба становились все более замкнутыми. Мы все сильнее нуждались в поддержке друг друга, но наша дружба ослабевала. Мы нуждались в искренности, но становились все более саркастичными и, общаясь между собой, следовали негласному правилу интернов: не говорить о том, что чувствуешь. Если откроешься хоть немного – посыпешься. Мы считали, что проявление чувств уничтожит нас, как великих звезд немого кино уничтожило появление звука.
Коротышка присоединился к нам, извинившись за СПИХ Человека с Агональным Дыханием. Вслед за ним ворвался Мики, спрашивая, как дела у пациента.
– Отлично, – отвечал Чак, – просто отлично.
– Правильно, ему нельзя было давать этот морфий, – сказал Мики.
– Он неизлечим и страдает от боли, – начал закипать Коротышка.
– Неважно. Я ухожу. Сохрани его живым до утра.
– До скольки? – спросил я невинно.
– До восьми тридцати, девя… – начал Мики, но, сообразив, что выглядит кретином, обматерил нас и ушел.
Мы остались, приканчивая бутылку, и Коротышка сел на своего любимого конька: секс. Эта безудержная страсть к чужим гениталиям, отличавшая его от других и помогающая дистанцироваться от стресса интернатуры, порой выходила из-под контроля. Однажды я застал его у телефона, красного до ушей и оравшего в трубку: «Да, меня не было дома несколько дней, и я не собираюсь говорить тебе, где я был. Не твое дело!» Прикрыв трубку рукой и ухмыльнувшись, Коротышка сказал, что это его родители и продолжал: «Как мой психоанализ? Я бросил… Джун? Ее я тоже бросил… Да, мама, я знаю, что она хорошая, именно поэтому я ее и бросил. У меня теперь медсестра, горячая, ты должна ее видеть…» Я пообещал себе, что, если Коротышка начнет рассказывать матери о том, что Энджел вытворяет своим ртом, я отберу у него трубку.
– Черт побери, мама, прекрати!.. Ты хочешь знать, что она делает? Ты должна увидеть, что она делает своим…
– Здравствуйте, доктор Рантский? – сказал я, отнимая у него трубку. – Это Рой Баш, друг вашего сына. – Сразу два докторских голоса поздоровались со мной. – Вам не о чем волноваться, у Гарольда все отлично.
– Мне кажется, что он на меня очень зол, – сказала доктор миссис Рантский.
– Да, ничего страшного, это всего лишь примитивные процессы, – сказал я, вспомнив Берри, – немного регрессии. В этом же нет ничего особенного, правда?
– Да, – хором подтвердили два психоаналитика, – наверное, так.
– Я знаю эту медсестру. Она очень хорошая. До свидания.
Коротышка был зол на меня. Он заявил:
– Я ждал этой возможности десять лет!
– Ты не можешь так поступить.
– Почему нет? Это мои родители.
– Именно потому, Коротышка. Потому что они твои родители.
– И?
– И ты не можешь говорить своим родителям о том, что какая-то медсестра садится тебе на лицо! – заорал я. – Боже всемогущий, ты что, вообще перестал использовать свои высшие корковые функции?
Коротышка превратился в чистый тестостерон. Ни я, ни Чак уже не хотели слушать про последнюю безумную е…ю Гарольда Рантского, так что мы попытались сбежать. Коротышка спросил, не заметили ли мы чего-нибудь необычного в его облике.
– Я не пожелтел, – сказал он. – Прошло больше шести месяцев с тех пор, как я укололся иглой от Желтого Человека, и я не пожелтел. Инкубационный период закончился. Я не умру!
И хотя я был рад, что Коротышка не умирает (не считая, конечно, стандартного умирания, свойственного нам всем), я подумал о Потсе и о том, как он страдал.
Желтый Человек оставался в коме, ни жив ни мертв.
Удары валились на Потса один за другим, и последним из них стала вспышка ярости его матери на отцовских похоронах. Во время нашей последней встречи он сказал, что испытывает те же чувства, что испытывал ребенком, когда семья закрывала летний дом на острове Паули на зиму и мама опустошала его комнату, убирая все вещи, которые он любил, – и когда он перед отъездом оглядывался на нее в последний раз, то натыкался взглядом на голый пол, на накрытое простыней кресло и на одноглазую куклу, повисшую на медной спинке его кровати. Он презирал Север, но был слишком вежлив для того, чтобы облечь свою горечь в слова. Он стал совсем тихим. Мои вопросы, мои приглашения, казалось, отражались эхом от стен опустевшей комнаты внутри него. Казалось, он делал все, чтобы сделать нашу дружбу невозможной.
Уходя из БИТа, я сказал Чаку:
– У тебя прекрасный голос. Не хороший, а прекрасный, Чаки, детка, прекрасный, прекрасный голос.
– Я знаю. Будь спокоен, Рой, будь спокоен.
Этой ночью в Городе Гомеров трудно было остаться спокойным. С гомерами происходили обычные гнусности, и в полночь я, склонившись над Розой из «Палаты Роз», стучал кулаком по койке и повторял снова и снова: «Я НЕНАВИЖУ ЭТО! НЕНАВИЖУ! НЕНАВИЖУ!» Но добил меня Гарри-Лошадь. Мы с Умберто тщательно все спланировали: убедив Гарри, что он остается в Доме, мы решили накачать его на ночь валиумом, а с утра лично отвезти в богадельню. Мы никому об этом не говорили, даже Толстяку. Но среди ночи меня разбудила медсестра, сообщившая, что у Гарри опять началась безумная аритмия и боли в груди и похоже, что он умирает, и не стоит ли объявить остановку сердца. Я заорал, разбудил Умберто, спящего на верхней койке, выскочил из комнаты и помчался по коридору, а Умберто несся за мной по пятам. Тут я резко остановился, и Умберто въехал мне в спину. Я сказал: «Оставайся здесь, амиго. На этом этапе своего обучения ты не должен видеть такие вещи», – и вбежал в палату Гарри. Он повторял: «ПОГОДИ ДОК ПОГОДИ ДОК ПОГОДИ ДОК», держась за сердце.
– Кто сказал тебе, Гарри? Кто сказал, что ты отправляешься домой? – заорал я, глядя ему в глаза.
Убежденный, что теперь он останется в доме, Гарри ответил:
– П… П… Путцель.
– Путцель?! Путцель не твой врач, Гарри! Малыш Отто твой врач. Ты хотел сказать «доктор Крейнберг», не так ли?
– Нет… П…. П…Путцель.
Путцель?! Итак, Гарри преуспел в убийстве части своего левого желудочка ровно настолько, насколько требовалось для того, чтобы остаться в больнице еще на шесть недель: на две неделе дольше, чем в отделении будем оставаться мы с Эдди, Хупером и Толстяком. Так что ему предстоит встреча с новыми тернами и резидентами, которых будет еще легче надурить, так как они, вероятно, не будут скрывать, что его собираются СПИХНУТЬ, что позволит ему снова перейти в этот сумасшедший сердечный ритм. Мы проиграли. Гарри-Лошадь праздновал победу.
Отправляясь обратно в дежурку, я прошел мимо комнаты Сола, портного с лейкемией. Моя, идущая вопреки его желаниям, попытка добиться ремиссии ухудшила его состояние. Он был в коматозном состоянии, и по большинству юридических критериев уже мог бы считаться мертвым. Он никогда не поправится, но медицина могла поддерживать в нем жизнь еще довольно долгое время. Я посмотрел на его бледное тело. Я слышал, как булькает мокрота при каждом вдохе. Он больше не мог умолять меня прикончить его. Его жена, страдая и растрачивая пенсионные накопления, с горечью говорила: «Хватит! Когда ты уже позволишь ему умереть?» Я мог бы его прикончить, и я хотел этого – но это невозможно было бы скрыть. И я поспешно проскочил мимо его палаты. Я пытался уснуть, но фантасмагория этой ночи продолжалась, и до рассвета произошло еще множество событий, почти уничтоживших меня. И в какой-то момент я обнаружил себя стоящим у дверей лифта, ожидая, когда он спуститься, чтобы я, уже готовый взорваться от ярости, мог отправиться на разбор карточек Города Гомеров.
Лифт не трогался с места. Я ждал, я нажимал на кнопки, но ничего не происходило. Внезапно я будто сошел с ума. Я начал долбить в дверь лифта, пинать полированный металл обшивки низа, барабанить кулаками по полированному металлу обшивки верха, орать: «СПУСКАЙСЯ, УБЛЮДОК, СПУСКАЙСЯ!» Какая-то часть меня недоумевала, какого черта я это делаю, но я продолжал стучать и кричать, как олигофреничка, которая, рожая, орет своему плоду: «СПУСКАЙСЯ, УБЛЮДОК, СПУСКАЙСЯ!»
К счастью, Эдди Глотай Мою Пыль наткнулся на меня и отвел в отделение. Я спросил, не показалось ли ему, что я вел себя неадекватно, и он ответил: «Неадекватно? Рой, да этот говнюк лифт получил то, что давно заслуживал!»
Во время утреннего разбора карточек, думая о том, как Путцель запутцелил мой СПИХ Гарри-Лошади, я решил контратаковать, распустив о нем слух. И спросил у Эдди, слышал ли он о том, что кто-то из тернов грозился убить Путцеля, пустив ему пулю в лоб. Эдди ответил:
– Ура медицинской мощи! Как раз то, что этот говнюк давно заслужил.
– Зачем стрелять? – спросил Гипер-Хупер. – Просто начинить взрывчаткой его сигмоидоскоп, он нажмет кнопку и взлетит на воздух.
– Послушайте, парни, – сказал Толстяк, – отстаньте от Путцеля прямо сейчас и дайте этому слуху умереть.
– Волнуешься за свою специализацию? – спросил я издевательски.
– Я волнуюсь за свою суперкоманду. Если вы продолжите в том же духе, вам не продержаться. Поверьте, я знаю. Я был в вашей шкуре.
– Бей наверняка, – сказал Глотай Мою Пыль так, будто и не слышал ни слова из сказанного Толстяком, – минируй стетоскоп. КАААА-БУУУМ! – Он задумался, глаза расширились, он облизал губы и заорал: – КААА-БУУУМ!
Два дня спустя, когда у меня снова было дежурство, Берри настояла на том, чтобы навестить меня в Доме. Обеспокоенная моим «маниакальным» состоянием и моими «пограничными» описаниями того, что гомеры делают со мной, а я с ними, она решила, что сможет помочь, если увидит все своими глазами. А еще она хотела познакомиться с Толстяком. Мы с Умберто устроили ей экскурсию по Городу Гомеров. Она увидела их всех. Сначала она пыталась общаться с ними, как с людьми, но вскоре, поняв всю бессмысленность этой затеи, замолчала. Под конец мы осмотрели «Палату Роз», где я настоял, чтобы Берри с помощью моего стетоскопа послушала астматическое дыхание одной из Роз. Она казалась оглушенной.
– Отличный случай эта Роза, а? – саркастично спросил я.
– Это очень грустно, – сказала Берри.
– Что ж, десятичасовой ужин тебя взбодрит.
Во время ужина она наблюдала, как мы, интерны, играем в «Игру Гомеров»: ведущий называл «ответ гомера», например, «тысяча девятьсот двенадцать», а остальные придумывали вопросы, на которые гомер мог быт так ответить, например, «Когда вы в последний раз ходили по большому?», или «Который раз вы в этой больнице?», или «Сколько вам лет?», или «Какой сейчас год?», или даже «Кто вы?» и «Кто я?», или, наконец, просто «Упс?»
– Кошмар, – сказала Берри мрачным, почти злым голосом. – Это ненормально.
– Я же говорил тебе, что гомеры ужасны.
– Не гомеры, вы. Их вид вгоняет в тоску, но то, как вы издеваетесь над ними, смеетесь над ними, – это ненормально. Вы все ненормальные.
– Ты просто еще не привыкла, – сказал я.
– Ты думаешь, что, окажись я на твоем месте, тоже стала бы такой?
– Да.
– Может быть. Что ж, давай с этим покончим. Отведи меня к вашему лидеру.
Мы нашли Толстяка в Городе Гомеров, производящим ручную раскупорку кишечника Макса с болезнью Паркинсона. Надев по две пары перчаток и хирургические маски, фильтрующую запах, Толстяк и помогающий ему Тедди копались в максовом мегакишечнике, набитом бесконечной массой фекалий, а из огромной, покрытой шрамами головы Макса беспрерывным потоком неслось: «ИСПРАВЬ ГРЫЖУ ИСПРАВЬ ГРЫЖУ». Из радиолы Тедди лился Брамс. Все вокруг пропахло свежим говном.
– Толстяк, – сказал я от двери, – познакомься с Берри.
– Что? – изумленно спросил Толстяк. – О, нет! Привет, Берри. Баш, ты – шлимазл, зачем ты показываешь ей это? Вали отсюда. Я вернусь через минуту.
– Я здесь, чтобы увидеть все, – сказала Берри. – Расскажи, что ты делаешь?
Она зашла в палату. Толстяк начал объяснять, чем они занимаются, но тут волна запаха накрыла Берри, она зажала рот и выбежала из палаты. Толстяк со злостью сказал:
– Баш, иногда ты ведешь себя, как умственно отсталый, как десантник, у которого мозги в отпуске. Тедди, заканчивай. Я должен поговорить с несчастной женщиной, связавшейся с нашим полоумным Башем.
Заплаканная Берри вышла из туалета. Увидев Толстяка, она спросила:
– Как ты… можешь? Это же омерзительно!
– Да, – сказал Толстяк, – омерзительно. Как я могу? Понимаешь, Берри, когда-нибудь и мы станем старыми и отвратительными, и кто тогда будет лечить нас? Заботиться о нас? Кто-то должен это делать. Мы не можем просто уйти. Видя твою реакцию, вспоминаешь, насколько это отвратительно. Это ужасно, что мы забываем об этом. Ну-ну прекрати, – сказал он, кладя свою толстую лапу ей на плечи, – пойдем ко мне в кабинет. У меня есть заначка «Доктора Пеппера». В такие моменты «Доктор Пеппер» может помочь.
Они отправились в дежурку, а я поплелся следом, приговаривая:
– Отличный случай. Знаешь Берри, простые люди, вроде нас с тобой, ненавидят дерьмо, но Толстяк его обожает. Он и сам собирается в гастроэнтерологию.
– Заткнись, Рой! – отрезала Берри.
– Знаешь, что происходит, когда гастроэнтеролог смотрит в сигмоидоскоп?
– Прекрати! Уходи. Я хочу поговорить с Толстяком наедине!
– Наедине? Зачем?
– Не важно. Вали.
Злясь и ревнуя, я глядел им вслед, а потом прокричал:
– Говно смотрит на говно, вот что происходит!
Толстяк обернулся и зло процедил:
– Не говори так!
– Что, неприятно, Толстяк?
– Мне – нет, а ей да. Ты не можешь пользоваться этими внутренними шуточками, когда говоришь с людьми оттуда, снаружи. С такими, как она.
– Конечно, могу, – возразил я. – Они должны знать!
– НЕ ДОЛЖНЫ! – заорал Толстяк. – Не должны и не хотят. Кое-что нужно держать в секрете. Думаешь, родители хотят слышать, как учителя смеются над их детьми? Подумай своей башкой! У тебя прекрасная подруга, таких, поверь мне, их не так уж легко найти и удержать, особенно, когда ты врач. Меня бесит, как ты с ней обращаешься.
Через час они позволили мне войти. Я чувствовал себя так, будто стою перед военным трибуналом. Берри и Толстяк заявили, что волнуются за меня, волнуются из-за моей ярости, циничности и злости.
– Мне казалось, ты хотела, чтобы я выражал свои чувства, – возразил я.
– Словами, – сказала Берри, – но не поступками. Не вымещая зло на пациентах и других докторах. Толстяк рассказал мне про твой слух о Путцеле.
– Они тебя достанут, Рой, – сказал Толстяк, – ты получишь по полной.
– Они мне ничего не могут сделать. Дом не выживет без интернов. Я неуязвим, незаменим.
– Это опасно. Экстернализация – плохая защита.
– Ну вот, опять началось! Что такое экстернализация?
– Видеть конфликт вне себя. Проблема не снаружи, а внутри. Когда ты понимаешь, что что-то готово сломаться!
– Только так и можно выжить!
– Ничего подобного! Посмотри на Толстяка, он нашел здоровый способ справиться с этой кошмарной ситуацией. Сочувствие и юмор. Он может смеяться.
– Я тоже могу, – сказал я. – Я тоже смеюсь.
– Ты не смеешься, ты кричишь!
– Ты называла его больным и циничным. И это он научил меня называть этих милых людей гомерами.
– Он не убил в себе сочувствие. А ты – убил.
– Послушайте, – серьезно сказал Толстяк, – давайте остановимся, а? Берри, мы не можем указывать ему, как себя вести. Год назад я был намного хуже, чем он сейчас, если ты можешь себе это представить, и никто не мог мне и слова сказать. Даже в июле мне было хуже. Это твой худший год, Рой. Я знаю, что это. Это – ад!
– Эта штука с Путцелем меня пугает, – сказала Берри.
– Каждой утро он стоит перед зеркалом, поправляя галстук-бабочку, и говорит себе: «Ты знаешь Путцик, ты великий врач. Не просто хороший, нет, великий!» Я ненавижу его. Ты говоришь, что тебе страшно? Ты бы видела его! Сейчас у него даже ботинки дрожат. Он готов сломаться! Ха!
– Это ты не Путцеля ненавидишь, а себя, – сказала Берри. – Ты ненавидишь что-то внутри себя! Понимаешь?
– Нет, нет и нет. Толстяк знает, какое Путцель говно.
– Не делай этого, Рой, – сказала Берри, – ты только делаешь себе хуже.
– Толстяк?
– Путцель – индюк, – сказал Толстяк, – он некомпетентный, загребающий деньги кусок дерьма. Это правда. Но он не монстр, каким ты его представляешь. Он безвредный нытик. Мне его жаль. Оставь его. Что бы ты ни задумал – не делай этого.
Я сделал это. Я дал Путцелю неделю на то, чтобы помучаться слухами. И мое время пришло. Когда Путцель сидел, держа за руку одну из Роз, я подкрался к нему сзади и прошептал ему на ухо:
– С меня хватит, Путцель. Клянусь, в ближайшие двадцать четыре часа я тебя уничтожу.
Путцель спрыгнул с койки, посмотрел на меня исполненным паники взглядом и выбежал из палаты. Я вышел в коридор и наслаждался видом этого маленького императора кишок, который по стеночке, временами пригибаясь и ныряя в проемы дверей, будто бы опасаясь пули, бежал к выходу. И пошел на обход.
Я не дошел. Два бугая из охраны Дома напали на меня, выкрутили руки за спину и втолкнули в дежурку. Сначала они поставили меня к стене и обыскали, после чего усадили перед Лайонелом, Толстяком, Рыбой и съежившимся в углу Путцелем.
– Какого черта здесь происходит? – спросил я.
Все смотрели на Путцеля, пока он не промямлил:
– До меня дошел слух, что какой-то интерн хочет меня убить, а потом… потом он прошептал мне, что в следующие двадцать четыре часа меня уничтожит.
Я ждал, пока тишина не стала невыносимой и спокойно произнес:
– Что вы сказали?
– Ты сказал, что собираешься… меня уничтожить.
– Доктор Путцель, – спросил я изумленно, – вы сошли с ума?
– Ты сказал! Я слышал, что ты сказал! Не отрицай!
Я отрицал, говоря, что любой, кто мог подумать, что интерн Божьего дома будет угрожать убить частника Дома, сошел с ума, и требовал, чтобы охранники меня отпустили.
– Нет! Не отпускайте его! – заорал Путцель, прижимаясь к стене, как безумный параноик.
– Послушайте, – сказал я, – я всего лишь интерн, делающий свою работу. Я не могу отвечать за этого психа. Увидимся позже, а?
– Нет! НЕЕЕЕЕЕЕЕТ! – выл Путцель, как сумасшедший, закатывая глаза.
– Что нам, по-вашему, теперь делать? – спросила охрана у Рыбы.
– Я не знаю, – сказал Рыба. – Толстяк?
– Я никогда ничего подобного не видел, – сказал Толстяк. – Только одно могу сказать наверняка: доктор Путцель ведет себя чрезвычайно странно.
– Это очень странно, – сказал Легго, когда я уселся в его офисе, единственном месте, куда охрана додумалась меня сплавить, – да, очень странно… – Он словно уплыл куда-то за окно, туда, где находятся ответы на странные вопросы. – Я хочу сказать, ты же не угрожал убить его, нет? Конечно же, нет! – он был настолько выбит из себя, что его фиолетовое родимое пятно побагровело.
– Как я мог, сэр?
– Именно. Это невообразимо.
– Могу я рассчитывать на конфиденциальность?
– Выкладывай, – сказал он, готовясь к еще одному потрясению.
– Мне кажется, что доктор Путцель болен.
– Болен? Частный врач Дома болен, Рой?
– Наверное, переработал. Должен отдохнуть. А кто нет, сэр? Кто нет?
Шеф замер, удивленный, а потом просиял и нашел решение:
– Действительно, кто же нет? Кто нет? Я скажу доктору Путцелю, что ему надо отдохнуть, как и остальным. Спасибо тебе, Рой, и продолжай стремиться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.