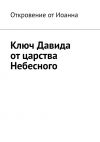Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Вставай, Рой, – раздраженно сказал кто-то, встряхивая меня. – Ро-о-ой.
Это была Берри. Вокруг меня были здоровые и нарядно одетые люди, все они поднимались со своих мест, и Берри сказала:
– Ну же, Рой! Они сейчас будут петь «Аллилуйя», поднимайся!
Я встал, но где же я был? В концертном зале. Я слушал знаменитого «Мессию» в исполнении глуховатых и скрипучеголосых членов общества Генделя. Очередной дневной концерт. Как и все вне Божьего дома, «Мессия» мгновенно меня усыпил. «ВО ИМЯ ГОСПОДА, ГОСПОДА ВСЕМОГУЩЕГО, АЛЛИЛУЙЯ!» Пойте, парни. Откуда вам знать, что Он в приемнике Божьего дома совсем даже не всемогущ. «И БУДЕТ ОН ПРАВИТЬ ВЕЧНО. НАВСЕГДА! АЛЛИЛУЙЯ! АЛЛИЛУЙЯ!» А этот «Мессия», пожалуй, был не так уж и плох. Я оглянулся и осмотрел заполненный публикой зал: от кресел, стоявших прямо у гигантского органа до скрипучих скамеечек в задней части зала. Много гомеров и гомересс, особенно в первых рядах. Пучочки седых волос, покрасневшая кожа впалых щек. «ГОМЕРЫ НЕ УМИРАЮТ. АЛЛИЛУЙЯ! АЛЛИЛУЙЯ! НАВСЕГДА. ОНИ БУДУТ ЖИТЬ ВЕЧНО!» В полном соответствии с ценами на билеты богатые гомеры сидели впереди, а молодежь – сзади. Судя по всему, мы с Берри были на полпути к богатым гомерам.
– Рой, сядь! Ты теперь можешь сесть!
Потом какая-то острозубая солистка проверещала «Я ЗНАЮ, ЧТО МОЙ СПАСИТЕЛЬ ЖИВЕТ», и мы с Берри направились к выходу. Наши ноги погрузились в снежную слякоть, и я сказал:
– Кажется, я заболел. Не могу избавиться от этой тяжести в груди. Не знаю, что делать.
– Похоже на простуду, – сказала Берри.
– Да, но что мне делать? Я ведь даже не кашляю.
– В этом и проблема. Ты не кашляешь. Тебе нужно что-то отхаркивающее.
– Ты так считаешь? Я не подумал об этом. Что ты посоветуешь?
– Рой, да что с тобой? Ты же доктор, а не я!
– Это правда. Об этом я тоже не подумал.
– Диссоциация. Ты диссоциируешь себя от всего на свете. У тебя, похоже, серьезная депрессия.
– Так о чем я тебе и говорю! Полицейские считают, что я становлюсь параноиком. Они видели, как такое происходило с интернами и раньше. Это результат работы в приемнике.
– Я думала, тебе там нравится.
– Нравилось. Было интересно. Там были не только гомеры. Там были и те, кого я спас. Я сам, лично!
– И что же случилось?
– Я могу справиться с серьезными медицинскими проблемами, в самом деле могу. Но там же в основном просто злобные и омерзительные люди. Дерьмо. Торчки, которые хотят развести тебя на дурь, алкаши, нищие, шлюхи, психи. Я их всех ненавижу! Я никому не верю! Потому что на меня постоянно блюют, плюют, орут и матерятся. И все до одного хотят, чтобы я что-то для них сделал, чтобы лечил их выдуманные болячки! И первое, что я теперь проверяю, – это каким же образом они хотят меня нае…ть. Это паранойя, понимаешь?
– Паранойя – ерунда, – сказала Берри. – Просто еще одна примитивная психологическая защита. Если ты думаешь, что за тобой следят, значит, ты уже не чувствуешь себя одиноким. Это удерживает отчаяние одиночества вне твоего разума. А еще ярость. Ты так подавлен, Рой, ты настолько ушел в себя, что на тебя страшно смотреть. Ты очень изменился.
На мои глаза навернулись слезы. Какая пропасть зияла между этой человечной, умной, заботливой женщиной и всеми теми злобными и бесчувственными пациентами! Как непривычно это было для меня! У меня перехватило дыхание, я опустил голову и вдруг понял, что бормочу о том, что должен сознаться в том, что трахаю медсестру. Я замер в ожидании взрыва.
– Ты что, думаешь, я об этом не знала? – спросила Берри.
– Знала?! – удивился я.
– Конечно. Потаскушки, и устрицы, и все остальное. Помнишь? Я тебя довольно-таки хорошо изучила. Но мне все равно, Рой. Пока тебя хватает на двоих.
– Ты серьезно?
– Да, – сказала она, а затем, глядя мне прямо в глаза, продолжала, – с твоей убийственной интернатурой наши отношения не могли остаться такими, как раньше. Это было понятно еще несколько месяцев назад. Но мы должны сохранить нашу любовь, Рой. И я буду за нее бороться. Просто помни, что твоя свобода означает и мою свободу тоже. Понял, дружок?
Подавив вспыхнувшую ревностью, я ответил:
– Конечно, подружка… конечно, любимая, – и я обнял ее и поцеловал, продолжая реветь, и слезы не высыхали на моих глазах. – Мне осталась всего одна неделя в приемнике, но я боюсь того, что может произойти. Я могу не выдержать это. Я боюсь, что в одну из этих ночей, когда вокруг никого, кто-то опять начнет до меня докапываться, а я не выдержу и изобью какого-нибудь ублюдка!
– Послушай, Рой. Я хочу тебя предупредить. В психиатрии эта неделя между Рождеством и Новым годом считается самой тяжелой. Неделя смерти. Будь осторожен и приготовься. Это будет ужасно.
– Холокост?
– Именно. Кровавая жатва.
– Как же мне выжить?
– Как? Может быть, как раз, как в лагерях: живи, чтобы выжить – и свидетельствовать от имени умерших.
Позже, когда вспышка яростной страсти уступила место нежности, я начал рассказывать Берри о Гилхейни, Квике и Коэне. Я начал смеяться, Берри начала смеяться, и вскоре кровать, комната, весь мир – все превратилось в один гигантский рот с языком и губами, сотрясаемыми хохотом.
– Они кажутся невероятно странными! И что, они на самом деле так говорят? Как «ходячие энциклопедии»? Интересно, почему они стали такими!
– Они говорят, что это все из-за того, что последние двадцать лет они постоянно бывают в приемнике Дома, общаются с такими умниками, как я, и впитали в себя сумму знаний всех интернов, работавших здесь.
– Они тебе нравятся, так ведь?
– Да, они отличные ребята. И они не дают мне сдохнуть.
– И тебе интересен и непонятен Коэн?
– Да. Ты знаешь, что он сказал? Он никогда не дотрагивается до пациентов. Если бы я мог их не трогать, я бы, наверное, тоже был бы не прочь послушать, что они говорят.
– И он не орет на гомеров через стетоскоп?
– Представь себе, у него вообще нет стетоскопа! Он приходит на работу в джинсах.
– И как он общается с гомерами?
– Он с ними не общается!
– Не общается, – сказала Берри замогильным голосом.
– Черт возьми! Не общается! Может быть, мне стоит стать психиатром?
Мы снова захохотали. Резидент в психиатрии! Психиатр! Никаких гомеров, никаких гниющих влагалищ и шелушащихся членов, никаких язв на ногах, никаких ректальных исследований, да еще и не так много дежурств! И вместо этого – лишь старый добрый пиздеж?! И можно выбросить стетоскоп и ходить на работу в джинсах!
Берри и я собирались на рождественскую вечеринку к Легго. Она надела черное обтягивающее платье, а я, поскольку в полночь мне надо было приступать к дежурству в приемнике, сразу надел свой белый халат. Берри предвкушала встречу с Рыбой и Легго:
– Мне не терпится узнать, сколько из всего того, что ты рассказываешь, является переносом!
– Что еще за перенос?
– Подмена реального отношения тем, которое ты испытывал к другим. Может быть, ты ненавидишь Рыбу и Легго из-за того, что они напоминают тебе отца?
– Я люблю своего отца.
– А как насчет матери?
– Ты думаешь, Рыба и Легго похожи на женщину, соблюдающую кашрут?
Вечеринку устроили в доме Легго, в пригороде. Широкая подъездная аллея вела к дому, напоминающему королевский дворец. В моче были деньги! В вестибюле нас встретил сам Легго. Он быстро глянул на бейджик с именем у меня на груди, и его взгляд переместился на сиськи Берри. Когда я сказал: «Добрый вечер, сэр», взгляд маленького похабника сделался озадаченным, и я знал, что он пытается вспомнить, служил ли я в армии. Мне надо было выдвигаться в приемник за час до полуночи, и я решил выпить столько шампанского, сколько успею. К моменту приезда Чака я был уже веселым и легким. Чак прибыл прямиком из южного крыла отделения № 6, он тоже был в рабочем халате, который (как всегда после общения с пациентами и их выделениями) был ужасающе грязен. Легго выдал Чаку: «Э, привет… – он судорожно шарил глазами в поисках бейджа с именем. – Чарльз. Ты с работы?» А Чак ответил: «Да нет, шеф, я всегда так одеваюсь, вы разве не знали?»
Вечеринка продолжалась. Жена Легго оказалась столь же сексапильна, как и катетер Фолея. Врачи разговаривали исключительно о медицине, а их дражайшие половины (в основном – женщины) – о том, как трудно им жить с врачами. А Чак, похоже, влюбился в ту же женщину, что и я. Мне казалось, что по мере того, как мы нагружались шампанским, выражение лица Берри становится все более холодным и недоверчивым. Она познакомилась с Легго и Рыбой, а минут через сорок, она подошла ко мне и сказала, что уходит. Я ни разу не видел ее такой злой! Мы с Чаком спросили, что случилось.
– Вы двое нажрались, – начала она, – и я могу понять, почему! Я бы тоже не просыхала, если бы мне пришлось и дальше иметь дело с этими мудаками. Это не перенос, это обсессивно-компульсивный невроз! Вы что-то пролили – а у них уже острая диарея! Неудивительно, что у врачей самый высокий уровень самоубийств, разводов, алкоголизма, наркомании и преждевременных смертей. Наверное, преждевременных эякуляций тоже. За два часа здесь меня никто ни разу не спросил обо мне. Как будто я просто приложение к тебе. Аппендикс!
«Приз!» – подумал я.
– Рой, я никогда не проводила время так ужасно! Знаешь, кто они все? Х…осы! До свидания.
Поцеловав нас обоих, она надела пальто и отчалила. Выпив столько шампанского, сколько смогли, мы с Чаком вернулись в Дом.
– Черт, твоя Берри – это что-то!
– Да, она прелесть. Эй, старик, старайся держаться на дороге, а? Ты знаешь, она за тебя беспокоится.
– Ну, старик, о чем же она беспокоится?
Я достаточно выпил, чтобы рассказать ему об этом. Я сказал, что Бери заметила, что он набрал вес и потерял форму. Что начал больше есть, что перестал заботиться о своем теле, что напивается все чаще…
– Без дураков! Слушай, я же был в отличной форме, и смотри, во что превратился! Печально, старик, печально!
– Она говорит, что это все гнев. Мы слишком озлоблены, и поэтому начинаем делать глупые и странные вещи! У тебя, говорит она, «все орально». Она боится, что ты станешь алкоголиком!
Он припарковался как алкаш: почти перпендикулярно белым линиям, обозначающим парковочные места. Мы вылезли и, не сговариваясь, дружно обоссали стоянку Дома. Два облачка пара, поднимавшихся от теплых струй, слегка примирили нас с жизнью.
– Значит, Берри немного за меня переживает, а? – спросил Чак.
– Угу. Более, чем немного. Я тоже за тебя переживаю.
– Что ж, Рой, открою тебе секрет, старик. Я тоже, я тоже.
Будильник звонил. Я вылез из-под теплых одеял, от теплой Берри, и застонал. У Потса умер отец – и тот отправился в Чарльстон на похороны. Глотай Мою Пыль работал за Потса в отделении, а я должен был прикрыть Глотай Мою Пыль в приемнике. Двадцатичетырехчасовая смена! Утро было настолько холодным и беспросветным, что, когда я сел в машину, меня била дрожь. Она била меня всю дорогу, пока я ехал в Дом и размышлял об Уэйне Потсе.
Самым странным в Потсе было то, что он не выглядел странными. Может быть, он стал чуть более тихим и замкнутым, чуть более отчужденным. Однажды ночью я наткнулся на него у поста медсестер: он сидел там, ошеломленный как ребенок на похоронах.
– О, привет, Рой, – сказал он. – Знаешь, я только что зашел проведать Желтого Человека, и я могу поклясться, что он посмотрел прямо на меня и узнал меня. Но стоило моргнуть – он уже лежал, как и прежде, в коме, и глаза его были закрыты.
Потсу было очень тяжело. Его жена ловила кайф, пробуя свои силы в хирургической интернатуре в ЛБЧ, и Потс в основном проводил время в одиночестве. Мы общались, и он нравился мне все больше. Он со своими южными корнями оказался созвучен мне с моей любовью к английским корням, к Оксфорду, безупречно ровные лужайки которого еще хранили воспоминания о клубнике и шампанском, подававшимся там в пятнадцатом веке. Мы стали друзьями и потому, что разделяли и презрение к лизоблюдам-карьеристам с Севера, и тягу к постоянству, незыблемости прошлого. Мы проводили время у него дома, слушая псалмы и соул. Любимой балладой Потса была песня «Миссисипи» Джона Харта, песня о смерти:
Когда закончу путь земной,
Отдайте морю мое тело,
Раздайте скопленное мной,
Хочу, чтоб мне русалка пела.
Однажды мы разговорились о том, как пришли в медицину.
– Да, я помню это лето на острове Пале, мне было около двенадцати. Мать только что выгнала отца, и тем летом мы с ней и братом поехали на побережье. Однажды я пролил себе на руку раскаленное масло и получил страшный ожог. Маме пришлось нестись со мной обратно в Чарльстон, к нашему семейному доку. Его офис представлял собой две большие комнаты: с панелями из красного дерева, с рамами с медными ручками, с аптекарскими комодами с ящичками, колбочками, коробочками и прочими чудесными штуками, понимаешь? Он наложил мне повязку и сказал: «Мальчик, ты любишь рыбачить, не так ли? Кого ты любишь ловить?» – «Окуня и пеламиду». – «Пеламида уже появилась?» – «Нет, сэр». – «Значит, ты должен поправиться к тому времени, когда она появится, верно?» Я стал приезжать к нему каждые несколько дней для смены повязки. Он использовал какую-то специальную мазь. И я помню, что через неделю или около того он сказал: «Ну вот! У меня закончилась мазь, и я позвонил в компанию в Нью-Джерси, которая ее производит, но мне сообщили, что какое-то федеральное бюро запретило использовать эту мазь для лечения людей, потому что она повредила каким-то белым мышам. На самом деле, мальчик мой, с этой мазью все в порядке. Я знаю это, поскольку пользуюсь ей уже двадцать лет. Что мне оставалось делать? Я пошел на ферму и купил немного мази из запаса, который хранился для лошадей. На них она работает, и я уверен, сработает и на тебе!» И, конечно же, он оказался прав, и все отлично зажило. И тем летом я ловил пеламиду, как он и обещал. Я начал приходить к нему, проводил там все больше времени, старался чем-нибудь помочь ему во время его визитов. Чего я только не повидал! Куда бы он ни пришел, перед ним открывались все двери. Однажды он провел целую ночь в негритянской хижине, принимая тяжелые роды – это были близнецы, а сразу же после этого отправился на вызов в богатый дом на побережье, и мыл там руки душистым мылом, и сидел на веранде, где запах морского бриза смешивался с ароматом бугенвиллий, растущих в саду. Я многое видел и многому научился, помогая ему. И я решил, что сделаю все на свете для того, чтобы стать таким, как он.
– Что с ним произошло?
– Он все еще работает. Ждет, пока я закончу здесь и смогу присоединиться к нему, а когда он уйдет на пенсию, я приму его практику. Возможно, уже в следующем году.
– Звучит заманчиво! Это то, чего бы ты сам хотел?
– О да, но, боюсь, что это лишь мечта.
– Почему «лишь мечта»?
– Это не та медицина, которой меня здесь учат, не так ли? Да я, принимая роды, головку от плечика не отличу[78]78
Проблема узкой специализации. Лишь в девяностых годах стала возрождаться специальность семейного доктора, который может и принять роды, и наложить швы и повязки, и полечить давление.
[Закрыть]. Кроме того, моя жена не бросит свою хирургическую программу в ЛБЧ. И она не хочет переезжать на Юг ни при каких условиях.
На вечеринке у Легго я по просьбе Берри показал ей Потса. Он оказался единственным, кто не надел бейджик с именем, и Берри спросила, почему.
– Он его потерял.
– И не получил новый?
– Нет.
– Звучит не очень здорово… Если это, конечно, не протест.
– Потс и протест? Не может быть!
– Кажется, он не очень следит за собой.
– Ты слишком все анализируешь, – сказал я, раздражаясь.
– Возможно, но я волнуюсь за него, Рой.
– Спасибо за экспертное заключение, но я не собираюсь терять из-за этого сон.
Я ошибался. Однажды ночью я лежал без сна, размышляя о Потсе. Я думал о его жизни, полной разочарований: его жена, его интернатура, его ускользающая мечта вернуться домой, в Чарльстон, и стать там врачом, его тоскующий пес. Я переживал за него. За несколько дней до этого мы с Потсом сидели у него и смотрели баскетбол. Рядом с его кроватью лежал револьвер сорок четвертого калибра, заряженный – и без кобуры.
Я припарковался у Дома и поспешил в приемник. По телефону я сказал Потсу, что сочувствую его утрате, но он ответил:
– Мне все равно. Он умер в канаве, после драки с другим алкоголиком. Я знал, что он так и кончит. Я чувствую облегчение.
– Облегчение?
– Да. Пойми, Рой, годами он приходил в мою комнату и пялился на меня, думая, что я сплю. И при малейшем проблеске света я мог видеть ствол револьвера, который он направлял на меня. Я еду на похороны, чтобы увидеть маму. Прости, что тебе приходится работать за меня. Я тебе отплачу, как только смогу.
В это ледяное, до костей пронизывающее холодом воскресенье, в самую середину «недели смерти» между Рождеством и Новым Годом я ожидал, что во время моего двадцатичетырехчасового дежурства я получу несколько серьезных травм – и кучу шлака, стремящегося попасть в тепло Дома. Я был слеп. Я не предвидел того, что будет в этот день, хотя мог бы. Почти две тысячи лет назад был распят Иисус; несколько сотен лет назад какой-то умник эпохи Возрождения придумал больницы; пятьдесят лет назад еврейский умник создал Божий дом; два месяца назад Бог воскресил зиму; пару дней назад какой-то умник на телевидении додумался прервать на середине трансляцию футбольного дерби, врубив вместо него повтор идиотского фильма, что привело к повышению давления у всех мужиков на континенте. А вчера произошло сразу два важных события. Во-первых, для «просвещения общественности» по телевизору показали шоу, посвященное симптомам инфаркта миокарда. Во-вторых, это произошло поздним субботним вечером в городе, задыхающемся от депрессии. Они собирались меня достать! Вопрос только, каким именно способом – и насколько сильно.
Уже в восемь утра предбанник был заполнен. В основном это были черные женщины. Безумный Эйб прыгал среди них, а, увидев меня, закричал: «ПРОБЛЕМА – ТВОЙ ОБРЕЗАННЫЙ…» На центральном посту происходило что-то странное. Рядом с Гатом, Элиху, Коэном и двумя полицейскими сидел побледневший Говард Гринспун с чашкой кофе. Такого за ним раньше не замечалось: его компьютерное исследование показало положительную корреляцию между количеством выпитого кофе и вероятностью рака мочевого пузыря. Говард рассказывал присутствующим о том, что с ним произошло:
– Я пошел в туалет на втором этаже где-то с час назад. Я сидел на толчке, и тут какой-то чувак открыл дверцу, наставил на меня обрез и потребовал деньги. Я дал ему три доллара, а потом я сделал очень большую глупость: отдал ему кольцо моего колледжа. Я так любил это кольцо! И он ведь даже не просил меня его снять! Зачем я это сделал?!
– Удивительно. – сказал Гилхейни. – Но хорошо, что кольцо ушло, а ты – остался. Наоборот было бы гораздо хуже.
Говард отчалил, но полицейские остались. Квик объяснил:
– В эту неделю смерти и нас тоже попросили отдежурить на боевом посту еще восемь часов, до четырех вечера. Тысяча шестьсот военного времени[79]79
В Вооруженных силах США используется особый 24-часовой формат обозначения времени, получивший название «военное время». Часы и минуты здесь не разделяются знаками, 16:00 пишется и читается как 1600.
[Закрыть], не так ли, бывший морской офицер доктор Гат?
– Так точно, матрос! – отвечал Гат. – Я надеюсь, сегодня мы получим реальных пациентов вместо всех этих зудящих влагалищ. Я чувствую себя настолько злым, что готов пойти с кнутом на медведя.
– Интересное заявление, не менее интересное, чем наша прошедшая ночь, – сказал Гилхейни, – Нас с Квиком вызвали на полицейской частоте в стрип-бар, где, вроде бы, стреляли. Мы прибыли, вошли, музыка прекратилась – и все присутствующие обернулись к нам. Все абсолютно благопристойно. Тишина. «Подозрительно тихо», – прошептал я Квику, глядя на бармена, неторопливо вытирающего пол и отрицающего факт любой стрельбы в этом заведении. Но тут Квик увидел подсказку.
– Жидкость, которую он вытирал с пола, была красной. Пиво не красное, в отличие от крови, – сказал Квик.
– Затем я заметил троих мужчин, сидящих слишком плотно друг к другу, и приказал им подвинуться. Они подчинились, и тут мужчина, сидящий посередине, свалился на пол мертвым. Мы были настолько удивлены, что воздержались от необходимости приставлять их к стене или одаривать их черепа ударами наших свинцовых дубинок, что в свою очередь спасло нас от многих недель общения с Коэном на вечную тему вины. Сейчас опасное время!
– Кровавое время, когда слова уступают место черным делам, – подхватил Квик.
– Мы все должны быть осторожны, – заключил рыжий. – Если повезет, мы увидим тебя в четыре дня в удовлетворительном состоянии. Удачи.
Они ушли, а меня захлестнули страх и отчаяние. Истории под моим именем уже лежали кучей. В основном это были встревоженные мужики, посмотревшие вчера вечером передачу «Как жить с инфарктом», и женщины с воскресной болью в животе. Взяв первую папку, я начал свой день, в голове звенели лишь два слова: «СОСТРАДАНИЕ» и «НЕНАВИСТЬ». Не было никаких «реальных случаев», не было ничего необычного – была лишь одна, как выражался Коэн, «проекция черной ярости в телесное эго». Проекции шли в основном в области живота и гениталий, так что я слушал жалобы на боль в животе снова и снова (пока у меня не скопилось несколько литров мочи на анализы), а также провел несколько вагинальных исследований, требующих тщательности, так как иногда среди всего этого мог оказаться реальный «приз».
С одной пациенткой случилась неприятная история. Я сделал полный осмотр и все анализы, но не смог ничего обнаружить – и отправился сообщить ей об этом. Она восприняла это известие спокойно и начала одеваться, но ее дружок был не готов отступить просто так, и он заявил:
– Постой-ка, ты же ничего для нее не сделал! Ни черта!
– Я не нашел ничего, что требует лечения.
– Послушай, поц, моя женщина страдает от боли, действительно страдает! И я требую, чтобы ты прописал ей хоть что-нибудь.
– Я не знаю, что с ней и почему она испытывает эти симптомы, но не хочу ничего ей прописывать. Потому что, если ей станет хуже, я хочу об этом знать, а обезболивающие маскируют симптомы.
– Черт тебя подери, смотри, она страдает! Ты пропишешь ей обезболивающее сейчас же!
Я сказал, что не сделаю этого. Я вернулся на пост медсестер, чтобы заполнить историю болезни. Он последовал за мной, несмотря на то, что его подруге было неловко из-за его поведения и она уже стояла у выхода, желая уйти. Но он уходить не собирался. И начал кричать, рисуясь перед толпой посетителей, скопившихся в приемнике: «Будьте вы прокляты! Я знал, что нам никто здесь не поможет! Вы просто хотите, чтобы она страдала, потому что вам это нравится! Вам, ублюдкам, на нас насрать, вы только и думаете о том, чтобы мы убрались отсюда к чертовой матери!»
Я закипал гневом и чувствовал, как горячая кровь приливает к лицу и шее. Я хотел избить его – или же сделать так, чтобы он избил меня. Он не мог знать, что я так же, как и он, чувствовал себя жертвой, чувствовал, что не могу защитить свою женщину, чувствовал ту же ненависть к болезни, ту же неудовлетворенность жизнью. Кажется, я даже был готов разделить его паранойю. Но я не мог ему об этом сказать, да он бы и не услышал. Нас обуревала ненависть, такая же сильная, как та, что всаживала пули в Кеннеди и Кинга. Я сжал зубы и выдавил: «Я уже сказал все, что мог сказать. На этом все». Медсестры вызвали охранников с фальшивыми значками Военной академии, они обступили его и стояли вокруг, пока женщина не утащила его на улицу. Я сел, продолжая дрожать. Я был абсолютно выжат. Из-за дрожи в руках я не мог даже писать. Я не мог пошевелиться.
– Ты белый, как полотно, – сказал Коэн. – Этот парень тебя серьезно завел.
– Я не представляю, как вынести еще двадцать три часа всего этого!
– Секрет – в отстраненности. Убери из того, что ты делаешь, всю эмоциональную составляющую. Это как надеть космический шлем и перейти в режим автопилота. Твои эмоции закрыты, тебя как бы и нет. Выживание!
– Да, хотелось бы, чтобы у меня был космический шлем.
– Это не настоящий космический шлем! Отстранение – твой внутренний шлем. Любая работа требует отстраненности. Знаешь, почему?
– Почему?
– Потому что все работы страшно скучные. Не считая, конечно, этой! Просто попробуй.
Я напялил свой воображаемый космический шлем, перешел в режим автопилота и начал отчаянно отстраняться. Я разобрался с галлонами мочи для анализов и погрузился в непрерывный поток насмерть перепуганных мужчин от шестнадцати до восьмидесяти шести лет, посмотревших вчерашнее телешоу и обнаруживших у себя «боль в груди». Передача достигла своих основных целей: сбить американского мужчину с толку и полностью разрушить его представления об анатомии человека. Боль в груди оказывалась болью в животе, в спине, руках и ногах, паху, один раз – даже реальной болью в большом пальце ноги (вызванной подагрой) – чем угодно, но только не болью в груди. Раз за разом делая абсолютно нормальные ЭКГ, я чувствовал глубокую ненависть к идее «просвещения общественности» на темы болезней. Какой-то телевизионный проповедник попытался нажиться на сердечных приступах, а терны по всей стране получили по полной! Единственный реальный инфаркт в этот день я увидел у мужика моего возраста. Мертвого по прибытию. Моего возраста! И вот он, а вот я, провожу оставшиеся мне предынфарктные годы, пытаясь убить в себе эмоции, чтобы выжить!
Полдень, небольшое затишье. В космическом шлеме отстраненности дышать было немного легче, и я уже думал, что сдюжу. Внезапно двери распахнулись, и мы с Гатом и Элиху оказались внутри какого-то сюрреалистически замедленного временного потока, когда все чувства обостряются до предела в преддверии реальной катастрофы. Вой сирен, носилки, которые несли Квик и несколько священников, на носилках – Гилхейни, белый, как полотно, вся правая сторона туловища залита кровью. Мы сорвались с места и через долю секунды оказались в травме. Гилхейни был жив. В состоянии шока. Пока медсестра разрезала на нем одежду, а мы ставили центральные вены, одновременно пытаясь оценить состояние жизненно важных органов – сердца, легких, мозга, потрясенный Квик рассказал, что произошло:
– Ограбление в кафе-мороженом. Мы погнались за грабителем, а тот развернулся и выстрелил в Финтона из обреза!
– Офицер Квик, – сказал Гат, – вам лучше выйти из комнаты.
Меня захлестнул адреналин, и я пытался делать все одновременно. Сосредоточившись на Гилхейни, я тем не менее был поражен тем, что в воскресный полдень самого холодного дня в году какой-то ублюдок решил даже не просто ограбить кафе-мороженое, но использовать для этого обрез. Сколько налички могло быть в кафе-мороженом в этот вымораживающий воскресный день? Глядя на кровавое месиво, в которое превратился правый бок полицейского, я мечтал, чтобы грабитель оказался здесь, и я мог бы избить его до полусмерти.
Гилхейни повезло. Возможно, его нога утратит подвижность, но, скорее всего, он выживет. Гат, потрясенный, как и все мы, пытался храбриться и шутить и сказал: «ОПЕРАЦИИ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ, и одна из них достанется тебе, рыжий». Пока для Гилхейни готовили операционную, я оставался с ним, проверяя и перепроверяя все, что можно, – и надеясь, что ничего плохого не произойдет. Вернулся Квик, которого по-прежнему била дрожь. Вместе с ним появились священник и самый большой полицейский чин, которого я когда-либо видел: с четырьмя звездочками, с нашивками на воротничке, с огромным золотым значком, седыми волосами и очками в тонкой оправе.
– Доброго утра, храбрый сержант Финтон Гилхейни!
– Это комиссар?
– И никто иной. Молодой доктор поведал нам, что после хирургического вмешательства, произведенного посредством скальпеля, ты будешь жить.
Ага, значит эта своеобразная манера речи идет у них с самого верха! Мне стало интересно, сколько лет комиссар проработал в Божьем доме.
– Доктор Баш, как я понимаю, сейчас нужды в последнем причастии нет? – уточнил Гилхейни. – Не мог бы ты отпустить священника? Он пугает меня мыслью о том, насколько близок я был к небесам или же другому, гораздо более горячему местечку.
– Что мы должны сообщить этой маленькой женщине, твоей жене? – спросил комиссар, после ухода священника.
– Ах, да! Пожалуйста, не надо ей звонить! Видите ли, я твердо обещал, что в подобной ситуации пришлю кого-нибудь с сообщением. А если вы ей позвоните, она решит, что я мертв. А поскольку при наличии дочери-эпилептички она и так постоянно находится на грани нервного срыва, это может иметь трагические последствия. Пошлите кого-нибудь ко мне домой, если возможно, сэр.
– Я лично туда отправлюсь. Кстати, грабителя поймали. Да, – комиссар хрустнул костяшками пальцев, – и после должного заполнения протокола мы собираемся устроить ему небольшое дознание в частном порядке, если вы понимаете, о чем я. Длинное и чрезвычайно тщательное дознание, поскольку ты очень дорог нам. Я и сам приму участие в допросе. Ну, всего наилучшего, парень, а я отправляюсь к твоей жене, успокаивать ее своей презентабельной мужественной внешностью полицейского из телевизора. До свидания и вам, молодые образованные доктора, спасшие эту прекрасную рыжую жизнь. Шалом и благослови вас Бог!
Дикость, какая же это все-таки дикость! Гилхейни отвезли на операцию, а Квик остался с нами, потерянный и опустошенный. Эйб, который видел все происходившее, окончательно рехнулся. Несмотря на усилия Коэна, он безостановочно вопил: «Я УБЬЮ ИХ Я УБЬЮ ИХ Я УБЬЮ ИХ», и в итоге его пришлось связать и, накачав нейролептиками, отправить в государственную психушку.
Наступила ночь. Гилхейни выжил. Квик отправился домой. Эйба увезли. Я держался из последних сил и около двух ночи, перед тем, как провалиться в тяжелый сон, вдруг подумал, что этот момент был бы идеальным для бегства к смерти. Но через час меня разбудили живым. Я пытался сосредоточиться на истории болезни: женщина, двадцать три года, замужем, основная жалоба: «изнасиловали по дороге домой». Нет! Как это может быть?! На улице минус тридцать! Я пошел осматривать ее. В одиннадцать вечера она возвращалась домой от друзей, неизвестный мужчина выскочил из темного переулка, приставил пистолет к ее лбу и изнасиловал ее. Она была шокирована, ничего не соображала и боялась идти домой к мужу. Несколько часов она просидела в закусочной, а потом пришла в Дом.
– Вы уже позвонили мужу?
– Нет… Я не могу. Слишком стыдно! – сказала она, впервые взглянув на меня, и ее глаза, которые вначале были сухи и непроницаемы, как стена, к моему огромному облегчению стали влажными, и она закричала, зарыдала. Я взял ее за руки и позволил выплакаться, и плакал вместе с ней. Когда она немного успокоилась, я спросил номер ее домашнего телефона и, назначив все необходимое при изнасиловании, позвонил ее мужу. Он был вне себя от волнения и счастлив, что она жива. Он еще не знал, что сегодня что-то в ней умерло.
Вскоре он приехал. Я сидел на посту медсестер, когда он зашел к ней и оставался там до тех пор, пока она пришла в себя до такой степени, чтобы поехать домой. Она поблагодарила меня, и я смотрел, как они удаляются от меня, уходя по коридору с кафельными стенами. Он попытался обнять ее, но она оттолкнула его, и в этом жесте было все ее отвращение ко всем мужчинам мира. Они вышли в дикий мир за стенами Божьего дома по отдельности. Отвращение. Ненависть. Это были мои чувства, протестуя, в ярости, я отталкивал руку, так как рука не могла исцелить или оживить ту часть меня, которая уже умерла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.