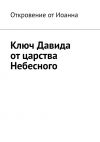Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
– Черт, – повторил Чак, – Коротышка! Тебя теперь ничем не проймешь.
– Точно! Я жду не дождусь, когда смогу сказать этой фригидной суке Джун, что между нами все кончено. Ха! Это вам не поэзия! А знаете, что я сделаю потом?
Мы не знали.
– Потом я попробую, каковы эти рыжие волосы на вкус, и мне кажется, что это будет вкус клубники. Рой, я просто хочу сказать тебе спасибо! Спасибо, что взял моих пациентов прошлой ночью, и что выпнул меня из Дома, и что отправил в постель к Энджел.
Это стало началом нашего сближения с Коротышкой. Оно шло так же, как и его роман с Энджел: шаг за шагом, взрыв за взрывом. Поначалу, раз из раза выслушивая подробности интимной жизни Коротышки, мы с Чаком тушевались – но все же не настолько, чтобы перестать слушать. А со временем мы поняли, что просто Коротышка сейчас проходит ту стадию сексуального развития, которую мы миновали лет десять назад. К тому же он оказался отличным рассказчиком. Мы же в свою очередь учили его быть врачом – и чувство товарищества и взаимопомощи стало основой нашей работы в Божьем доме.
Вскоре после первой починки коротышкиного автомобиля Чак начал проявлять свое истинное величие. Первый раз – с Лазарусом. Пытаясь как-то облегчить Коротышке жизнь, мы решили забрать у него Лазаруса, кинули монетку – и пациент достался Чаку. На следующий день во время обхода мы остановились возле палаты, которую Лазарус занимал с июля. Из нее доносились крики свежепоступившего гомера.
– Что случилось с мистером Лазарусом? – спросила Джо.
– Умер, – ответил Чак.
– Умер?! Как?
– Не знаю, подруга, не знаю. Просто умер.
– Мы с Потсом, а потом и с Коротышкой тащили его три месяца, а когда он оказался в твоем списке, то умер в первую же ночь? Что произошло?
– Хотел бы я знать.
– Ты получил разрешение на вскрытие?
– Не-а.
– Почему нет?
– Кто знает, подруга, кто знает.
В тот же день Чак настоял, чтобы мы отправились посмотреть пациентку, прославившую его на весь Дом.
– Вот в чем самый прикол, – рассказывал Чак, – меня вызывают в приемник и показывают эту слониху. Ее уже осмотрели Говард, Бешеный Пес и Путцель. Она лежала там, практически задыхаясь, и они никак не могли понять, почему. Я осмотрел ее и спросил себя: «Не дышит, да? А загляни-ка ей в рот. Черт, а что это за зеленая штука у нее здесь?» И я надел четыре или около того пары перчаток, залез ей в рот – и вот что нашел!
Он достал контейнер для препаратов, в котором лежал здоровенный кусок брокколи.
– Брокколи! – закричал Леви (которого теперь уже звали просто Синяк). Это был один из немногих его правильных ответов.
– И ничего более, – подтвердил Чак. – Говард, Бешеный Пес, Путцель – никто из этих уродов даже не удосужился заглянуть старушке в рот!
– Леди Брокколи! Ты ее спас!
– Без дураков. Пойдем посмотрим на нее.
Леди Брокколи была огромна, гомероподобна и неприятно пахла. Она была неподвижна (периодические конвульсивные подергивания не в счет), все еще не очень хорошо дышала, и казалось, что поживает она так себе.
– Выглядит неплохо, а? – сказал Чак.
– Настоящее спасение жизни, – сказал Коротышка.
– Что ты для нее делаешь? – спросила Джо.
– Что делаю? Ну, я посадил ее на диету с низким содержанием брокколи. А что еще нужно?
С этого момента на Чака стали смотреть уже не как на тупого чернокожего, принятого по квоте, но как на разумного терна.
По мере того, как мы с Чаком и с Коротышкой набирались опыта, мы стали осознавать важную вещь: никто не захочет по доброй воле делать то, что приходится делать интернам, а значит, мы являемся незаменимыми[43]43
Это на самом деле так. Теоретически интерна в любое время можно заменить выпускником иностранного медицинского института, академические медицинские центры стараются брать только выпускников вузов США, а это можно сделать только в июле.
[Закрыть]. Дом нуждался в нас для того, чтобы лечить гомеров и умирающих молодых. На самом деле, конечно, мы были нужны Дому для того, чтобы ничего не делать для гомеров – и беспомощно заботиться об умирающих молодых, вылечить которых мы все равно не могли. Осень расцветала, становилось очевидным, что и Никсон, и Агню будут принесены в жертву, а мы тем временем продолжали изо всех сил скрывать наше бездействие от этой хищницы Джо. Обходы превратились в фарсы, в ярмарку двуличия, во время которой мы пытались вспомнить назначенные больным иллюзорные тесты и их фальсифицированные результаты, потребовавшие лечения несуществующих осложнений – и воображаемые результаты этого лечения. И все это – в то время, когда мы, как проклятые, пытались найти варианты для размещения гомеров. Это требовало чудовищного напряжения, и иногда мы прокалывались. Однажды Джо пропесочила меня за то, что я не измерил температуру Анны О. в четыре часа ночи, в то время, когда у нее была воображаемая лихорадка, и тогда я сорвался и выдал ЗАКОН БОЖЬЕГО ДОМА НОМЕР ДЕСЯТЬ: «ЕСЛИ НЕ ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ – НЕ НАДО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ ЛИХОРАДКУ», после чего пошел перечислять прочие вещи, которые нужно не делать для того, чтобы не обнаружилось то, что придется лечить, заменяя температуру и лихорадку на ЭКГ и аритмию, рентген легких и пневмонию и так далее, – до тех пор, пока Чак и Коротышка не схватили меня и не оттащили от Джо.
Чтобы снять напряжение, мы с Чаком стали проводить все больше времени на сестринском посту – задрав ноги, попивая имбирное пиво и ничего не делая. Коротышка стал напрягаться меньше – но пока еще не расслабился до такой степени, чтобы присоединяться к нам. В отличие от Таула, его студента. Наполнив стакан напитком, он что-то прорычал и присел рядом.
– Таул, а что там с Энид? Она все еще не получила клизму для подготовки к обследованию кишечника, – спросил Коротышка.
– Рррррмммммм ррррмммммм, я знаю. И что?
– И что же мне делать? Я должен как то привести ее в норму, но что я не делаю, толку – ноль. Она набирает вес даже если не ест вообще ничего, и она не ходила по большому уже недели три. Ее дочь говорит, что у нее не было спонтанной дефекации лет восемь. Потрясающе! Она превращает воду в дерьмо.
– Рррррмммммм ррррмммммм, я знаю. Зачем ты вообще назначил полное обследование ЖКТ?
– Потому что ее послали сюда за этим.
– Да, но скажи, мы действительно будем его делать или будем только делать вид, что делаем? С тех пор, как я доверил Энид тебе, с ней проблем не оберешься.
Смущенный Коротышка признался, что частник Энид, Путцель, требует полного обследования – и Коротышка пытается это осуществить.
– Рррррмммммм ррррмммммм, тогда дай ей молока с патокой. Через рот и через задницу, одновременно.
– Молоко с патокой?
– Именно. Молоко с патокой. Она взорвется.
И конечно, Рыба заявился как раз во время наших посиделок. Не глядя нам в глаза, он спросил: «Как дела?» – а потом, не дождавшись ответа, сказал:
– Вы же знаете, что это выглядит непрофессионально, не так ли?
– Ладно, ладно, – ответил Чак, снимая ноги со стола и ставя их на пол. А я, чтобы позлить Рыбу, закурил.
– Джо сказала, что ты опаздываешь!
– Да, – отвечал Чак. – Понимаешь, проблема в моей машине. Все время ломается – и мне каждый раз приходится идти к механику.
– О, тогда понятно. У тебя хороший механик? Если хочешь, поговори с моим. Почини эту чертову штуку, чтобы она тебя больше не заботила. Да, и еще! Ты ужасно безграмотно пишешь. Давай посмотрим несколько твоих анамнезов вместе, хорошо?
– Ладно, ладно.
– Но все-таки я до сих пор не понимаю, – вмешался я. – Я пью, потому что писаю, или писаю, потому что пью?
– Прекрати пить и посмотри, что получится.
– Я пробовал. Через какое-то время хочется пить.
– Возможно, у тебя болезнь Аддисона[44]44
Надпочечниковая недостаточность.
[Закрыть], – сказал Рыба, и его внимание сместилось на мою сигарету: – Не понимаю, как ты можешь продолжать курить, зная о раке легких все, что ты знаешь! Ты что, не затягиваешься?
Я действительно не затягивался и поэтому ответил:
– Затягиваюсь.
– И зачем ты это делаешь?
– Это приятно.
– Если все будут делать то, что им приятно, что будет со всеми нами?
– Будет приятно!
– Ты слишком расслаблен, – сказал Рыба. – Я не понимаю, как тебе удается настолько хорошо работать и при этом оставаться таким расслабленным. Наслаждайся сигаретой, доктор Баш, это отнимет еще три минуты вашей жизни.
Тут появился Малыш Отто, пошел к доске, чтобы написать распоряжения, увидел свежую надпись «ЛИД», выругался так, что на него обернулось все отделение и, не найдя губки, плюнул на доску и, ворча, стер надпись рукавом халата.
– А вот это меня как раз возмущает, – заявил я Рыбе. – Этот чертов «ЛИД» появляется возле моего имени по всему Дому. Твоя охрана ни черта не сделала. Неужели ты не можешь с этим покончить?
– Я пытался, – ответил Рыба, – но ничего не вышло. Все равно, скорее всего, это просто розыгрыш.
– Я слышал, что нет. Говорят, что награда лучшему интерну Дома – бесплатная поездка в Атлантик-Сити, на съезд Американской медицинской ассоциации. В июне. С тобой и Легго.
– Не слышал об этом, – отрезал Рыба, начиная отчаливать.
– Черт! – воскликнул Чак. – Старик, ты только посмотри на это!
Рыба, Таул, Малыш Отто и я посмотрели. «Это» было надписью, каким-то образом вновь появившейся под моим именем и раскрашенной во все цвета радуги:
*РОЙ Г. БАШ*
*ЛИД*
Через несколько дней Легго и Рыба устроили в местной забегаловке фуршет, чтобы объявить на нем об учреждении награды, получившей потом неофициальное название «Черный ворон». Это был первый с начала интернатуры случай, когда все терны собрались вместе. Мы приветствовали друг друга тепло – и с облегчением, все самое страшное было уже позади. Большинство интернов уже были достаточно опытны для того, чтобы меньше думать о спасении пациентов и больше – о спасении самих себя. И хотя кое-кто проповедовал не самые традиционные способы спасения себя, все пока держались в рамках разумного, не переходя за грань.
Оглядываясь по сторонам и слыша болтовню, шутки и смех, порой переходящий в хохот, я осознал, насколько мы изменились. Мы повзрослели, мы стали заботиться друг о друге. Мы выработали свой кодекс чести, помогали друг другу с работой – и при этом не выносили друг другу мозг, терпели заскоки друг друга, выслушивали жалобы друг друга. Мы жили странной неестественной жизнью, наши души были скомканы – но мы разделяли друг с другом что-то огромное, великое и убийственное. Я почти плакал, ощущая все это. Мы становились врачами.
Эдди Глотай Мою Пыль, изрядно потрепанный работой в отделении смерти, БИТе, и ужасно выглядящий, рассказывал о своем последнем дежурстве:
– Я принимал шестую остановку сердца, и в это время позвонили из приемника. Хупер, это был ты? Сказали, что у них мужик с остановкой, и, если он выживет, они отправят его ко мне. Так вот, я встал на колени и взмолился: «Господи, пожалуйста, убей его». Я стоял на коленях, серьезно, на коленях.
– Он умер, – добавил Хупер. – Резидентом была Джо, она рвалась продолжать закрытый массаж сердца, но я сказал, что по моим подсчетам он уже минут десять как мертв, – и ушел.
– Хупер, ты великий человек, – сказал Эдди ГМП. – Я хочу тебя расцеловать.
– Поцелуй меня, если можешь, поцелуй меня, если хочешь, но я знаю, что если бы такая развалина появилась в приемнике у нас в Саусалито, то его впустили бы только после того, как он подписал разрешение на собственную аутопсию.
– Мне кажется, или это уже перебор? – хмыкнул Говард.
– Если у тебя случится остановка сердца – держись подальше от Саусалито!
Потс пришел с опозданием, взял малюсенький сэндвич и присел в углу – и тогда я вспомнил, что Желтому Человеку еще только предстояло умереть. Он висел над Потсом проклятием, он был неразрывно с ним связан, и как только мы видели Потса – мы видели Желтого Человека. Потс становился все более замкнутым, он никогда не присоединялся к нам на спортплощадке. Он стал похож на дерево с обломанными ветвями. Никто не упоминал Желтого Человека при нем, как и при Коротышке. Но даже если Коротышка и заразился – он-то перед смертью еще успеет проделать с Энджел множество грязных штучек… Я поинтересовался у Потса, как он поживает.
– Не знаю. Нормально, кажется. Отису нравится осень, листья. Я все думаю, что я не очень хороший интерн, понимаешь?
– Вы все отлично работаете, – заявил Легго, встав перед нами, – но ваша группа пока еще не получила достаточного количества разрешений на аутопсию, а тем временем важность этого процесса сложно переоценить. Почему аутопсия – это сердце, нет, скорее даже мозг медицины? Великий Вирхов, отец патологии, провел двадцать пять тысяч вскрытий собственноручно. Это очень важно для понимания болезни. Например, этот чех… Фишберг, как его там называли?
– Не называли, а называют, сэр, Желтый Человек, сэр.
– Да, например, Желтый Человек…
Легго продолжил, объясняя на примере Желтого Человека то, как важно нам будет произвести его вскрытие, когда он умрет, – и каждое его слово разрывало беднягу Потса на части.
– Когда я был интерном, – гордо сообщил Легго, – мы добивались разрешения на проведение аутопсии у семидесяти пяти процентов умерших. Конечно, в то время мы сами производили вскрытие, но вы знаете, никто из нас не возражал. Потому что мы знали, что двигаем медицину вперед.
Легго заявил, что сейчас терны слишком редко получают разрешение на вскрытие. И сказал, что понимает, «как трудно подходить к родственникам с этим вопросом в час нужды», и поэтому решил исправить эту ситуацию, дав нам стимул, награду.
– Награда достанется интерну, который получит больше всего разрешений на аутопсию за год. Призом будет бесплатная поездка в Атлантик-Сити вместе со мной и доктором Фишбергом в июне на съезд Американской медицинской ассоциации.
Повисла гробовая тишина. Никто не знал, что на это сказать, – до тех пор, пока пыхтящий трубкой Говард, усмехнувшись, не заметил:
– Отличная идея, шеф, но, может быть, наградой должна быть поездка на съезд патологоанатомов?
– Разве это может быть критерием? – спросил я, надеясь, что Легго пошутил. – Я хочу сказать, ведь тогда получится, что мы работаем ради смерти? Потому что в выигрыше окажется интерн, у которого чаще всего умирают пациенты. И что же? Нам прекращать лечение, лечить неправильно или вообще убивать пациентов ради победы?
– Точно! – сказал ГМП. – Почему бы вместо этого сразу не устроить соревнование по смертности?
Но Рыба с Легго не засмеялись, и когда обсуждение закончилось, никто так и не понял, шутили они или нет.
– Конечно все всерьез, – ликовал Гипер-Хупер. – Награда будет, и выиграю ее я! «Черный Ворон»! Атлантик-Сити, жди меня! Соленые волны океана, девочки на набережной… – Он ухмыльнулся и запел: «На наааабережнооой у моооря…»
Итак (если они все-таки не шутили) – «Черный ворон». Награда начала свое существование и была как минимум столь же реальной, как и «Лучший интерн Дома». Гипер-Хупер с его стояком на смерть был в восторге, а те, кто до сих пор не привык к смертям, прониклись еще большим отвращением к аутопсии. Мы чувствовали, что игра снова идет против живущих, и должны были прилагать еще больше усилий для защиты этих несчастных, ничего не подозревающих пациентов, доверчиво приходящих в Божий дом за помощью – и не ведающих о награде за их смерть и последующее вскрытие, не знающих о «Черном вороне».
Гипер-Хупер не терял времени даром. Уже на следующий день, диктуя выписку, я услышал из-за стенки его бодрый голос:
– Пациентка поступила с жалобами на цистит…
Я продолжал диктовать, но через несколько секунд отвлекся.
– …температура поднялась до 43 градусов по Цельсию, и резистентный штамм синегнойной палочки был культивирован из спинномозговой жидкости…
Спинномозговой жидкости?! Он же начал с цистита!
– …когда интерна вызвали для осмотра пациентки, он нашел ее в бессознательном состоянии. Три часа спустя она умерла. Разрешение на аутопсию, УРА, было получено! Продиктовано доктором Х. Хупером.
Когда он уходил, я остановил его и спросил, что произошло.
– Да обычный Город смерти. Зато я получил аутопсию! «Черный ворон», Атлантик-Сити, жди меня и все такое!
– Но она же поступила практически здоровой!
– Да, а потом сыграла в ящик, а я получил вскрытие. «Черный ворон» мой! Пока.
– Эта награда – глупая шутка! Это не может быть всерьез.
– Никакая не шутка. Вскрытие – это цветок, нет, не просто цветок, это огромная благоухающая красная роза медицины. Легго нужно больше вскрытий, чтобы лучше выглядеть.
– Перед кем?
– Какая разница? С этим жутким родимым пятном ему сгодится любой отвлекающий маневр. Все, я пошел. Мы с этой женщиной опять пытаемся вытащить наш брак из могилы и идем в эвкалиптовые бани. Чао!
И вот первый претендент на «Черного ворона» устремился вниз по лестнице, прочь из Божьего дома. Блеск, который я увидел в его глазах, был хорошо мне знаком. Именно так блестели глаза у Толстяка, когда он видел еду или говорил о своем изобретении; так блестели глаза у Коротышки, когда он в подробностях рассказывал нам с Чаком о Крутых Бедрах; так блестели глаза у Чака, когда он уделывал Эрни на баскетбольной площадке – или когда он видел Хэйзел… и так они блестели у меня, когда я вспоминал о Молли.
Думая о Молли, я вспоминал ее наклоны и изгибы, ее пленительные трусики и то, как она плакала, когда боялась, что скоро умрет, и показывала мне свою родинку. Думая о Молли, я чувствовал, что что-то шевелится у меня в штанах, и мне казалось, что я молодею, и мои глаза блестели. И я вспоминал о своем первом разе – об этом сладком и мучительном хаосе застежек, крючочков, молний; о так некстати вернувшихся родителях; о диванах и о передних сиденьях и задних сидениях, о кинозалах, о траве, песке, камнях и всем без разбору, исключая разве что кровати. Я думал о Молли: юной, веселой и невинной.
Юной и невинной?! Откуда я мог знать тогда, была она невинной на самом деле, или это было лишь плодом моего разыгравшегося воображения? Я постоянно чувствовал вину за то, что пытаюсь ее соблазнить – и постоянно пытался все-таки сделать это. Во время работы я то и дело прикасался к ней, клал руку на плечико или на бедро, а она норовила как бы невзначай коснуться грудью моей руки и оставляла расстегнутыми верхние пуговицы на блузке. В дополнение к наклонам она то и дело демонстрировала еще один трюк из своего репертуара, Толстяк называл его «экспресс-стриптизом»: в то мгновенье, когда она, сев, закидывала ногу на ногу, перед моими глазами вспыхивал этот фантастический вожделенный треугольник светлых волос, над которым, как парус под мягким и светлым ветром, трепетало французское белье. И хотя с медицинской точки зрения я знал о тайных женских органах все, и мне приходилось осматривать и ощупывать их у больных, но здесь все было совсем другое, здоровое и прекрасное, молодое и свежее, мягкое и светловолосое, влажное, пушистое, резко пахнущее, манящее, недоступное, воображаемое…
И вот, наконец, она предложила мне присоединиться к ней и еще нескольким медсестрам на вечеринке в баре, где играли рок-музыку, сотрясающую слуховые косточки тех, кому, как и мне, было за тридцать (но тем, кто был моложе, хотелось еще более мощных басов), и там она научила меня танцевать под такую музыку, какой я никогда раньше не слышал, а потом мы пошли в ее квартиру, которую она делила с тощей, как зубочистка, медсестрой по имени Нэнси, и Молли спросила, был ли я в ее доме когда-нибудь раньше. Я солгал, сказав, что нет; она стала показывать мне квартиру, а когда мы наткнулись на переодевающуюся Нэнси, Молли сказала, что просто хотела показать мне это место. Но Нэнси вспомнила, что я уже был в этом месте прежде, и сказала об этом. Молли посмотрела мне прямо в глаза, я сглотнул и признался. Тогда она сказала: «Что ж, пойдем, я покажу тебе свою спальню».
Восторг, восторг! Она показала мне свою спальню маленькой девочки – с милыми безделушками и пушистыми плюшевыми игрушками, показала живого пушистого котенка и свои маски для Хэллоуина, и храмовые колокольчики из Китая, и свой туалетный столик с подсветкой «как у артистов», и свои чулочки, и лифчики, и подвязки; а потом в романтическом порыве (хоть я и боялся оказаться слишком старым для такого) мы свалились в постель, где я возился с крючочками и застежками, не обращая внимания на ее протесты, и мои губы касались ее длинных сосков, а моя рука – ее пушистой штучки, и мы продолжали нашу как-бы-борьбу, и она оказалась сверху, а потом, после нескольких «НЕТ» она вдруг сказала «ОП-ЛЯ!» – и я оказался в ней. И тут она показала мне фокус. И заключался он в том, что трахалась она как не невинная малютка, а как византийская куртизанка с умасленной кожей, благоухающая мирром.
– Теперь ты знаешь мою слабость, – сказала Молли на следующий день, стоя у поста медсестер и держа наконечник клизмы как пистолет.
– Это какую? – спросил я.
– Я совершенно ненасытная!
– И какая же это слабость?
– Такая.
– Нет, но если ты можешь это контролировать…
– Как это, контролировать слабость?
– Ты же не думаешь, что у меня такая же слабость?
– Это другое, ты – мужчина.
– Ты тут случайно не стала шовинисткой за мой счет?
– Нет.
– Тогда это такая же слабость для меня, как и для тебя. Ты просто должна научиться контролю.
– Да, – сказала она таким тоном, что было непонятно, не означает ли это «нет». – Я постараюсь.
И только намного позже – когда уже не оставалось сомнений в том, что мы оба любим секс – и в каком-то смысле друг друга, когда наши стоны и крики перекочевали из спальни маленькой девочки в дежурку (если мне удавалось избавиться от Синяка), а потом в туалеты – быстро, за пару минут, сидя на унитазе, а по ночам – даже в темные уголки палат, где под звуки знаменитого биг-бэнда Великих Гомеров мы достигали оргазма быстрее, чем больничная охрана настигала нас, – только тогда Молли сказала, что ей плевать, есть ли у меня другая женщина, и плевать на мои постоянные отношения, поскольку ей уже хватило и серьезных отношений, и высоких чувств, и монашек с их духовными истязаниями, и теперь она за секс без обязательств. И, конечно же, это показалось мне прекрасным, может быть, даже слишком прекрасным для того, чтобы быть правдой. Но иногда, оставаясь с моей постоянной женщиной – Берри, я задумывался, слышит ли кто-то другой эти наши стоны и крики, видна ли кому-то еще наша радуга оргазмов.
Скорее всего, Берри подозревала, что что-то происходит. Она комментировала изменения в моем настроении, мою агрессивность и подозрительность, а также обвинения в том, что она во время моих дежурств должно быть встречается с другими. Она должна была догадаться, что моя ревность порождается чувством вины, а ярость – ревностью к тому, что происходило и с Берри, и с Молли в те часы, когда я не был с ними. Наши отношения стали натянутыми, хотя поначалу я не испытывал никакого эмоционального напряжения. Я проводил время как во сне, занимаясь любовью с двумя женщинами в один и тот же день, а когда мое тело ныло от усталости – наслаждался тем, что могу точно определить, с какой из них я перетрудил каждую отдельную мышцу. Но проблема заключалась в том, что нужно было скрывать Молли от Берри. На какие ухищрения приходилось идти, когда Молли начала приходить ко мне домой! Ее волосы на подушке, ее пот на простынях, шпилька на комоде, забытая в ванной сережка, запах ее духов на моей одежде… Я стал тратить кучу времени на стирку и вздрагивал от телефонных звонков. Но я все равно не мог рассказать о ней Берри. Мне было слишком стыдно. И мне было что терять.
Мы с Берри уже задумывались о том, чтобы начать жить вместе. Но обнаружив, что дежурства в Доме превращают меня в рычащего зверя, подумали, что сделать это сейчас – не лучшая мысль. Еще мы решили не видеться на следующий день после дежурства: в такое время мы ссорились, не переставая. Поэтому мы могли быть друг с другом только через две ночи на третью – в ту ночь, когда я (предположительно) не был измотан Божьим домом. Число наших встреч уменьшилось; при этом я постоянно думал о Молли – и от этих мыслей сводило живот и щекотало яички. Берри была клиническим психологом и жила разумом в то время, как я сейчас мог думать только о теле. Мы начали отдаляться друг от друга. Казалось, что даже ее кот начал меня ненавидеть.
Мы очень старались получать удовольствие от этой осени. Мы вместе отправились на футбольный матч, но вместо радостного сопереживания (которое я испытывал во время матчей в колледже) я чувствовал лишь усталость, и этот серый, промозглый, холодный день наполнил нас обоих страхом перед наступающей зимой. Продрогшие, уставшие, мы поплелись обратно – почти не разговаривая, царапая друг друга острыми краями нашей любви. У Берри начинался грипп, ее лихорадило, и она устроилась в постели в обнимку с котом. Они свернулись в уютный пушистый комок, и Берри задремала. Кот урчал, прикрыв глаза. Она посапывала. Я смотрел на нее – и чувствовал себя влюбленным и больше всего на свете хотел защитить ее и от гриппа, и от всего мира, и от моей ярости и моего чувства вины. Меня переполняли радость и нежность. Но на смену радости от того, что было с нами – и еще могло бы быть в будущем, пришла моя печаль о том, что с нами происходит в настоящем. Какое же я дерьмо!
Она проснулась. Мы начали разговаривать. Мы говорили о гомерах и о том, как меня бесили Джо, Рыба и Легго, – и о том, что Берри просто не понимает этого.
– Знаешь, в чем твоя беда? – спросила она.
– В чем?
– У тебя нет примера для подражания.
– А как же Толстяк?
– Он псих.
– Он не псих, – сказал я, закипая. – К тому же есть еще и Чак, и Коротышка, и Хупер, и Глотай Мою Пыль. И Потс.
– Да, конечно, товарищеский дух – это сила. И вы правы, войны нужны лишь для того, чтобы у мужчин была возможность героически умереть на поле боя вместе со своими приятелями. Но знаешь, мне кажется, что у вас происходит тотальная институционализация[45]45
Тотальная институция (тотальный институт) – место пребывания большого количества людей, оказавшихся на долгое время отрезанными от внешнего мира и совместно ведущих затворническую жизнь, формы которой ярко тщательно регламентированы. Термин введен американским социологом Ирвингом Гофманом. К тотальными институциям относят в том числе дома престарелых и психиатрические больницы.
[Закрыть] интернатуры, строго по Гофману.
– Что ты имеешь в виду? – спросил я, изо всех сил стараясь не показать, как меня раздражают ее снобистские теории по поводу моей боли.
Она повторила, но, заметив, что я не понимаю, сказала:
– Забудь.
– Забыть?!
– Потому что тебе плевать. Черт тебя дери, Рой, ты стал таким твердолобым. Ты не думаешь ни о чем, кроме своей интернатуры.
Заваленный ее словами, я чувствовал себя Ральфом Крамденом[46]46
Персонаж шоу «Молодожены».
[Закрыть] из телевизора.
– Я вообще не хочу думать, потому что, если я начинаю думать – сразу вспоминаю ужасные вещи, которые я делаю, и мне хочется покончить с собой. Поняла?!
– Думаешь, честный рассказ о своих чувствах повредит тебе?
– Да.
– Это наваждение.
– Что?
– Наваждение. Тебе нужна профессиональная помощь. Психотерапия.
Мы ссорились. Наверное, она понимала, что мы ссоримся из-за мучительно умирающего доктора Сандерса, из-за иллюзий, которыми сыпал мой отец в письмах, из-за моих примеров для подражания, из-за мыслей о том, что гомеры для нас – не пациенты, а противники. Но больше всего мы ссорились из-за того самого чувства вины по поводу Молли. Молли, которая стояла передо мной в темном углу палаты, Молли, которая, как и я, не задумывалась ни о чем – ведь если бы она стала думать обо всех этих клизмах, суднах и подмываниях, даже ее ненасытность не смогла бы удержать ее от самоубийства. Наши с Берри ссоры не были той страстной, яростной, воющей и лающей борьбой, которая позволяет сохранить в живых остатки любви, это была усталые, холодные, безучастные стычки, когда боишься нанести удар, поскольку знаешь, что он может убить. С тоской я думал: «И это все? Четыре месяца интернатуры – и я превратился в животное с мозгами из войлока, которое не хочет и не может ни думать, ни говорить. И я обращаюсь как животное с ней, моей любовью, с моим другом, с моей Берри, превращая то, что было между нами, в ОНК – в отношения на костях.
8
– Толстяк? – мой голос сорвался от изумления.
– В шоу «Сегодня»![47]47
Today (The Today Show) – двухчасовое ежедневное утреннее телешоу на канале NBC, в то время – одна из самых рейтинговых передач в США. Барбара Уолтерс – одна из ведущих.
[Закрыть] – заявил Коротышка, выпучив глаза.
– «Сегодня»?!! – заорал я.
– Толстяк! – сказал Коротышка.
Мой разум отказывался это принять.
– Ты это видел?
– Нет, – сказал Коротышка, – но кое-кто видел. Толстяк был там под псевдонимом «Доктор Юнг», и Барбара Уолтерс задавала ему вопросы о какой-то сумасшедшей штуковине…
– Анальное зеркало. Я знаю о нем все!
– А еще говорят, что Барбара все это время хихикала. Слушай, Рой, а знаешь, что она творит своим ртом?
– Барбара Уолтерс?
– Да нет же, Энджел. Она делает губами вот так и обхватывает мой…
– Позже! – сказал я. – Сначала я должен увидеть Толстяка.
Я знал, что найду его за едой, так как было время обеда. И хоть Толстяка и отослали в больницу Святого Где-Нибудь, он заключил с Грэйси, медсестрой из службы питания и диетологии, какую-то особую сделку (он всегда, везде и со всеми заключал особые сделки) – и в итоге питался в Божьем доме бесплатно. С благоговением я сел рядом с этим Гаргантюа от медицины.
– Какая восхитительная сплетня, – сказал Толстяк, захохотав. – Хотел бы я, чтобы это было правдой. Я, знаешь, иногда мечтаю о том, как Кронкайт в вечерних новостях CBS берет у меня интервью[48]48
Уолтер Лиланд Кронкайт, известный также как «дядя Уолтер» – тележурналист и телеведущий, бессменный ведущий вечернего выпуска новостей CBS. В 1970-е годы по результатам опросов являлся человеком, которому американцы доверяли больше всего.
[Закрыть].
– Почему Кронкайт? – ошеломленно спросил я, представив в красках, как патриарх телевидения, Уолтер Кронкайт, вместо новостей об ожидаемой войне или очередных мерзостях Никсона обрушивает на головы миллионов американских телезрителей «Анальное зеркало доктора Юнга».
– По слухам, у него анальные трещины. Я же говорю, большинство проблем сосредоточены в анусе! И я продолжаю думать, что если у меня получится грамотно ко всему этому подойти, возможность увидеть отражение этих болезней сделает меня богачом. Только подумай: если бы анальное зеркало существовало, и Никсон им пользовался, он мог бы ежедневно видеть отражение того, чем на самом деле является! Слушай, это просто бизнес. Я должен разбогатеть, пока бесплатное здравоохранение меня не добило. Это как то, о чем говорил Исаак Зингер…
– Зингер – писатель?
– Нет, Зингер – швейная машинка[49]49
Исаак Меррит Зингер (1811–1875) – американский изобретатель и промышленник, усовершенствовал конструкцию швейной машины и основал компанию «Зингер». Исаак Зингер (1902–1991) – американский еврейский писатель, писал на идиш, жил и работал в Нью-Йорке. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1978 год.
[Закрыть]. Он говорил так: «Мне плевать на изобретения, я хочу разбогатеть». Кстати, послушай, Баш, эта идея с лаэтрилом той ночью – это просто бомба. Там куча денег!
– Лаэтрил? Это же афера! Бесполезное лекарство. Плацебо.
– И что плохого в плацебо? Ты что, не знаешь об эффекте плацебо?
– Конечно знаю.
– Ну вот. Плацебо может облегчить боль при стенокардии. Если ты сгораешь от рака, плацебо тоже неплохой вариант. Как диспареуния[50]50
Болевые ощущения в области половых органов, возникающие во время полового акта.
[Закрыть].
– В смысле? – спросил я, стараясь не рассмеяться.
– Знаешь, как говорят? Лучше совокупляться болезненно, чем не совокупляться совсем. Представь, мы могли бы получать лаэтрил из мексиканских абрикосовых косточек, обменивая анальные зеркала на абрикосы.
– Ты собираешься всучить «Анальное зеркало доктора Юнга» мексиканцам?
– Нет, не «доктора Юнга». Там это будет называться «Анальное зеркало доктора Кортеса». И почему нет? Мексика – страна диареи! Ты знаешь, как мексиканец определяет, что голоден?
– Как?
– У него прекращается жжение в заднице. Но в Мексике надо быть осторожным. А то могут засудить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.