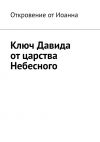Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Главная сложность состояла в необходимости отделить больных от симулянтов и ипохондриков. Предбанник был набит одинокими, голодными, несчастными людьми, которым хотелось провести эту по-зимнему холодную ночь в теплом месте, где их обеспечили бы чистым постельным бельем, неплохой горячей едой, вниманием и заботой со стороны медсестер с круглыми аппетитными попками, а также настоящего доктора. Вывести их на чистую воду и СПИХНУТЬ обратно на улицу было нелегкой задачей. Многие из них обладали многолетним опытом проникновения в Божий дом и разработали весьма изощренные способы проникновения в отделение. Я не проработал здесь и шести месяцев – а некоторые из них изучали местные порядки десятки лет. Порой все, что им было нужно, – это обмануть одного терна (возможно, много лет назад) и получить запись в истории болезни. И эту запись уже нельзя было не принимать в расчет, иначе Дому грозили бы судебные разбирательства. Пользуясь знаниями, почерпнутыми из медицинских книжек из местной библиотеки, эти пациенты виртуозно ПОЛИРОВАЛИ свои собственные истории и знали о своих воображаемых болезнях больше, чем я. Любой симптом задокументированного заболевания мог проявиться в любой момент – и страдалец радостно отправлялся в гостеприимные объятия Божьего дома.
Я пытался не дать этой лавине опытных пациентов поглотить меня и вдруг, ПОЛИРУЯ гомера, почувствовал, что кто-то трогает меня за щиколотку. Я обернулся, посмотрел вниз и увидел Чака и Коротышку. Они стояли на коленях на кафельном полу и смотрели на меня так, будто были щенками кокер-спаниеля, оказавшимися в собачьем приюте. Позади них стоял Толстяк.
– Погодите, не говорите ничего, – сказал я. – Дайте мне самому угадать, чего вы хотите.
Но они все равно сказали. Прямо так, не вставая с колен.
– Знаешь, почему мы на коленях, старик? – спросил Чак.
– Потому что последние три месяца, – продолжил Коротышка, – терном в приемнике был Говард. А поскольку он постоянно боялся что-то пропустить, он никого не отправлял домой и посылал всех наверх, в отделения. Он – РЕШЕТО.
– РЕШЕТО?
– Именно, – сказал Толстяк. – Решето, в котором ничего не задерживается. В больнице Святого Где-Нибудь минимум половина из тех, кого Говард засунул в больницу, была бы СПИХНУТА еще регистраторшей. Или им самим стало бы неловко идти в отделения. У нью-йоркцев есть своя гордость, особенно когда дело доходит до распада личности. Говард пропускал по шесть новых поступлений в день на каждого терна. Ты только посмотри на них! Эти несчастные стоят перед тобой на коленях. Они были твоими друзьями, ты помнишь?
– Они ими и остались. Что я должен сделать?
– Старик, – сказал Чак, – будь СТЕНОЙ. Не давай просочиться через себя всем подряд.
– Однажды в Нью-Йорке, – рассказал Толстяк, – мы решили проверить, сколько времени мы сможем продержаться, не принимая новых терапевтических пациентов. Тридцать семь часов, Рой, тридцать семь! Ты не представляешь, что мы СПИХИВАЛИ на улицу. Будь СТЕНОЙ.
– Вы можете на меня рассчитывать, – сказал я, и они ушли.
Вечером я сидел на центральном посту, пытался прийти в себя и размышлял о концепции СТЕНЫ и РЕШЕТА.
– Остановка сердца! Он в машине!
Кричала женщина, стоявшая перед автоматическими дверями предбанника. Первой моей мыслью было, что она сумасшедшая, второй: «А что остановка сердца делает в обычной машине, а не в скорой?», потом я подумал, что она, может быть, просто развлекается, ну и наконец, я запаниковал. Я не успел сдвинуться с места, а Гат и медсестры уже бежали к машине, толкая реанимационную тележку со всем необходимым. Пока я вставал с места, они уже ударили парня в грудину, интубировали, приступили к закрытому массажу, а Гат начал ставить центральную вену – и при этом они что есть духу катили пациента в самую большую комнату приемника. Стараясь унять дрожь, я последовал ЗАКОНУ «ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПРОВЕРЬ СОБСТВЕННЫЙ ПУЛЬС». Это помогло, и я вошел в комнату. Пациент был моложавым, с голубовато-серой, как у мертвеца, кожей. Гат занимался центральной веной, Дини пыталась измерить давление, Флэш качал кислородный мешок, а Сильвия закрепляла электроды электрокардиографа. А потом кардиограмма привела меня в чувство. Я взглянул на лист розоватой бумаги с черными линиями и… больной перестал быть человеком, который был всего лет на пять старше меня и который вдруг собрался умереть, – он стал «пациентом с инфарктом передней стенки левого желудочка, осложненным желудочковой тахикардией, нарушившим коронарное кровообращение и приведшим к острой сердечной недостаточности». Он превратился в комплекс алгоритмов – и при правильном лечении мог поправиться! Я оценил его ритм, вспомнил правило «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО УЛУЧШАЕТ ЖИЗНЬ» и сказал: «Дефибрилляция, быстро!» – и мы это сделали. Его сердечный ритм вернулся к нормальному, синюшные губы порозовели, сознание вернулось, а потом за ним пришел резидент из БИТа. СПИХ был завершен. Я снова сел, и меня бросило в дрожь.
– Неплохо для первого раза, – сказала Дини, подводя итог.
– Я запаниковал, – признался я. – Не понимаю, почему. Это не первая моя остановка.
– В отделениях все по-другому. Там у тебя есть информация о пациенте, и ты уже знаешь, чего от него ожидать. Все, что у тебя есть в приемнике, – тело, которое появляется в дверях. Все новое, неизведанное. Вот почему мне это нравится.
– Тебе нравится?
– Это особый кайф: сталкиваться в этих дверях с самыми разными случаями и быть в состоянии с ними разобраться. Ты бы пошел, объяснил все его жене. Насколько же легче, когда они выживают!
Жена сидела в коридоре. Покрытый кровью и рвотой, я вышел из комнаты, куда недавно ввезли ее умирающего мужа. У нее был абсолютно несчастный, умоляющий взгляд, и она пыталась угадать по моему виду, что же я скажу. Жив он или мертв? Я сказал ей, что он жив и отправлен в интенсивную терапию, и она начала всхлипывать. Она обнимала меня и рыдала, благодаря за спасение мужа. Стоя в ее объятиях, я посмотрел на Эйба, который прекратил раскачиваться и смотрел на нас острым пронзительным взглядом. Я вернулся в приемник, думая о том, что когда-нибудь мне придется говорить: «Он умер». Я не стал ей сообщать, что еще пять минут – и мне пришлось бы ей сказать именно это. Это было то самое место, куда приезжает скорая.
Все было неплохо. Я продолжал разбираться с новыми (и не слишком больными) пациентами, стараясь быть СТЕНОЙ. Ближе к вечеру Гат присел рядом и сказал:
– Эй, парень, у меня для тебя сюрприз. Протяни руку, закрой глаза и попробуй угадать, что это такое.
Я почувствовал в ладони что-то тонкое, мокрое и гладкое, и удивленно спросил:
– Тонкая сосиска?
– Неа. Приз.
Я открыл глаза. Конечно же, это был аппендикс. Гат сказал:
– Он готов был лопнуть. ОПЕРАЦИИ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ, а? Ты помог мне, а я помогу тебе. Только свистни.
Это было чем-то новеньким. Наслаждаться работой в Божьем доме? С нетерпением смотреть на тех, кто заходит в дверь? Спасти жизнь? Даже две жизни? Я почувствовал гордость. Вместо лечения безнадежно больных, безнадежно умирающих, безнадежно старых и никому не нужных – настоящее врачевание и борьба с реальной болезнью. Ближе к полуночи, ожидая своего сменщика – Глотай Мою Пыль, – я сидел на сестринском посту и болтал с двумя полицейскими, зашедшими пропустить по чашечке кофе перед тем, как начать борьбу со всеми ужасами этой ночи.
– На тебя кого-то стошнило, – заметил Гилхейни.
– Крещение огнем, – добавил Квик, – надеюсь, ты не в обиде за римско-католическую метафору.
Ночная сестра подошла ко мне с последней на сегодня просьбой. В дверях стояла взволнованная пара: им сообщили, что их дочь привезли сюда с передозировкой.
– Но сегодня не было ни одной передозировки!
– Я знаю, уже проверила. Но все же подойди, поговори с ними.
Я подошел. Евреи, преуспевающие, он – инженер, она – домохозяйка, они очень волновались за свою дочь, студентку местного женского колледжа. Я сказал, что сейчас позвоню в ЛБЧ – Лучшую больницу человечества – и проверю, не поступала ли она туда. Я позвонил, там проверили и ответили, что поступала. Мертва по прибытии.
Полицейские смотрели на меня. У меня перехватило дыхание. Я вернулся к обеспокоенным родителям и сказал:
– Ее отвезли в ЛБЧ. Вам стоит поехать туда прямо сейчас.
– Слава Богу, – сказала женщина. – Шелдон, поехали скорее.
– Ладно. Спасибо, док. Может, когда она улучшится, они переведут ее сюда, в Дом? Это же наша больница, понимаете?
– Да, – ответил я, не в силах сказать им правду, – конечно, переведут.
Я вернулся и сел, сгорая от чувства вины за собственную трусость, и меня накрыло воспоминаниями о людях, которых я знал живыми и которые потом умерли по тем или иным причинам.
– Трудно быть честным со смертью, – сказал Гилхейни.
– Приходится быть тверже, чем самый твердый локоть гомера, – добавил Квик.
– Но эта твердость порождает в нас человечность, – продолжил рыжий коп, – и возвышает душу, дает нам то, что заставляет нас плакать на свадьбах, или при рождении ребенка, или тогда, когда первая горсть земли ударяет в крышку гроба. Это то, что делает нас людьми. Все-таки приемное отделение не самое скверное место в мире, а?
– Совсем не скверное, – закончил Квик.
Глотай Мою Пыль вошел в отделение под приветственное «Добро пожаловать!» полицейских, я пожелал им всем спокойной ночи и отправился к парковке. Когда я проходил через предбанник, Безумный Эйб, раскачиваясь, пронзил меня своим электрическим взглядом.
– Ты еврей? – спросил он.
– Да.
– Пока что молодец. Шел дождь. Будь осторожнее, дорога скользкая. Спокойной ночи.
Он был прав во всем: по поводу моей работы, еврейства, дождя, скользкой дороги. И как я мог сейчас не быть счастливым? Я чувствовал себя человеком. Впервые я провел в Божьем доме шестнадцать часов как человек.
10
Две одинаковых черных взмыленных лошади выбирались из заболоченной шахты, вновь и вновь проваливаясь в жидкую черную грязь, но все еще пытаясь нащупать твердую почву. Я прыгнул в болото, пытаясь помочь им, и когда мы барахтались там, толкаясь, шмат черной, вонючей, мокрой грязи вылетел из-под копыт и, мерзко шмякнув, прилип к моей голой шее. С отвращением я дернулся, чтобы стереть эту гадость.
– АААЙ!! Рой, ты попал мне в глаз! Я хотела разбудить тебя поцелуем.
Берри. Я ударил ее в глаз. Где же мы? В ее машине, в городке, где я родился. Что происходит? Я пробормотал:
– Прости, мне очень жаль! Снилась всякая ерунда, не понял, что это ты.
– Мы почти на месте. Я ехала по твоим указаниям, сколько могла, но теперь ты должен показать мне, как добраться до твоего дома. Смотри как красиво! Здесь уже пошел снег! Первый снегопад в этом году. Как здорово!
Это на самом деле было красиво. Черные ветви деревьев под белым покрывалом снега на фоне серых ноябрьских облаков. День благодарения. Так вот что происходит! Несмотря на то, что наши отношения на костях становились все напряженнее, мы с Берри собирались провести День благодарения с моей семьей. Утром, после окончания моей ночной смены, она подобрала меня у Дома, и мы отправились на север, в Сибирь штата Нью-Йорк. В тундру. Мой город – город китобоев и баров, город шлюх – миновал пик своего развития еще до Американской революции[69]69
Происходила в 1765–1783 гг.
[Закрыть] и теперь существовал только благодаря двум цементным заводам, усыпавшим все вокруг цементной пылью. А рабочие этих заводов поддерживали жизнь баров, шлюх, церквей, оленей, лосей и прочих примет человеческого существования.
– Твой городок очаровательно старомоден, – сказала Берри.
– Да уж, покупка презервативов здесь всегда представляла сложность.
– Что заставило твоего отца переехать сюда из Нью-Йорка?
Я вспомнил рассказы отца о том, как сложно было «пробиться» дантисту в послевоенные годы и как они с матерью жили в крохотной квартирке и спали на раздвижной кровати, которую днем превращали в диван. И рассказы матери о том, как после первого дня работы в своем собственном кабинете в этом маленьком городе отец принес домой 85 долларов наличными и радовался так, как ребенок радуется новой игрушке. А еще я вспомнил, как он любил гольф.
– Гольф, деньги и страх, – сказал я.
– Страх?
– Да, страх стать никем в Городе.
Мы ехали по главной улице города. Здесь в последние годы построили множество новых домов – будто специально для того, чтобы осквернить память о моей юности, чтобы я не мог узнавать места, где впервые напился, или впервые целовался, или впервые был избит итальянскими парнями, которым не понравилось, что я гулял с их сестрой (хотя сестра была совсем не против нашей прогулки). Но вот наконец я увидел усыпанный снегом старый дом с ободранной штукатуркой и табличку у окна второго этажа: «ДАНТИСТ».
Вывеска моего отца. Она висит здесь уже двадцать семь лет. Он мечтал стать врачом, но квота на евреев в медицинских институтах Нью-Йорка тридцатых годов растоптала его мечту. Его поколение строило Божьи дома только для того, чтобы получить возможность лечить. При виде этой вывески мне стало грустно, и на глаза навернулись слезы. Насколько же проще было сочувствовать им на расстоянии, когда я не был с ними, не видел его, напевающего «Этой сказочной ночью…» и нервно жестикулирующего, его, чью мечту осуществлял сейчас я.
Но когда мы зашли в дом, от слез не осталось и следа. Я приехал с Берри – и это возродило их надежды на то, что я наконец-то женюсь. У моей матери была репутация великой разрушительницы отношений, последний раз она отличилась несколько лет назад, и тоже в День благодарения. Тогда она сказала ухажеру моей засидевшейся в девках кузины: «Пришло время разделывать индюшку, Роджер», увела его на кухню, проторчала там с ним около часа – и после этого Роджера уже никто и никогда не видел. Но я был совершенно вымотан и, отмахнувшись от всех вопросов, сбежал в свою комнату – и моментально провалился в мир, полный ярких сновидений. Когда я очнулся от тяжелого дневного сна (когда просыпаешься на мокрой, тобой же обслюнявленной подушке), уже настало время обеда, но во время него мой разум все еще оставался притупленным. Последние ночи я провел в приемнике, среди бурлящего моря пациентов, мне не удавалось даже перевести дух. И я очень устал. Мама была очень недовольна тем, что я сразу же сбежал спать, и она попыталась устроить скандал, но присутствие Берри заставило ее сдерживаться – и высота ее криков не вышла за пределы диапазона меццо-сопрано.
После обеда обстановка значительно улучшилась. Факт, что на аудиозаписях из Белого дома оказались «потеряны» восемнадцать с половиной минут, стал достоянием общественности, и какое же удовольствие это всем нам доставило! Четыре поколения семьи Башей испытали невероятный душевный подъем от новостей о «гибкости Розмари»[70]70
Речь идет о ключевой для следствия аудиозаписи, на которой был записан телефонный разговор Никсона с руководителем его аппарата Ричардом Холдеманом, на которой было стерто 18,5 минут записи. Секретарь президента, Розмари Вудс, взяла вину за уничтожение записи на себя, утверждая, что сделала это по неосторожности. Когда она попыталась продемонстрировать комиссии, как именно это произошло, это вызвало массу скептицизма, поскольку нажатие на педаль требовало изрядных акробатических способностей и немалой гибкости.
[Закрыть]. При виде Розмари, нелепо растянувшейся между телефоном и звукозаписывающим устройством (и будто бы ожидающей, что Никсон сейчас ее трахнет), мы смеялись и аплодировали, чувствуя, что Никсону пришел конец. Как это хорошо! Хорошо для нас. Хорошо для Америки. Самая маленькая представительница Башей, четырехлетняя дочка моего брата, веселилась со своим игрушечным телефоном, пародируя позу из телевизора, и кричала: «ГИКАСТЬ РОМАРИ! ГИКАСТЬ РОМАРИ». Моего брата, ненавидевшего Никсона сильнее, чем все мы, а также отца особенно заинтересовали технические аспекты стирания записей, и они обсуждали экспертное заключение с неоспоримыми доказательствами того, что на пленке было «от четырех до девяти последовательных стираний вручную», и это не могло быть случайностью. А мой дед, единственный оставшийся в живых представитель своего поколения, мудро улыбаясь, сказал лишь одну фразу: «Увидеть такое после всех этих лет – невыразимое счастье».
Когда в разговоре возникла пауза, дед поднялся и сказал: «Ну а теперь, доктор Баш, мне нужен бесплатный совет. Пойдем». Мы отправились в мою комнату, сели, и он сказал: «На самом деле я не собираюсь просить бесплатных советов». Он придвинул свой стул ближе ко мне и склонился ко мне – так, как часто делают старики. Я вспомнил его, теперь уже покойную, жену, которая всегда держалась позади его, была за его плечом, как эхо.
– Ты знаешь, – сказал он, – ты старший из моих внуков, и я до сих пор помню день, когда ты родился. Я тогда был в Саратоге. Я занимал пост президента ассоциации итало-американских торговцев Манхэттена, и у нас там был съезд.
– Еврей – президент ассоциации итало-американских торговцев?
– Ха! Там все были евреями. Ты – умный парень, так вот, ответь, стал бы ты покупать у итальяшек? Всё, даже спагетти, покупали у нас. После идиша и польского я выучил итальянский, и только потом английский. Итало-американский бакалейный магазин Баша – это был я. Я получал «черные метки» от мафии и профсоюзов. Баши начали заниматься торговлей еще в Коломые, в Польше. Мой отец заработал свое состояние во время русско-японской войны: он скупал кожи, все спрашивали, на что они ему, а он отвечал: «Пригодится!» Ну вот настал момент, и правительству позарез понадобились эти кожи!
– Для чего?
– Для солдатских сапог. Чтобы воевать в Японии. Слушай, мое сердце в порядке. Суставы немного шалят. Но если у меня есть что-то плохое, я хочу это знать, ведь сейчас многое можно вылечить. Я знаю одного итальяшку с Девятой авеню, хороший парень. Ох, как они его искромсали! Шрамы и здесь, и здесь, и здесь. Но зато он до сих пор бегает как новенький. А как с другими? Стоит немножко постареть, и что они тебе говорят? Всем не до тебя, все слишком заняты, а потом – бах! – и смерть. Я буду драться за свою жизнь как бешеный. – Он остановился на секунду и придвинулся ко мне еще ближе. – Эта твоя девочка, она ведь хорошая девочка?
– Да.
– Так чего же ты ждешь. У тебя ведь нет другой?
Я решил, что тему «других» развивать не стоит.
– Так зачем тянуть? Будь мужиком! Я никогда не ждал. Да, конечно, тогда не принято было ждать, но ты знаешь, твоя бабушка не хотела выходить за меня, вообще не хотела. И знаешь, что я сделал? Я приставил пистолет к ее виску и сказал: «Выходи за меня или я тебя убью!» Что скажешь?
Мы похихикали, но затем он погрустнел и сказал:
– Поверь, за все годы с ней я ни разу не пошел к другой женщине. А какие у меня были возможности! В той же Саратоге. Огромные возможности!
Я начал стыдиться своей интрижки с Молли.
– Ты умный парень. Ты видишь людей из богаделен в своей больнице, правда? Вам же их привозят?
– Да, дедушка, конечно.
– Я никогда не хотел уезжать из моего дома. У меня там был мой клуб, были друзья. Но когда бабушка умерла, твой отец настоял, чтобы я переехал в этот дом для престарелых. Представляешь, такой, как я, – и в этом доме! Конечно, там есть свои плюсы, есть с кем сыграть в покер, синагога прямо на месте, это неплохо, но…
– Зато там безопасно, – добавил я, припоминая, как его однажды ограбили.
– Безопасно? И что мне с этой безопасности? Нет, это меня не заботит. Никогда не заботило. А вот шум! Самолеты из аэропорта Кеннеди летают прямо над нами, представляешь? И там они обращаются с тобой, как с собакой! Я прожил такую жизнь, а теперь это? И каждый день кто-то умирает! Это невыносимо, невыносимо…
Он заплакал. Меня затопило отчаянием.
– Мне там плохо. Кто меня там навещает? Поговори со своим отцом! Скажи ему, что я не хочу гнить там, как животное. Тебя он послушает. Я так любил наш старый дом! Я же не ребенок, я мог жить там и сам по себе. Ты помнишь наш дом?
– Конечно, дедушка, – сказал я, возвращаясь мыслями к плюшевым красным диванам в темном вестибюле дома и старому скрипучему лифту с металлическими решетками, вспоминая детский восторг, который я испытывал, пока бежал по длинному, страстно пахнущему коридору, ведущему к распахнутой двери спальни дедушки и бабушки, которые уже стояли на пороге, готовые принять меня в объятья. – Конечно же, помню!
– А твой отец заставил меня выехать! Поговори с ним, у меня еще есть время уехать из этой богадельни! На, это тебе, мой первый взнос в твою будущую практику.
Я взял протянутые десять долларов, а после того, как он встал и вышел, – остался сидеть. Я знал, что это было ужасно. Мой отец, поставленный перед проблемой заботы об одиноком престарелом родителе, нашел стандартное и приемлемое в рамках этики среднего класса решение: «Отправь его в дом для гомеров». Как скот в вагоне. Я был взбешен. Когда это произошло, я спросил отца, почему он так решил, и он мне ответил: «Так ему будет лучше. Он не может жить один. А это отличный дом престарелых. Мы его осмотрели, там есть чем заняться, и там о них хорошо заботятся». Дед прошел в жизни через многое, и у него так мало осталось! Он превратится в гомера, и я лучше его самого знал, как закончится его путь. Жуткая мысль пришла мне в голову: «Когда он начнет впадать в маразм, я навещу его в богадельне, и вместо гостинца принесу шприц с цианидом. Нет, он не должен превратиться в гомера!»
Я вернулся к остальным. Все шло прекрасно, всем было весело. Матушка, чувствуя мое двойственное отношение к разговорам о медицине, углубилась в дебри семейной истории:
– Ты всегда всем недоволен, Рой. Ты напоминаешь мне моего двоюродного деда Талера, брата отца моего отца. Вся их семья занималась торговлей в России. Постоянная работа: они продавали одежду, продукты, кажется, у них даже было разрешение на продажу алкоголя в деревне. Но мой двоюродный дед, видишь ли, захотел стать скульптором. Скульптором?! Неслыханно! Над ним все смеялись и советовали ему стать таким, как все. И однажды, темной безлунной ночью, он пробрался в конюшню, украл там лучшую лошадь и исчез. Больше его никогда не видели.
Всего несколько часов спустя Берри уже высаживала меня у входа в приемник Дома. Я прошел через предбанник, поздоровался с Эйбом и чувствовал благодарность судьбе за то, что в День благодарения, проведенный у родителей, я смог поспать.
Полицейские сидели на центральном посту, будто бы ожидая моего прихода, и Гилхейни поприветствовал меня, протрубив:
– С праздником, доктор Рой, и я надеюсь, что ты чудесно провел время в объятиях семьи и этой красотки в красном «вольво»!
Я понял, что, увидев их здесь, испытал облегчение. И спросил, как провели День благодарения они.
– Красный – хороший цвет, – сказал рыжий. – Бессознательные процессы, если верить Фрейду и резиденту Коэну, протекают непрерывно: и на работе, и дома, и пока мы развлекаемся, и красный цвет клюквенного соуса в День благотворения ублажает наши органы чувств, служа продолжением крови, пролившейся здесь во время ваших еженощных дежурств.
– Коэн разговаривает с вами о теории бессознательного? – удивился я.
– Как обнаружил Фрейд и объяснил Коэн, – ответил Квик, – свободные ассоциации освобождают нас, раскрывая темную сторону процесса свободного ассоциирования, погружая внутреннего ребенка во тьму и помогая раскрыться взрослому. Ты видишь эту дубинку со свинцовым набалдашником?
Я видел.
– Если треснуть ей по локтю – это будет самый надежный, беспроигрышный удар, да примут это к сведению те, кто сочиняет телевизионные триллеры, – сказал Квик. – А если треснуть по локтю, используя детское бессознательное, то это позволяет не отягощать себя чувством вины.
– Он должен благодарить Коэна, – заметил Гилхейни, – за то, что тот научил его технике свободных ассоциаций.
– Коэна и Фрейда, этого гения еврейской расы. Мы надеемся и на тебя, Рой, так как пока ты идешь так, как и подобает человеку с твоим послужным списком: безупречно.
– Человек с бесподобным резюме, – продолжал Гилхейни, – гуманист и атлет. Насколько я помню, когда Родс в 1903 году оставил все свои деньги на стипендии, его завещание гласило: «Выбирать лучших для улучшения мира».
Нас перебил вопль, донесшийся из «Гранатовой палаты»:
– УХАДИ УХАДИ УХАДИ!
Мое хорошее настроение улетучилось. Гомересса в кабинете № 116. Сейчас даже минимальная ее ПОЛИРОВКА перед СПИХОМ наверх, в отделение, казалось пыткой.
– Не отчаивайся, – сказал Гилхейни, – один из воров был спасен. Не обольщайся, один из воров был проклят.
– Блаженный Августин, конечно же, – добавил Квик.
– Где, черт возьми, вы всего этого набрались? – выпалил я, не задумавшись, а потом покраснел, осознав, что это прозвучало как намек на то, что я воспринимал их как простых тупых ирландских копов.
– Нашим источником был один потрясающий маленький еврей с пылающим сердцем. Гениальный, как Герцль[71]71
Теодор Герцль – еврейский общественный и политический деятель, основатель политического сионизма и провозвестник еврейского государства.
[Закрыть], – ответил Гилхейни, не обратив внимания на мою грубость.
– Его имя огнем выжжено в наших сердцах и на стенах комнаты № 116, названной в его честь.
– «Гранатовая палата Даблера?», – догадался я.
– Идеальный интерн. Даблер знал все основополагающие принципы основы и все хитрые трюки, и это делало его поистине волшебником от медицины. Несомненно, Даблер был лучшим в Божьем доме за последние двадцать лет.
– Что ж, я бы хотел узнать о нем побольше, но сейчас я должен заняться этой гомерессой, – сказал я, поднимая свой саквояж, хотя на самом деле мне очень хотелось остаться и послушать о гениальном и эксцентричном Даблере.
– Не нужно, парень, – сказал Гилхейни, взяв меня под руку, – не нужно. Мы все ее знаем. Ина Губер, архетип, и мы уже ОТПОЛИРОВАЛИ все, что могли. Сейчас с ней твой приятель – Чак.
– Вы что, ее лечили? – обалдел я.
– Ее бесполезно лечить. Все, что ей нужно, – это новая койка в богадельне взамен проданной. Тебе не нужно ее осматривать, она уже буквально на полпути в отделение.
Они были правы. Чак вышел из кабинета № 116, поставил саквояж на стол и сказал:
– Привет, Рой, как у тебя дела? Отличная пациентка, а?
– Да вроде неплохо. Как там дела у Ины?
– Все путем. Она подумала, что я Джексон, черный терн, закончивший в том году. Но это не все! В амбулатории она видела Лероя и теперь думает, что я – это еще и он.
– Лерой – это еще один чернокожий терн? – спросил Квик.
– Без дураков. Мы все ее лечили, и она всех нас перепутала. Но это нормально, старик. Я еще не встречал гомера, способного отличить одного черного от другого. Такие дела. И помни, будь СТЕНОЙ.
– Пока здесь не начался аншлаг, – начал Гилхейни, – позволь мне рассказать еще одну историю о величайшем интерне Даблере. После того, как между нами завязались крепкие узы дружбы, в благодарность за перенос энциклопедических объемов информации из его головы в наши, Квик и я предложили Даблеру пройти краткий ознакомительный курс, касающийся порнографической стороны работы полиции. Перспективы сексуальных приключений его порадовали, и однажды ночью мы в полночь подобрали его у этих самых дверей – и пообещали, что у него будет возможность проделать любую из грязных штучек с «женщиной ночи», если ты понимаешь, о чем это я.
– Великий Гилхейни был за рулем, я был рядом с ним, на переднем сиденье, – продолжил Квик, – а Даблер сидел сзади – там, где обычно находятся арестанты. Мы остановились и подобрали одну нашу знакомую, Лулу, воплощенную идею дешевого секса и всех доступных удовольствий сразу.
– Мы проинструктировали Даблера и сказали, что он может делать с Лулу все, что взбредет ему в голову, а мы не будем использовать зеркало заднего вида. Мы выключили рацию и начали бесцельно ездить по улицам, жмурясь от света встречных фар.
– Даблер и Лулу разгорячились, – подхватил Квик, – его рука схватила ее грудь, она восприняла это с энтузиазмом. После некоторых колебаний этот гранатомет из Нью-Джерси набрался храбрости, и его горячая ладонь скользнула к ней под юбку. Его рука скользила вверх по ее бедру – все выше и выше, а мы следили за ней в зеркало заднего вида.
– Внезапно она наткнулась на что-то твердое, – опять вступил Гилхейни, – твердое и длинное, формой очень напоминавшее эрегированный половой орган особи с хромосомным набором ХY.
– Даблер взорвался, как граната. Мы остановили машину, Даблер, извергая проклятья, выскочил с одной стороны, Лулу – с другой. Прошло немало дней, прежде чем мы смогли обуздать естественную человеческую реакцию – смех.
– Даблер простил нас. Но далеко не сразу.
– И то только после того, как мы намекнули, что чему-то он от нас все-таки научился и поэтому мы тоже в отчасти можем считаться ходячими энциклопедиями.
– Ведь что такое обучение как не обмен идеями? – весело заключил рыжий. – А теперь нам надо идти. В благодарность за твое внимание и в надежде в дальнейшем получить от тебя новые знания мы обещаем, что во время твоей восьмичасовой смены мы будем везти все огнестрелы, травмы, ДТП, всех алкоголиков и злобных проституток подальше от Божьего дома, на другой конец города, в Лучшую больницу человечества, ЛБЧ. Твоя ночь будет легкой. Спокойной ночи!
– Почему вы проводите время у нас, а не в ЛБЧ? И почему настолько добры ко мне?
– Лучшая больница человечества – не самое дружелюбное местечко в мире. Оно заполнено людьми, которые многого достигли, но при этом они лишены важного для человека качества: чувства юмора. Например, Безумного Эйба они бы наверняка принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Ты еврей, и ты должен знать, что ЛБЧ заполнен серьезными, чересчур хорошо образованными гоями. Будучи полицейскими и католиками, мы знаем, что ЛБЧ также заполнена серьезными и чересчур хорошо образованными протестантами. И если в таком заведении случайно окажется терн-еврей – это будет воспринято как надругательство над основами. Например, мы в курсе, что и Даблер, и ты, несмотря на ваши более чем убедительные резюме, не попали туда в интернатуру именно по этой причине.
– Откуда вы все это про меня знаете? – крикнул я вслед исчезающим за автоматическими дверями спинам, размышляя о том, что при распределении интернов одному только компьютеру было известно, что я поставил ЛБЧ выше Божьего дома, но был отвергнут. И это компьютерное распределение, информация о котором считалась полностью конфиденциальной!
– Как вышло, что вы во всем этом настолько уверены?
И вот, прошелестев через закрывающиеся двери и повиснув на воображаемом крючке, словно шелковый плащ фокусника, ко мне прилетел ответ:
– Были бы мы полицейскими, если бы не знали всего?
11
Санта-Клаусы были повсюду, расцвечивая реальный мир с его благосостоянием и нищетой яркими красками фантазий и воспоминаний. Здесь был Санта от Армии спасения – с военной выправкой, бряцающий своим колокольчиком перед туберкулезного вида тромбонистом; был роскошный Санта в стиле Рубенса, едущий по улице в час пик в «кадиллаке» с шофером; был даже Санта шизофренического вида (мало похожий на Санту, но все-таки Санта), едущий по парку на ледяном слоне. И, конечно же, Санта был и в Божьем доме, и он сеял радость среди печали, боли и горя.
Лучшим Сантой был Толстяк. Для толпы пациентов, осаждавших его в амбулатории, он был Толстым Мессией. Пациенты обожали Толстяка, несмотря на его откровенность, сарказм и громкий хохот. Как-то, незадолго до Рождества, я направлялся вместе с ним в амбулаторию.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.