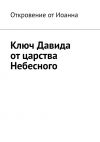Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
– Мы не берем таких старых, – сказал я, – она идет в отделение.
– Только если ее имя – не Зок. Не Старая Леди Зок[92]92
VIP-пациенты при любом диагнозе, как правило, отправляются именно в блок интенсивной терапии.
[Закрыть].
От любой другой гомерессы она отличалась только количеством денег. Я был впечатлен. Я буду мил с этой Зок, она даст мне мешок денег, я оставлю медицину, женюсь на Крутых Бедрах, пообещав никогда не свистеть и не ходить за ней по пятам. Всю дорогу до блока Старая Леди Зок верещала: «МОО-ЭЛ МОО-ЭЛ». Если бы Блум и Зок соревновались за право занять последнюю койку в БИТе, кто бы выиграл? Ответ очевиден.
Как только кто-то из Зоков поступает в Божий дом, все лизоблюды из перевернутого рожка с мороженым, дрожа и вихляясь, как исполнители танца живота, попавшие в комнату кривых зеркал, пулей летят в отделения. Звонят Легго, а он звонит дальше – вниз по конусу. Медсестры еще укладывали старую леди Зок в постель, а в палату уже входил Пинкус. Я посмотрел на него и сказал:
– Отличный случай, а?
– У нее есть хобби?
– Наверняка. МОЭЛить.
– Не слышал о таком. Что это значит?
– Спросите у нее.
– Здравствуйте, дорогая. Какое у вас хобби?
– МОО-ЭЛ МОО-ЭЛ …
– Отличная шутка, Рой, – сказал Пинкус. – Послушай, посмотри на это.
Пинкус расстегнул рубашку, под которой оказалась беговая футболка с полноцветным изображением гигантского здорового сердца. Затем снял брюки, под которыми оказались красные спортивные шорты с надписью: «СЕРДЦЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У КАЖДОГО. ПИНКУС. БОЖИЙ ДОМ».
– Вот, – сказал он, привлекая мое внимание и внимание медсестер к своим икрам. – Посмотрите на это.
Мы благоговейно ощупали стальные канаты икроножной и камбаловидной мышц. Пинкус достал из своей сумки пару беговых кроссовок и сказал:
– Рой, это для тебя. Пара кроссовок, которыми я больше не пользуюсь. Уже разношенные, так что ты можешь начать незамедлительно. Давай я научу тебя упражнениям на растяжку. Я собираюсь отправиться на свои утренние шесть миль.
Мы с Пинкусом провели ритуал растяжки мышц от таза до пальцев ног. Разогревшись, мы вышли из блока, как раз тогда, когда занималась заря. Проходя мимо палаты с включенным светом, он спросил:
– Кто там?
– Новое поступление. Зовут Блюм. Никаких хобби. Совсем никаких.
– Кто бы сомневался. До встречи.
На следующий день я с удивлением обнаружил, что совсем не устал. Я чувствовал душевный подъем. Я контролировал самых больных пациентов, самых умирающих из тех, кто еще был жив. Глядя на показатели, давая лекарство здесь, изменяя настройки аппарата там, я всю ночь предотвращал катастрофы. И Блум благополучно пережил эту ночь. Главной радостью того утра стало то, что Пинкус повернулся ко мне после обхода и (к явному неудовольствию Джо) сказал: «Рой, свою первую ночь ты отработал отлично. Не просто хорошо, а отлично, я серьезно. Действительно превосходная работа».
Остаток дня я наслаждался опьяняющим чувством уверенности в себе. Перед уходом я отправился на «Конференцию З&С». З&С означало «заболеваемость и смертность». В теории здесь должен был проводиться разбор допущенных ошибок для того, чтобы они больше не повторялись. На практике, конечно, конференция позволяла вышестоящим еще раз повалять в дерьме нижестоящих. С учетом склонности некоторых людей ошибаться из раза в раз, один и тот же терн мог выступать на этой конференции неоднократно. Сегодня на арене снова был Говард, которого валяли за ошибки при ведении пациента с болезнью по его будущей специальности, нефрологии. К несчастью, Говард ошибся с постановкой диагноза и лечил пациента от артрита до тех пор, пока тот не умер от почечной недостаточности. Когда я вошел, Говард рассказывал о том, как он объявлял пациента мертвым.
– Ты получил разрешение на аутопсию? – спросил Легго.
– Конечно, – ответил Говард. – Но я ошибся, и пациент еще был жив.
– И что же случилось потом?
– Я позвал резидента, – сказал Говард под смех аудитории.
– И? – спросил шеф.
– Потом пациент и в самом деле умер, и мы получили вскрытие. Его последние предсмертные слова были такими: «Медсестра не старалась», но может быть, он сказал: «Медсестра обосралась».
– И какое это имеет значение? – резко спросил Легго.
– Откуда же мне знать?! – сказал Говард.
И Молли любит этого придурка? Я задремал и проснулся, когда Легго, обсуждая случай, сказал: «Большинство людей с гломерулонефритом, плюющихся кровью, болеют гломерулонефритом и плюются кровью». Я думал, что мне это снится, но тут Легго выдал еще один перл: «Существует тенденция излечения этой неизлечимой болезни». Как это прозаично: обсуждать болезни почек в то время, как я занимаюсь в БИТе действительно мощной медициной и могу регулировать каждый параметр человеческого тела! После конференции я рассказал Джо о своих пациентах и отправился домой. К своему удивлению, я весело насвистывал и думал о мускулатуре ног. Я стану таким, как Пинкус. Омертвение, которое я чувствовал в Городе Гомеров, сменилось радостью, которую доставляла мне работа в блоке. Здесь, как и в приемнике, нельзя было представить себе ситуации, когда гомер поступает сюда – и находится здесь дольше, чем я. Из БИТа гомеров быстро СПИХНУТ куда-нибудь еще, если они, конечно, не чудовищно богаты. Здесь я получил возможность управлять сложной болезнью и виртуозно вести сложных пациентов, я имел дело с последними достижениями современной медицины, я ощущал свою принадлежность к профессиональной элите, здесь я чувствовал себя королем!
Мне не терпелось влезть в шорты и старые кроссовки Пинкуса. Хорошо разношенные, они отлично облегали мои ноги. Несмотря на усталость, я заставил себя проделать комплекс упражнений Пинкуса на растяжку и выбежал на улицу. Солнце садилось у меня на глазах, мягкие подошвы ритмично шуршали по асфальту, и этот шорох успокаивал меня. Я бежал, я уносился от коронарной болезни, приближаясь к стране здоровых сердец, где кровь насыщена кислородом. Я был ребенком, свободным, на крыльях Икара взлетающим над первым теплым бризом наступающей весны.
Когда я вернулся домой, грудь моя болела, я опасался приступа стенокардии и подозревал, что начал заниматься спортом слишком поздно. Я умру от инфаркта во время пробежки. Пинкус осмотрит мой труп и спокойно скажет: «Жаль. Слишком поздно».
Дома меня ждала Берри. Зная мою склонность к сидячему образу жизни, она не могла поверить своим глазам. Я взял ее за руки и положил их на свои икроножные мышцы.
– Пощупай их.
– И?
– Это «ДО». Запомни их как следует – и не забывай до тех пор, пока не сможешь ощутить «ПОСЛЕ».
3
Через две недели я пробегал по четыре мили в день. К моему огромному облегчению боль, которую я принял за стенокардию, оказалась болью от растяжения межреберных мышц, типичной, если верить Пинкусу, для начинающих бегунов. Я бегал четыре мили до работы, двигаясь по велосипедной дорожке, названной в честь кардиолога, умершего от старости, – вдоль реки, над которой всходило солнце, пробуждающее город, и мои шаги стучали успокаивающе, утверждая ритм моей жизни.
Но мне до Пинкуса мне было далеко. В отличие от него, мне пока только предстояло примириться с БИТом. Часть меня все еще ужасалась человеческой беспомощности и окружающим меня несчастьям, другая же упивалась могуществом короля – короля этого смертельно больного и очень эротичного королевства, властелина всех этих могущественных машин. Дежурства через ночь означали, что у меня не оставалось времени подумать о жизни вне Дома, и тревоги и конфликты БИТа стала тревогами и конфликтами моей жизни. А медсестры? Как беспросветно черный фон на картине Вермеера «Женщина с гитарой» подчеркивает белизну и сияние хрупких пальцев, так и болезнь обостряла секс здесь.
Часто я оказывался вовлеченным в вариации одной и той же эротической фантазии: поздняя ночь, искусственное освещение блока разбавляется лишь зеленым «БИП-БИП» кардиомониторов. Медсестра зовет меня осмотреть коматозного пациента, подключенного к машинам: один из его показателей не в порядке. Пока я иду вслед за ней к палате, я замечаю отсутствие лифчика или чулок. Я приставляю стетоскоп к телу. Мне нужно прослушать пациента, и я прошу сестру помочь мне. Она наклоняется, и мы вдвоем усаживаем пациента, его эндотрахеальная трубка свисает вниз. Я прослушиваю застойные легкие, работающие от аппарата, мои пальцы лежат на восковой коже, я превозмогаю вонь хронической болезни. И я чувствую запах ее духов. Кокосовые. Наши руки рядом, наши головы почти касаются друг друга. Я бросаю стетоскоп и обнимаю ее. Мы целуемся. Наши языки переплетаются. Я поддерживаю пациента плечом, освобождая другую руку. Поцелуй затягивается, и я ласкаю ее грудь через хлопок хирургического костюма, и чувствую, как от соприкосновений с жесткой тканью напрягается и твердеет сосок. Мы отделяемся друг от друга – и тело пациента с глухим стуком падает на койку. Позже, во время своего перерыва, она приходит ко мне в дежурку и задирает свою хирургическую юбку, потому что у нас нет времени на раздевание, – и я заваливаю ее на двухъярусную кровать. И мы выплескиваем свою ненависть, одиночество, ужас перед страданием людей и отчаяние перед лицом их смерти, сливаясь в самом нежном из возможных человеческих занятий. И занимаемся любовью. Я знаю, что она ненавидит меня за то, что я врач, за то, что в эту смену я забыл ее имя трижды, за то, что я еврей, считающий ее «папские глупости» о святости жизни по меньшей мере смешными, за то, что я веду БИТ, и за то, что ее трахает такой, как я, первый умник в классе; за всю эту ненависть и за возбуждение, рожденное ненавистью, влекущее нас друг к другу – кожа к коже, член к влагалищу, – с отчаянием космических путешественников, потерявшихся в бесконечном пространстве, где есть лишь смерть и откуда нет возврата, запертых в этом сверхсовременном космическом корабле, состоящем из хрома и света, из компьютеров и музыки. Она не расскажет мне о своей ненависти, она не покажет ее даже случайным жестом. Она лишь будет трахать меня со всей своей ненавистью, и пусть все идет, как идет. Рыча, мы ломаем пружины двухъярусной кровати в дежурке, и нас защищают от этого мира лишь две вещи: ее контрацептивные таблетки и ее способность забыть обо всем этом к утру. Калифорния, я иду к тебе!!! Мы кончаем. Покрасневшая от похоти, но не от страсти, она возвращается к работе.
Будто аккомпанируя этой весенней мелодии смерти и секса, на Божий дом обрушились восемь дней Песаха[93]93
Песах («еврейская пасха») – центральный иудейский праздник, отмечаемый в память об Исходе из Египта, один из трех паломнических праздников. Отмечается весной. В Израиле празднуется на протяжении 7 дней, за его пределами – 8.
[Закрыть] – как восемь стервятников. Несмотря на надежды, подаренные Страстной пятницей и Пасхальным воскресеньем, в Песах ни у кого из нас не было вопросов о намерениях Бога. Смерть. Противостоя нашим технократическим атакам, Господь напряг свои бицепсы, трицепсы, да и бесконечность и будто глумился над нами, насылая смерть. Во время Песаха пациенты мерли как мухи.
Это было каким-то поветрием. Мы до одури работаем с кем-нибудь из них и почти уверены, что пациент выживет, и вдруг – БИП, остановка сердца и смерть. Я осматриваю пациента в приемнике, приставляю стетоскоп к его груди, и вдруг он начинает синеть и умирает. Я спокойно сплю в дежурке, просыпаюсь от объявленной остановки сердца, бегу, судорожно моргая и пытаясь скрыть ночную эрекцию, туда, где музыка и неоновый свет, в панике пытаюсь найти палату, но Бог конечно же опять опередил нас, и нам не удается спасти еще одного пациента. Позже, просматривая сохраненные Олли данные, мы видим, что, несмотря на все наши старания, измененный сердечный ритм свалился и – БИП, в палату с надменным спокойствием входит смерть.
Все мы были потрясены. Родные умерших, еще недавно преисполненные надежд, были раздавлены отчаянием и непереносимо страдали. Они были ослеплены горем, и казалось, что их собственные сердца срываются со своих мест и перекатываются в телах, как клубки шерсти в пустых мешках. Перфекционистка Джо была очень подавлена, а к четвертому дню Песаха стала почти невменяемой. Она была не в силах принять смерть пациентов (которую воспринимала как личный провал), и изобрела собственную «теорию флогистона»[94]94
Флогистон – «огненная субстанция», якобы наполняющая все способные гореть вещества. Теория флогистона была придумана химиками XVII века для объяснения процессов горения, впоследствии была опровергнута.
[Закрыть], и пыталась доказать, что где-то в блоке прячется что-то зараженное, «очаг инфекции». Она атаковала Пинкуса, требуя разрешить ей разобрать БИТ на части, чтобы найти источник зла, убивающий ее пациентов. Флегматичный Пинкус ответил, что она может делать все, что хочет, но он лично сомневается в ее теории. После этого он предложил мне проверить мышцы его ног, что я и сделал, сказав:
– Потрясающе.
– Марафон всего через шесть дней. Сегодня начинается углеводная нагрузка.
– Пинкус, – с нажимом сказала Джо, круги под глазами у которой были чернее обычного, – я хочу заявить со всей ответственностью, что мы победим в этой войне со смертью.
Очередной удар по Джо был нанесен на пятый день Песаха, около четырех ночи. Джо обычно не спала на дежурствах ни минуты, но тяжкая ноша первой женщины-резидента, вступившей в битву с самим Ангелом Смерти, измотала ее – и когда все, казалось бы, находилось под контролем, она прилегла на часок. Вскоре после этого разверзлись врата ада. Сначала у пациента по имени Гогарти, поступившего с жестоким свежим инфарктом, произошла остановка сердца. Вызвали Джо, и она со свойственным ей фанатизмом в течение часа «давила по полной», пытаясь вернуть его к жизни. К несчастью, Гогарти был лишь дымовой завесой: когда Джо и медсестры вышли из палаты, их взгляду предстала Старая Леди Зок, распростертая на кафельном полу БИТа и мертвая, как камень. Как оказалось, услышав шум в палате Гогарти, Старая Леди Зок, поддавшись благородному филантропическому порыву, решила присоединиться к спасательной команде и последовала ЗАКОНУ: «ГОМЕРЫ СТРЕМЯТСЯ ВНИЗ». Падение привело к поломке искусственного водителя ритма, поддерживавшего ее щедрое сердце, и Старая Леди Зок умерла.
Последним штрихом в этой истории оказалось то, что Джо настояла, чтобы все без исключения сестры спасали Гогарти, в результате чего Зок осталась без должного внимания. А когда Зок остается без внимания, основы Божьего дома сотрясаются.
Утром поднялся ужасный переполох. Это была настоящая битва: Зоки против Медицины. Город Взаимных Обвинений. Чтобы избежать лишнего напряжения, Легго удержался от того, чтобы попросить разрешение на вскрытие, но Джо удержаться не смогла. Ситуация накалилась до предела. Легго порекомендовал Джо «убраться отсюда на хер», после чего мы могли наблюдать, как караван Зоков скрывается в «зеленом банкетном зале», обустроенном на пожертвования Зоков и использующемся исключительно для ублажения филантропов Божьего дома.
Пресытившись теорией Джо об «очаге инфекции», я заявил, что пойду другим путем. Джо спросила, что это за путь, и я ответил: «Клин вышибают клином». Я поднял телефонную трубку и попросил оператора незамедлительно вызвать в БИТ дежурного раввина. Встревоженный сигналами своего пейджера, пыхтя и задыхаясь, прибежал молодой ребе Фукс. Я рассказал ему об этой вакханалии смерти и о моей убежденности, что это могло бы быть своего рода визитом господа Бога, во время Песаха ошибочно принявшего нас за египтян.
– Не понимаю, – сказал ребе Фукс.
– Разве не может быть так, что Господь наказывает нас этими смертями? Тогда мы, наверное, должны сделать все, что в наших силах, чтобы следовать законам Песаха? Например, окрасить косяки дверей палат, использовать специальную посуду, поставить чашу вина для пророка Илии и тому подобное?
Чернобородый интеллектуал Фукс задумался, глядя через бифокальные очки на моргающую консоль Олли, и сказал:
– Агада, история Песаха, к которой вы апеллируете, не буквальна, это гомилетика. Да, именно так: «экзигеза Агады», начиная с XI века, породила комментарии, которые носят в основном гомилетический, хотя иногда и мистический характер…
– Пинкус, вы поняли, что он сказал?
– Нет.
– И я – нет. Что вы имели в виду, ребе?
– Не принимайте все буквально. Это – миф. Бог так больше не действуют. Эти смерти объясняются только физиологическими фактами, а не действиями высших сил. Здесь умирают тела, а не души.
Нет, только Божий дом мог держать такого умника-теолога в качестве своего раввина! Я спросил его:
– Кстати, ребе Фукс, какого течения вы придерживаетесь?
– Я?! Реформистского. А что?
– Кто бы сомневался, – сказал я, вновь берясь за телефон. – Спасибо большое. Я звоню ортодоксам, хасидам.
Раввин-ортодокс оказался белобородым патриархом из полузабытой синагоги черного гетто. Взволнованный моей идеей, он процитировал каббалистические письмена о «домах больных во время Исхода» и рассказал мне о неизбывности учения Песаха, описанного в Мишне[95]95
Первый письменный текст, содержащий основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма.
[Закрыть]: «В каждом поколении будет человек, взявший на себя уход из Египта». К несчастью, ребе страдал от сердечной недостаточности и перед тем, как перейти к практическим действиям – пению и рисованию – хотел получить бесплатную медицинскую консультацию. Это заняло нас до обеда, и тут он заявил, что ему надо поесть. Он уселся со мной и медсестрами, достал небольшую баночку и открутил завинчивающуюся крышку. По запаху я сразу догадался, что там.
– Селедка, – объяснил он медсестрам.
– Я думал, что вы на диете с низким содержанием соли, – сказал я.
– Да, так и есть. Представляете, вся соль за день – вот этот кусочек селедки.
Наконец нам принесли банку кроваво-красной краски, и, пока ребе молился, раскачиваясь туда-сюда и периодически отрыгивая селедкой, я мазал косяки дверей краской. Потом я пожелал ребе здоровья, сделал его синагоге небольшое пожертвование и вернулся на космический корабль БИТа. Этим вечером, слушая повествование Коротышки о его божественном сексе с Энджел, я слышал шорох крыльев Ангела Смерти, пролетающего через мой блок.
На одну ночь это сработало. Главной проблемой в эту ночь был доктор Бинский, частный врач средних лет с серьезным инфарктом. Я знал, что он знает, что умирает, несмотря на все усилия коллег, и мой страх перед неизбежным заставлял меня отдаляться от него. Этой ночью доктор Бинский пережил все виды известных человечеству аритмий, но каким-то чудом мое лечение всякий раз срабатывало, и в итоге доктор Бинский увидел рассвет, а рассвет увидел его. Ортодоксальные методы сработали.
Утром седьмого дня Джо была в экстазе. Узнав, что за ночь никто не умер, она расплылась в улыбке от уха до уха, хлопнула меня по плечу и заявила:
– С Божьей помощью мы победим, и, если для этого нужно красить косяки дверей, значит, мы будем их красить – ради наших пациентов.
Мы отправились осмотреть доктора Бинского, и его старый друг Пинкус сказал:
– Привет, Морис. Как поживаешь?
– Ничего, Пинкус. Сколько прошло? Сорок часов?
– Около того.
– Как мой ритм сегодня?
– Доктор Бинский, – сказала Джо, по-братски кладя руку ему на плечо, и голос ее задрожал, – нормальный синусовый ритм. НСР. Наконец-то!
– Какое облегчение, – сказал доктор Бинский, – громадное облегчение.
Через десять секунд его сердце остановилось и, невзирая на все наши усилия, через полчаса он был мертв.
Джо сломалась. Она сидела в комнате для персонала со мной и Пинкусом, плакала и повторяла снова и снова:
– Он не мог умереть, он был в нормальном синусновом ритме. НСР, и теперь он мертв? В этом нет смысла! Это абсурд!
– Люди умирают в НСР, – спокойно сказал Пинкус. – Мы сделали все, что возможно, правда, Рой?
Я согласно закивал. Пинкус был прав.
– Послушай, Джо, – продолжал Пинкус, – он ушел в нормальном синусовом ритме, ушел со стилем. Да, он ушел так, как принято уходить в Божьем доме.
Я вспомнил ЗАКОН: «ПАЦИЕНТ – ТОТ, У КОГО БОЛЕЗНЬ». Остановилось сердце Бинского, а не мое. Я был свободен от ответственности и тревоги. Моим миром были бег, правильное питание и спокойствие. Я оставил Джо пытаться разгадывать ее медицинскую загадку, а сам отправился осматривать других пациентов БИТа. Позже я попрощался, пожелал Джо удачи, и на время четырехмильной пробежки до дома думал только о Боге – и о Пинкусе. Я сделал все, что мог, но доктор Бинский умер. Если тревожиться из-за этого, грызть свою душу, это увеличит мой фактор риска – стресс. Тип личности А, сердечная бомба замедленного действия. Нет уж, спасибо.
В тот вечер мы с Берри поужинали и шли домой. Она была удивлена моей энергичностью – учитывая, что с начала работы в БИТе я спал в среднем по три часа в день.
– Пинкус говорит, что это нормально, что усталость идет от ума, не от тела. Дежурство через ночь – неплохо. Мне даже нравится.
– Нравится?! Я думала, что ты ненавидишь быть в Доме по ночам.
– Вне БИТа – ненавидел. Но теперь мне нравится. Я, наверное, даже могу сказать, что полюбил это. Как говорят хирурги, «проблема с дежурством через ночь в том, что получаешь только половину пациентов». Примерно так я себя и чувствую. Может быть, я стану кардиологом.
Берри остановилась, схватила меня за плечи и заставила посмотреть на себя.
– Рой, да что с тобой?! – казалось, что она говорила откуда-то издалека. – Ты же месяцами рассказывал мне о том, как интернатура разрушает твою жизнь, убивает в тебе творческое начало, гуманизм, страсть. Что, черт возьми, вообще происходит в этом твоем блоке?
– Даже не знаю. Много смертей. Джо сломалась. Плакала. У нее высокий уровень тревоги. Тип личности А. Даже при наличии эстрогена это плохие новости.
– Джо сломалась, а как эти смерти влияют на тебя?
– Смерти, ну и что?
– Ну и что?! – спросила Берри тоном, полным презрения и жалости, – я скажу тебе, что! С каждой смертью в тебе остается все меньше человечности.
– Не волнуйся. Как говорит Пинкус, «тревога убивает».
Ночью, в постели, когда я повернулся и обнял ее за плечи, я почувствовал, как она напряжена. Она сбросила мою руку и сказала:
– Рой, я беспокоюсь. Я еще могу понять, почему ты отгораживаешься от смерти Потса, но это уже слишком. Ты изолируешься. Ты больше не видишься с друзьями, ты даже не упоминаешь о Толстяке, Чаке или полицейских.
– Да, я думаю, что они остались в прошлом.
– Послушай меня: ты не любишь БИТ, это всего лишь защита. Ты не любишь Пинкуса, это тоже защита. Ты – гипоманик, ты отождествляешь себя с агрессором, ты превращаешь Пинкуса в идола, чтобы спасти себя от распада. Это может сработать в Доме, но это не сработает со мной. Для меня сегодня ты мертв. В тебе нет искры жизни.
– Ого, Берри, я не знаю. Я чувствую себя живым и здоровым. – Вспомнив о Хале, компьютере из «Одиссеи-2001», я сказал: – Дела обстоят великолепно.
– Сколько еще продлится твоя работа в БИТе?
– Десять дней, – ответил я, поглаживая ее волосы и спокойно раздумывая о лучшем естественном упражнении – сексе.
Она отдернулась, и я спросил, почему.
– Я не могу заниматься любовью, когда ты так далеко!
– Ты думаешь, я думаю о другой женщине? Это не так!
– Нет, это из-за тебя! С меня хватит попыток пробиться к тебе. Теперь я буду думать о себе. Я дам тебе отсрочку, я подожду, пока ты закончишь, и посмотрю, сможешь ли ты измениться. Иначе все кончено. И это после всего, через что мы прошли! Пользуясь твоей терминологией, Рой, это отношения на костях. ОНК!
Я услышал свой голос так, будто он доносился издалека:
– Лучше ОНК, чем тревога, Берри. Это лучше, чем тип А.
– Будь ты проклят, Рой! – заорала она в слезах. – Ты – скотина! Ты что, не понимаешь, что с тобой происходит?! Отвечай мне!
– В данную секунду, – сказал я, стараясь оставаться спокойным среди всей этой бури эмоций и стрессов, – это все, что я могу сказать.
Берри зашипела, словно локомотив, подъезжающий к станции, и сказала:
– Ты не скотина, Рой. Знаешь, кто ты? Бездушная машина.
– Машина?
– Машина!
– И что?!
4
Но она ошибалась. Я не был машиной. Я не умер. Я был жив. Все было превосходно. Моя жизнь была полна. Шорох моих шагов по асфальту велосипедной дорожки у реки помог мне утвердиться в этой мысли. Мой разум был чист, как здоровая коронарная артерия, как стройная женщина в дизайнерском купальнике, выходящая из тропического моря.
Той ночью я показал высший пилотаж. Мы с медсестрой должны были провести сложную и бесполезную процедуру. Молодая мать двоих детей уже несколько месяцев была на пороге смерти: у нее была неизлечимая болезнь печени в последней стадии, и она готовилась умереть от сердечной недостаточности, инфекции, почечной недостаточности, отека мозга и легких одновременно. Ее отправили в БИТ, и нам было велено дренировать инфицированный выпот из ее живота и сделать переливание крови. Но поскольку жидкость, которую мы вливали в ее сосуды из-за пониженного содержания белка должна была вскоре снова оказаться в ее животе, эта затея была бесполезна и не могла привести ни к чему хорошему. Ну и что? Я уже давно отказался от мысли о том, что то, что я делаю с этими телами, должно иметь какое-то отношение к пользе. Я сделаю это на высшем уровне. Почему я должен возражать против того, чтобы расплачиваться за очередной провал медицины по-божьедомски?
Я поставил большие вены, начал контролировать все ее параметры, и мы с медсестрой приготовились к старту. Это будет моя высадка на Луне, моя технологичная Мона Лиза, моя атомная бомба. Склонившись над пожелтевшим животом молодой матери двоих детей, мы с медсестрой улетели в процесс эротической синхронизации откачивания жидкости и введения ее обратно, в то же время мы контролировали параметры и меняли настройки, купаясь в неземном свете БИТа, напевая под звучащую музыку. Притихшие от восхищения доктора и медсестры столпились вокруг, наблюдая за нами. Время перестало существовать и превратилось в бесконечность. Муж, переживший все ее лечение и уже смирившийся со смертью, в которой ей отказывали умники Божьего дома, потребовал, чтобы мы прекратили и больше ничего не делали. Зная, что процедура бесполезна и ее необходимость продиктована лишь нашим коллективным бессилием и нежеланием сдаваться, я упросил его разрешить нам продолжить, скормив ложь о том, что ее страдания не будут продлены. Он ушел, слишком разъяренный, чтобы заплакать. Я смотрел, как он шел, обнимая своих маленьких детей, мальчика и девочку. Их глаза были полны недоумения.
Около полуночи в пятой палате, где находилась несчастная женщина с повреждением мозга, прозвучал сигнал остановки сердца, и Олли, подтверждая случившееся, выплюнул кардиограмму с прямой линией. Я вошел в ее палату. Ее муж сидел, успокоенный работой аппарата искусственной вентиляции легких, ритмично надувающего и сдувающего труп, недавно бывший его женой. Я попросил его выйти и дать мне ее осмотреть. Я помог ему подняться и повел выпить чашечку кофе. Медсестра спросила, что ей делать, и я попросил ее отключить искусственное дыхание.
– Я не выключаю аппараты, – сказала она.
Я удивился. Почему нет? Она же мертва. Я молча смотрел на медсестру, пытаясь понять… Я зашел в палату, где лежало тело. Я смотрел на него: женщина, превратившаяся в восковую куклу, без дыхания и сердцебиения, с мертвым мозгом и черепом, полным тромбов, с легкими, разрываемыми машиной. Я зарылся в переплетение проводов за койкой, пытаясь нащупать провод аппарата. Я замер. Вот она, истинная смерть. Портной Сол промелькнул в моих мыслях. Это было несложно. Я сделал это. Время вновь обратилось бесконечностью.
Успокаивающая симметрия форм этой ночи продолжалась и на следующий день, в день Апрельского марафона. Все шло очень хорошо. Я радовался за Пинкуса и собирался освободиться пораньше, чтобы посмотреть, как он будет преодолевать самый тяжелый подъем – на холм под названием Скромняга. Утренний обход лился плавно, как музыка. Несчастье, случившееся с женщиной из пятой палаты, разве что на пару минут заставило меня чувствовать себя не слишком хорошо. Около полудня мы с той же медсестрой, с которой мы провели большую часть ночи за сложнейшей процедурой, эквивалентной по сложности медицинской прогулке по Луне (она из сочувствия к несчастной «излечимой» женщине работала двойную смену), подверглись атаке мужа, кричавшего с покрасневшим лицом: «Вы были слишком жестоки, не давая моей жене умереть!» Медсестра зарыдала, а я, втайне согласный с ним, молчал. Мы с медсестрой стояли в палате умирающей женщины, от которой несло антисептиком и инфекцией, желчью и мочевиной до тех пор, пока муж не излил всю свою ярость и не ушел. На несколько секунд я почувствовал себя стоящим на краю пропасти, знакомой мне по какому-то из кошмаров. Но это вскоре прошло, и я вновь почувствовал себя абсолютно спокойным.
С полудня я должен был вести прием в амбулатории. С некоторым неудовольствием я вышел из БИТа и вернулся в безнадежно неэффективный мир остального Дома. Направляясь к своему кабинету, я столкнулся с Чаком, идущим в свой. Он выглядел даже хуже обычного.
– Плохо дело, старик, – сказал он. – Меня вычислили.
– Вычислили? Это ты о чем?
– Ну, ты же заметил, как мне всегда везло с этими старушками, которые никогда не являлись ко мне на прием, хотя им и было назначено?
– Да, это было удивительно.
– Ну так вот, они не являлись потому, что были мертвы.
– Мертвы?!
– Угу, мертвы. Понимаешь, я нашел старые истории мертвых пациентов и назначил им всем прием в клинике. Почти никто не являлся!
Мой амбулаторный прием был просто смешным. Я разработал собственную анатомическую методику амбулаторной диагностики, которую назвал «Ромбовидное пространство неряхи». Она заключалась в расстегивании четвертой сверху пуговицы на блузке, что создавало ромбовидное пространство для моего стетоскопа. Умело работая запястьем, можно было вертеть стетоскоп, прослушивая все органы – и делать это, не раздевая пациентку. Осматривая таким образом хорошо знакомых мне пациенток с их тривиальными проблемами, я думал о точности и технологичности БИТа, где я находил стальной иглой девственную радиальную артерию. Мои пациентки волновались за меня и многие во время осмотра спрашивали, все ли со мной в порядке. Я отвечал, что чувствую себя невероятно хорошо. Одна из них, баскетболистка и свидетельница Иеговы, разнервничалась особенно сильно: «Что случилось, доктор Баш? Вы месяцами не пользовались стетоскопом, мы просто сидели и болтали. Что-то случилось с моим сердцем?» Я заверил ее, что с сердцем все в порядке, и закончил осмотр. Покачав головой, она ушла.
Этим прохладным апрельским днем я направлялся к Скромняге, бормоча про себя:
– Все это медицинское образование – для того, чтобы выписать специальный лифчик с кармашками? Где я работаю в конце концов? В магазине белья?
Разноцветные марафонцы пробегали мимо меня. Первые, лидеры, выглядели бодрыми и полными сил даже после двадцати миль, и это несмотря на кошмары Скромняги. Их телосложение было таким же, как и у Пинкуса: тонкий верх и мощный мускулистый низ. Они бежали под аплодисменты зрителей. Как же я им завидовал! Разноцветная волна пробегала мимо меня, и где-то в районе пятисотых номеров я увидел Пинкуса, решительно и уверенно бегущего в том темпе, который мог привести его к финишу в пределах трех часов. Я заорал: «Сделай их, Пинкус!», а он посмотрел на меня, и, не помахав рукой и не улыбнувшись, пошел вверх, на Скромнягу, свободными и уверенными рывками. Он и выглядел отлично, и бежал прекрасно, и я наблюдал, как он бежит, не меняя ритма, и как надпись на его ягодицах – «СЕРДЦЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У КАЖДОГО» – исчезает за холмом. Наш старик Пинкус никогда не меняет ритма. Скромняга? Ха!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.