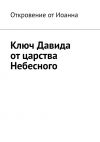Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
– Нет.
– Почему нет?
– Я не хотел.
– Это не причина.
– Я не хочу, чтобы его тело резали на куски в морге.
– Я не понимаю, что ты несешь!
– Я был слишком привязан к нему, чтобы допустить это.
– Такого рода разговоров в современной медицине быть не должно!
– Так не слушай! – сказал я, теряя терпение.
– Вскрытия крайне важны, – сказала Джо. – Это двигатель медицинской науки, это ее вершина. Я сама позвоню его родным.
– Не смей! – закричал я. – Я тебя прибью.
– Тогда как, позволь спросить, мы будем оказывать помощь тем, кто доверился нам? Как ты думаешь, смогли бы мы без этого достигнуть таких великолепных результатов в лечении?
– Это ерунда. Мы все равно никого не излечиваем.
– Ты сбрендил?! Это отделение, мое отделение ставят в пример всему Божьему дому как самое успешное и самое эффективное! Мы лучше всех в ведении тяжелых пациентов и размещении остальных. Мое отделение – это легенда! Черт тебя подери, – закончила Джо, сжав челюсти. – Мне нужно это вскрытие.
– Джо, иди на х…
– Мне придется сообщить об этом Рыбе и Легго. Я не дам сантиментам нарушить работу отделения. Мое отделение – легенда.
– Ты хочешь знать, почему оно стало легендой? Рассказать тебе?
– Конечно, хочу, хотя я и так знаю!
И я рассказал. Я рассказал, как мы с Чаком после эксперимента, проведенного с Анной О., стали фанатиками бездействия с гомерами и лгали Джо, фальсифицируя результаты всех исследований и ПОЛИРУЯ истории болезни. Я рассказал, как – с незначительными коррективами – мы проделывали то же самое с умирающими, давая им возможность уйти без боли, унижений и длительных страданий, которые им готова обеспечить современная медицина. И последнее, что я ей выложил, – это про размещение.
– Размещение проводится потому, что в социальной службе любят меня и восхищаются моей работой, – нервно сказала Джо.
– Джо, да тебя все ненавидят! Нам удалось сплавить наших гомеров только потому, что Коротышка и я трахаем Розали Кон и Сельму соответственно. И я уже не говорю о чистом белье.
– А с этим-то что?
– Чак трахает Хэйзел, главную у уборщиков.
– Я тебе не верю. Никто не стал бы делать такое со мной!
– Любой бы сделал, если бы мог. Но у нас, твоих тернов, – преимущество!
– Может, ты просто думаешь, что ты лучше остальных? Вскрытия не для тебя, ты выше этого? Ты боишься грязной стороны медицины?
– Нет, мэм, – сказал я.
– Значит, ты не боишься грязной стороны медицины, – проговорил Легго, глядя на мою пропитанную кровью одежду.
– Нет, сэр. Насколько я знаю – нет.
Закутанный в свой халат, со стетоскопом, как обычно исчезающим неизвестно где, он смотрел в окно, держа в руке распечатку моего резюме. Он казался одиноким. Наверное, так выглядел и Никсон. Я стоял в кабинете Легго, стены которого были увешаны дипломами и, как зачарованный, смотрел на модель мочеполовой системы, наполненную разноцветными жидкостями, движущимися благодаря электрическому моторчику. Глядя на пузырящуюся в модели красную мочу, я думал о несчастном докторе Сандерсе, из которого выжали всю кровь и который лежал сейчас в морге, пустой и мертвый.
– Знаешь, – сказал Легго, – у тебя превосходное резюме. Когда я вводил твое имя в компьютер, принимая тебя в интернатуру, я был счастлив. Я думал о тебе как о потенциальном лидере интернов и резидентов и даже, возможно, как о будущем шеф-резиденте.
– Да, сэр, я понимаю.
– Ты никогда не служил в армии?
– Нет, сэр.
– Я догадался, потому что ты обращаешься ко мне «сэр». Это военное обращение. Ты не знал?
– Не понимаю.
– Люди, служившие в армии, никогда не обращаются ко мне «сэр».
– Почему?
– Я не знаю. А ты?
– Я тоже нет, но вообще-то вам это обращение подходит.
– Очень странно. Я имел в виду, что ты же думал, что все будет наоборот?
– Почему?
– Я не знаю. А ты?
– Нет. Это очень странно. Сэр.
– Да. Это очень странно…
Он опять отвернулся к окну, а я задумался уже о нем. Его жизнь началась с того, что он дал обет не быть таким же бесчувственным, как его собственный отец. Но в итоге Легго, как и Джо, стал жертвой собственного успеха. Он пролизал себе путь наверх и стал холоден настолько, что теперь его сын, должно быть, уже лечится у психотерапевта и страстно мечтает о том, чтобы его бесчувственный отец стал таким же, как отец отца, то есть дедушка – теплым и любящим. Легго истратил свою жизнь, надеясь, что неизлечимые болезни отступят перед электрифицированным гением медицины, он жил ради этого – и ради аплодисментов, которых так и не услышал от своего отца. Он превратился в своего рода генератор Ван де Граафа[56]56
Генератор высокого напряжения.
[Закрыть] Божьего дома, думая, что именно таким его любят интерны.
– Ты знаешь, Рой, в городской больнице интерны меня любили. И во всех прежних, ты понимаешь, во всех прежних больницах меня любили. У нас были общие радости, но здесь, в Доме…
– Сэр?
– Ты знаешь, почему они меня не любят?
– Возможно, дело в вашем подходе к терапии, особенно в отношении гомеров.
– В отношении чего?
– Хронически больных, слабоумных, очень старых пациентов из домов престарелых. Сдается мне, ваш подход: «Чем больше делаешь, тем лучше им становится».
– Именно. Они больны и, видит Бог, мы будем их лечить. Интенсивно, объективно, делая все возможное и никогда не сдаваясь.
– Именно. А меня научили, что делать все для них – это ничего не делать. Потому что чем больше делаешь, тем хуже им становится.
– Что?! Кто тебя этому научил?
– Толстяк.
При упоминании этого имени брови Легго насупились. Он сказал:
– Но, конечно же, ты ему не поверил. Не так ли?
– Честно говоря, сначала мне и в самом деле показалось, что это безумие, но потом я попробовал – и, к моему удивлению, это сработало. А вот когда я попробовал лечить их так, как это делаете вы или Джо, у них начались немыслимые осложнения. Я все еще не уверен, но, кажется, в чем-то Толстяк прав. Он совсем не дурак, сэр.
– Я не понимаю. Толстяк научил тебя тому, что не предоставлять лечение – самая важная твоя задача?
– Толстяк сказал, что в этом и заключается предоставление лечения.
– Что?! Ничего не делать?
– Это уже что-то.
– Южное крыло отделения № 6 – лучшее в больнице, а ты пытаешься мне сказать, что это – благодаря бездействию?
– Именно так. Мы бездействуем настолько, насколько возможно, чтобы не попасться Джо.
– А размещение?
– Это уже другая история.
– Что ж, хватит историй на сегодня, – сказал Легго, потрясенный тем, что его продолжает преследовать Толстяк, от которого он вроде бы благополучно избавился, сослав в больницу Святого Где-Нибудь. – То есть вот откуда это безделье, о котором говорит Джо, и все эти ваши «ЕСЛИ НЕ ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ – НЕ НАДО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ ЛИХОРАДКУ». Это ваш путь? Делать все, чтобы не делать ничего, так?
– Да. Святое Primum non nocere[57]57
Не навреди (лат.).
[Закрыть] с некоторыми поправками.
– Primum non… Но зачем тогда по-вашему врачи вообще что-то делают?
– Толстяк говорит, что для того, чтобы получить осложнения.
– И зачем им получать осложнения?
– Чтобы заработать денег.
Слово «деньги» как будто вывело Легго из транса, и похоже, что в его голове сработал переключатель. Он сказал:
– Кстати, вот еще что. Доктор Отто Крейнберг жалуется, что ты издеваешься над его пациентами. Ставишь им синяки, гипнотизируешь, поднимаешь их койки на опасную высоту. Он серьезный врач, наш Малыш Отто, когда-то даже претендовал на Нобелевскую премию. Так что ты об этом скажешь?
– О, это был не я, это был Брюс Леви.
– Но он твой студент.
– И?
– И, черт тебя дери, ты отвечаешь за него, так же как Джо отвечает за тебя, а доктор Фишберг – за нее. А я отвечаю за всех вас. Леви – твоя ответственность. Разберись с ним. Понятно?
Я подумал, что лучше не спрашивать у Легго, кто отвечает за него самого, и сказал:
– Я пытался говорить с ним, сэр, но это не помогло. Леви заявил, что он не хочет, чтобы я отвечал за его действия и что будет нести ответственность за них сам.
– Что?! Это полностью противоречит тому, что я сказал!
– Я знаю, сэр, но он ходит к психоаналитику, и это то, что ему там говорят, а он пересказывает мне, – и тут я задумался о том, кто же возьмет на себя ответственность за гигантское кабаре под названием «Америка», когда мы избавимся от Никсона и Агню.
– Значит, ты веришь всему, что говорит Толстяк?
– Не могу сказать, сэр. Я проработал интерном всего четыре месяца.
– Хорошо. Ведь если все будут думать так же, терапевтов попросту не останется.
– Именно, сэр. Они будут не нужны. Толстяк говорит, что именно поэтому терапевты делают столько всего: чтобы сохранить спрос. Иначе мы все стали бы хирургами и ортопедами. Или адвокатами.
– Чепуха. Если он прав, зачем тогда нужны были люди вроде меня или других шефов? А?
– Ну… – сказал я, вспоминая доктора Сандерса, истекающего кровью у меня на руках. – А что нам еще остается? Мы не можем просто исчезнуть.
– Именно, мой мальчик, именно. Мы излечиваем, ты слышишь? Излечиваем!
– За четыре месяца лично я не смог никого излечить. И я не знаю никого, кто бы смог. Была только одна ремиссия. Это – лучшее достижение.
Повисла неприятная тишина. Легго отвернулся от окна, выдохнул, избавляясь от мыслей о Толстяке, и, довольный, как будто что-то смог доказать, посмотрел на меня:
– Доктор Сандерс умер, и ты не получил разрешение на вскрытие. Почему? Он просил тебя об этом перед смертью? Даже врачи иногда бывают суеверными.
– Нет, он сказал, что я могу отправить его на вскрытие, если захочу.
– Так почему ты этого не сделал?
– Я не хотел, чтобы его тело разделывали на куски.
– Я не понимаю!
– Я слишком его любил и не хотел, чтобы его препарировали.
– А. Ты не думаешь, что я его тоже любил? Ты знаешь, что мы с Уолтером Сандерсом были приятелями? Мы вместе проходили интернатуру. Какие это были дни! Эти волнение и радость, проходящие через тебя! Он был отличный мужик. Но тем не менее, – закончил Легго по-отцовски покровительственно, – как ты думаешь, сделал бы я это вскрытие?
– Да, сэр, думаю, что да. Я думаю, что вы добились бы вскрытия.
– Ты прав, черт возьми. Абсолютно прав.
– Могу я кое-что добавить, сэр?
– Выкладывай.
– Уверены, что сможете это принять?
– Я бы не был там, где я сейчас, если бы не мог чего-то принять. Выкладывай.
– Именно поэтому интерны вас и не любят.
Мы любили их, и поскольку через неделю я должен был покинуть южное крыло отделения № 6 и перейти на работу в приемное отделение, мы (приняв в расчет третью зубную щетку) решили, что обязательно должны показать им нашу любовь и сделать не где-нибудь, а в этом сволочном Доме. И вот мы с Чаком и нашим другом, сексуальным гигантом Коротышкой (который к тому моменту уже волочился за любой юбкой, включая едва достигшую половой зрелости медсестру из физической терапии, у которой было круглое лицо восьмилетней девочки и пухленькое тело пятнадцатилетки; Коротышка домогался ее, назначая своим гомерам физическую терапию по шесть раз на дню – и там, среди протезов и тренажеров, пытался облапить ее, пока она старательно учила его пациентов ходить) задумались о том, как показать Энджел, и Молли, и Хэйзел, и может быть, даже еще одной грандиозной женщине, Сельме, как велика наша любовь и как высоко мы ценим их вклад в превращение нас в лучшую команду Дома.
Это было красочно, безумно и незаконно. Мы с Коротышкой ждали остальных в дежурке отделения, где вообще-то не должны были находиться. Уже нетрезвый, накачавшийся бурбоном и пивом, я лежал на нижней койке, одетый в пижаму Дома, в парике – и изображал гомера, а Коротышка разглагольствовал о половой зрелости и подключал меня к монитору. Монитор включился, выдал «БИП», и светящаяся зеленая линия добавила дежурке, освещенной красной лампой, красок. Тут я подумал, что если добавить еще и желтого, то Чак сможет почувствовать себя дома, на перекрестке в Мемфисе. Когда я рассказал Берри, что доктор Сандерс умер, она спросила: «Как ты думаешь, где он сейчас?» – и все, что я мог ответить, было: «Он внутри нас». И я думал о том, как переплелись наши с ним судьбы, как его жизнь трепетала рядом с моей, как бабочка на исходе осени – бьющаяся из последних сил, неистовая, замерзающая, умоляющая отложить рождение зимы. Как там было в последнем письме отца?
«…Наступает зима, и ты без сомнения привыкаешь к стрессу и долгим часам работы. У тебя есть прекрасная возможность изучить медицину, и ты начинаешь работать с людьми…»
Раздался стук в дверь, а потом еще два: это было нашим условным сигналом. И вот перед нами предстали Энджел и Молли, одетые в форму медсестер. Я смотрел, как Крутые Бедра обняла и поцеловала Коротышку. Он, казалось, засмущался. Она сказала:
– Привет (жест в сторону Коротышки), Коротышка. Как там у тебя дела?
– Привет Энджи, – сказал Коротышка напряженно.
Энджел взяла его руку и засунула себе под юбку, заставив его обнять ее мощную задницу. Коротышка посмотрел на Молли, прикидывая, как она отнесется к такой открытости. А Молли обняла его сзади и начала целовать его шею и водить руками по его груди и животу, от грудинно-ключичного сочленения до паха. Я закричал фальцетом гомера: «ПАМАГИ СИСТРА ПАМАГИ СИСТРА ПАМАГИ СИСТРА», и они переключились на меня. Они откинули занавески, закрывающие койку – и склонились надо мной. Верхние пуговицы на их блузках были расстегнуты, и я мог лицезреть две пары потрясающе эластичных сисек, выглядывающих из-под моря кружев. Ох, приникнуть к ним, положить туда мою заполненную горем и яростью голову, и лизать их! Сосать! Один, два, три, четыре соска! Когда я попытался сделать это, они оттолкнули меня, а поскольку я был гомером, а ГОМЕРЫ СТРЕМЯТСЯ ВНИЗ, они решили привязать меня – и с энтузиазмом этим занялись.
«…Ты будешь возвращаться к этому времени тяжелой работы, и приобретенный опыт останется с тобой навсегда, и кто, как не настоящий мужчина, способен на это…»
Я был связан, я боролся – и они решили, что меня надо протереть губкой, вымоченной в спирте. Я боролся довольно усердно, и мне даже удалось расстегнуть блузку Молли почти до талии, а когда они меня повалили, я вцепился в ее блестящий полупрозрачный французский бюстгальтер, который заставляет грудь так подпрыгивать во время прогулки по Елисейским полям, что похотливые американцы захлебываются слюной. Представив себе длинные соски Молли, я превратился в гомера с эрекцией. Они начали омывать меня губкой, и Энджел без малейшего стеснения обработала мой вставший член и весело напрягшиеся яички. Я смотрел, как Коротышка и Энджел вместе ласкают грудь Молли и подумал, что третья зубная щетка могла бы принадлежать и Молли – собственно, почему бы и нет? Я невероятно возбудился: связанный, беспомощный, рядом – две полуобнаженные женщины, омывающие меня спиртом и пробуждающие во мне воспоминания о лихорадках моего детства. Частота БИПов на моем мониторе выросла до 110, и перед неминуемым взрывом Коротышка утащил куда-то Энджел.
О, небеса! Молли обрабатывала губкой всего меня, с ног до головы, покусывая и целуя, но не давая развязаться, и каждый раз, когда она приближалась ко мне, я пытался ее схватить, и количество БИПов подскакивало до 130. Она водила влажной губкой вверх и вниз по губчатому телу – эрегированной ткани моего члена, а потом начала ласкать, и лизать, и сосать мои яички, словно баюкая их. Я уже умолял развязать меня, но она продолжала меня ласкать и покусывать. Ну, вот и все! Вверх и вниз, укусы и поцелуи, и сиськи, а когда я уже не мог сдерживаться и готов был взорваться, она выскользнула из своих трусиков, оседлала мое лицо, и я почувствовал ее губы на моем члене. Мои обонятельные центры взорвались, и наша ракета, отбросив первую ступень, с дымом и грохотом устремилась в бескрайний космос.
«…Политические новости потрясают, и Никсон безумец и лжец, и я надеюсь ему отплатят за это…»
Мы лежали рядышком в полном изнеможении до тех пор, пока мое сердцебиение не успокоилось, а дыхание не восстановилось. Тогда она встала, поцеловала меня и ускользнула, задвинув за собой занавеску. А когда вернулась, я потребовал, чтобы она меня развязала ради всех святых! Ничего не ответив, она вновь принялась за мой член, и вскоре он уже не лежал поникшим, а стоял в полный рост, распевая марши, и тогда она взяла головку и прислонила ее к маленькому гребцу своей лодки, к своему клитору. Искры разорвали тьму – и она ввела меня внутрь и стала двигаться, как безумная. В этот момент я подумал, что, в конце концов, если мне сегодня суждено быть гомером, то я им и буду (за исключением члена), и я расслабился. Теперь она двигалась медленно и размеренно, как двигаются женщины, знающие свой ритм, а потом, заводясь, наклонилась ко мне.
– Энджел?
– Рой.
– Рой!
– Энджел.
«…Надеюсь ты остаешься собой и не перетруждаешься…»
– Я хочу сказать (жест, указывающий в небо), спасибо тебе (жест в сторону пола) за Коротышку.
И она благодарила меня, двигаясь вверх-вниз и постанывая, а потом схватилась за верхнюю койку и сказала, что это почти так же, как трахаться в ночном поезде, идущем через Европу, и прыгала вверх и вниз, как ребенок на батуте, а потом вдруг остановилась.
– Что произошло? – спросил я.
– Мне кажется (жест в сторону), там кто-то есть.
Мы прислушались, и, конечно же…
– О, господи Иисусе, Чаааак, Хээээйзел…
Крутые Бедра развязала меня, и вскоре мои освобожденные руки и ноги смогли обнять ее всю – внутри и снаружи одновременно, и я чувствовал себя гомером, искупавшимся в фонтане молодости Понсе Де Леона[58]58
Хуан Понсе де Леон – испанский конкистадор, во время поисков источника вечной молодости открывший Флориду.
[Закрыть]. Я перевернул ее на живот, и мы начали заниматься тем, что менее чувствительные люди назвали бы е…й. Трахая ее, я представлял себе, что разбиваю нос Легго, а потом Энджел зарычала и кричала что-то, что звучало как «е… меня, милый, е…», и частота сердечных сокращений на мониторе снова зашкалила, мои коронарные артерии протестовали и – БАМ! БАМ! БАМ! – вот оно, снова!!!
«…Надеюсь, что ты в порядке, и мы скоро увидимся…»
Чуть позже, когда мы все лежали, обнявшись, Чак напевал «На небе луна-ааа…», а мы все подтягивали «оу-воу-а-а…»… раздался стук в дверь.
– Проверка! – переполошилась Хэйзел.
Но последовало еще два удара – и вот она, Сельма, щебечущая; «Простите, ребятки, я опоздала» – и присоединяющаяся к нам. Потом все смешалось. Коротышка в объятиях Сельмы; Молли, Энджел и Сельма в объятиях друг друга; и я тону в море знакомых гениталий, чувствуя то одни, то другие, и куда-то проникаю; и я думаю, что третья зубная щетка могла принадлежать как мужчине, так и женщине, и понимаю, что эти женщины намного веселее, свободнее и раскрепощеннее нас. В конце концов, все мы пришли к выводу, что вечеринка вышла отличной, и пропели, пародируя нежные голоса со старых пластинок:
ЧУДО-ПРАЗДНИК НА ПРОЩАНЬЕ
ПОЛУЧИЛ ЛЮБИМЕЦ НАШ,
СЕКСУАЛЬНЫЙ, ГЕНИАЛЬНЫЙ
ДОКТОР БАШ!
9
– … потаскушки.
– Что? – переспросил я.
– Рой, ты хоть когда-нибудь меня слушаешь?
Это была Берри. Кто бы знал, где мы с ней сейчас были? Я ел устриц. Хотелось бы верить, что мы во Франции, в Бордо, и это устрицы Мари-Оперон. Или в Лондоне, и это устрицы из Уитстабла. Однако я подозревал, что мы в Штатах и что перед нами устрицы из Лонг-Айленда. И это мне не нравилось, так как именно в Америке находился Божий дом, который почти постоянно держал меня внутри себя, а те часы, на которые все-таки меня отпускал, были невыносимы: их было слишком мало. Я сказал Берри, что «хоть когда-нибудь» я ее слушаю.
– Я пересекалась с Джуди на днях, и она сказала, что постоянно видит тебя с какими-то потаскушками.
Американские потаскушки, американские устрицы…
– Что за черт! – сказал я. – Это ведь американские устрицы?
– Что? – Бери посмотрела на меня с удивлением, а потом поняла, что мыслями я где-то не здесь, и ее взгляд преисполнился сочувствия: – Рой, у тебя появляются свободные ассоциации!
– Не только они, но и какие-то потаскушки, если верить твоей Джуди.
– Ничего страшного, – сказала Берри, поддевая вилкой самую сочную устрицу, – я все понимаю. Примитивные процессы.
– Что за примитивные процессы?
– Примерно как у ребенка. Первичные биологические побуждения. Принцип удовольствия. Потаскушки, устрицы, даже я – любые удовольствия для разрядки, все сразу, и немедленно. Все, как у Эдипа: регресс от борьбы с отцом за мать к более примитивному, младенческому подходу к жизни. Я просто надеюсь, что ты, Рой, все-таки еще способен на какие-то не столь примитивные процессы и что ты найдешь в своем нарциссизме место и для меня. Иначе нашим отношениям крышка. Ты это понимаешь?
– Не очень, – сказал я, раздумывая, значит ли это, что она знает о Молли. Должен ли я сам начать разговор об этом? Наши отношения с Берри находились в состоянии некоего неустойчивого равновесия и держались на плаву лишь благодаря негласной договоренности о том, что каждый из нас имеет некоторую свободу. Я бы ничего не стал говорить. Зачем?
– Что у тебя дальше по расписанию?
– Дальше? – переспросил я, воображая себя астероидом на орбите Венеры. – С завтрашнего дня я в приемном отделении. С первого ноября до конца года.
– На что это будет похоже?
При этих словах я опять мысленно уплыл в Англию, к самому яркому моменту моих праздношатаний в годы учебы в Оксфорде. Это было первое лето с мини-юбками Мэри Куант[59]59
Модельер, считается изобретательницей мини-юбок (первые модели были представлены в 1962 году).
[Закрыть], я прогуливался по оживленной улице, и вдруг внезапно поднялся переполох – и я услышал «ИУУ-ИУУ-ИУУ» подъезжающей скорой. Пока она ехала вперед, мир вокруг нее останавливался, заинтересованный и озабоченный, и каждый мог на миг почувствовать себя свидетелем драмы, разворачивающейся внутри. Жизнь или смерть? Мороз по коже. И тогда я подумал: «Как бы здорово было бы оказаться там, куда приедет скорая». Эта мысль перевернула мою жизнь с ног на голову и в итоге привела меня сюда, обратно в Штаты, к устрицам из Лонг-Айленда, и к Молли, и к ЛМИ. И к Божьему дому. Но я не стал рассказывать об этом Берри, а сказал лишь:
– Мне кажется, что в приемнике им будет сложнее меня уничтожить.
– Бедняга, Рой, боишься даже надеяться. Ладно, давай, доедай.
Бомбы Уотергейта рвались одна за другой, и американцам стало очевидно, что никсоновская операция «Откровения» оказалась чудовищной ложью. В день, когда Леон Яровский был назначен специальным прокурором вместо Арчибальда Кокса, а Рон Зиглер отклонил предложение Киссинджера[60]60
Рональд Зинглер – пресс-секретарь Никсона; Генри Киссинджер – госсекретарь США.
[Закрыть] о публичном покаянии фразой «Покаяние – х…ня», я прошел через автоматические двери приемного отделения.
Предбанник казался пустым, но острый взгляд мог заметить какого-то старого алкоголика, притулившегося в углу. В ногах у него стояла огромная магазинная сумка. Отлично. Всего один пациент! Тишина, царящая в кафельных коридорах приемного отделения, была вполне мирной, но почему-то казалась угрожающей. Со стороны поста медсестер донеслось щебетание и веселый смех. Там сидела старшая сестра по имени Дини, чернокожая медсестра Сильвия и два хирурга: первый – резидент Гат из Алабамы, вечно жующий жвачку; второй – интерн по имени Элиху, высокий горбоносый сефардский еврей[61]61
Сефардские евреи – потомки евреев из Испании, Португалии, Италии, Южной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и бывшей Оттоманской империи.
[Закрыть] с безумным джуфро[62]62
Прическа «афро» (шар из волос на голове) у евреев.
[Закрыть] на голове. По слухам, Элиху был худшим хирургом-интерном за всю историю существования Божьего дома.
Парочка полицейских, Гилхейни и Квик, тоже были здесь. Увидев, что я вхожу в дверь, рыжий прогремел:
– Добро пожаловать! Добро пожаловать в этот маленький кусочек Ирландии в самом сердце еврейского Дома! Твоя репутация бунтаря идет впереди тебя, и легенды о твоих деяниях уже спустились сюда из отделений. И мы верим, что истории лечения и истории страсти, которые ты поведаешь, помогут нам скоротать те долгие и холодные ночи, которые нас ожидают.
– А как насчет еще одной истории об ирландцах и евреях, и прямо сейчас?
– Недавно, где-то во время Дней покаяния[63]63
Дни покаяния – в иудаизме 10 дней от Рош-а-Шаны (праздника нового года, выпадающего, как правило, на конец сентября) и Йом-Кипуром (Днем искупления).
[Закрыть], – сказал Гилхейни, – я слышал чудесную историю об ирландской домработнице, нанимавшейся в еврейский дом. Знаешь такую?
Я не знал.
– Ага! Итак, благочестивая ирландка хотела устроиться на работу в богатый еврейский дом, и было это как после празднований Рош-а-Шаны. Она решила спросить у швейцара, как вообще работается здесь. «Что ж, – сказал швейцар, – в целом тут недурно, дорогуша, и они очень хорошо относятся к прислуге. Вот, например, на Рош-а-Шану был большой праздничный обед, а потом сам глава семейства встал перед всеми нами и в знак благодарности дул в шофар»[64]64
Шофар – еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога животного.
[Закрыть]. Глаза ирландки расширились: «Вдул шоферу перед всеми?! И это ты называешь хорошим отношением?»
Когда смех стих, я решил узнать о пациенте с сумкой и спросил, хирургический он или терапевтический.
– Пациент?! Какой пациент? – всполошилась Дини.
– А, он имеет в виду Эйба! – догадался Флэш, санитар, выглядящий как результат серьезной хромосомной аберрации: почти карликовый рост, заячья губа и шрам, начинающийся от нижней губы и заканчивающийся неизвестно где. – Это не пациент, это Безумный Эйб, он здесь живет.
– Живет в предбаннике?
– Ну, в основном да, – сказала Дини. – Его семья когда-то пожертвовала на нужды Дома уйму денег. Теперь они все уже умерли, а Эйб остался бездомным, так что мы разрешаем ему жить здесь. Он, в целом, в порядке, не считая вечеров, когда в зале ожидания скапливается слишком много народу. А еще он слетает с катушек под Рождество.
Как это гуманно – позволить несчастному старику жить в предбаннике! Парочка полицейских, смена которых подходила к концу, засобирались.
– Для ночного полицейского, – сказал Квик, – не может быть ничего лучше, чем холодной злой ночью попасть сюда, в тепло приемного покоя, и пить здесь кофе. Когда наши дежурства совпадут, мы снова увидимся. Доброго утра – и благослови тебя Бог!
– Совсем скоро ты познакомишься с резидентом из психиатрии, фрейдистом Коэном, – добавил Гилхейни на прощание.
– С ходячей энциклопедией, – закончил Квик, и двери за ними закрылись.
Дини повела нас с Элиху на экскурсию по нашим владениям. Она была весьма привлекательна, но что-то в ней пугало. Что это было? Ее глаза. Ее глаза были пустыми и темными, в них не было жизни. Она работала в этом аду уже двенадцать лет. Она показала нам различные кабинеты: гинекологический, хирургический, терапевтический… Последним оказался кабинет № 116, который она любовно называла «Гранатовой палатой».
– Это имя дал ей Даблер много лет назад. «Гранатовая палата Даблера». Сюда помещали самых буйных гомеров. Как-то ночью их тут собралось трое. И тогда Даблер собрал всех нас, вынул из кармана гранату, выдернул из нее чеку, забросил в палату, быстро закрыл дверь и стал ждать взрыва.
Мы с Элиху переглянулись, не в силах поверить тому, что услышали.
– Расслабьтесь, граната оказалась учебной, – успокоила нас Дини.
Мы вернулись к центральному посту, где уже скопилось довольно много папок с данными о пациентах: в отделение начали прибывать вкусно позавтракавшие и выпившие по паре чашечек кофе экстренные больные[65]65
Утром в приемных отделениях обычно и в самом деле тихо. Первая волна пациентов начинается в 10–11 утра, к 16–17 часам отделение переполняется и начинает походить на поле боя: с пациентами в коридорах, со стонами, судорогами и криками.
[Закрыть]. Предбанник заполнился. Видя эту толпу, Безумный Эйб, начал нервничать, и никто не мог предсказать, что случится, если он запсихует всерьез. Гат пошел на передовую – и занялся распределением тех, кто толпился вокруг Эйба[66]66
Распределение – основа работы приемного покоя. Необходимо быстро выявить в толпе людей пациентов с реальной проблемой и провести вперед. Обычно этим занимается медсестра.
[Закрыть]. Медсестры в это время занимались превращением людей в пациентов: переодевали их в больничные пижамы, измеряли температуру и давление. Дини обратила свои пустые глаза на нас с Элиху и сказала:
– Ну вот, все готово. Вперед. Начинайте.
И мы начали.
Я стоял у гинекологического кабинета и изучал первую историю: «Принцесс Хоуп, шестнадцать лет, чернокожая, боли в животе». Я чувствовал себя примерно так же, как в первые дни интернатуры. Что я знал о болях в животе? У меня тоже иногда болел живот, но у женщин-то все по-другому. У них там слишком много органов, и боль могла быть вызвана и трудностями переваривания сэндвича с тунцом, и внематочной беременностью, которая убьет ее через час.
– Да заходи уже туда, – закричала медсестра Сильвия, – нет у нее ничего страшного!
Я зашел. Я знал, что в девяти случаях из десяти в этом кабинете мне придется иметь дело со всякой ерундой: венерические заболевания, цистит, молочница или сэндвич с тунцом. Но мне казалось, что как раз этот случай – десятый. Аппендицит.
Я вернулся к посту, и Сильвия заявила:
– Если ты будешь тратить на каждого пациента столько времени, сможешь осмотреть за день не больше десятка. И тогда Эйб тебя убьет!
– Я думаю, это аппендицит.
– Да ты что! Вы только послушайте это! Где же мой скальпель?
Услышав слово «скальпель», ко мне немедленно подошел Гат. Он с заинтересованным скептицизмом выслушал мою сбивчивую речь – и вошел в кабинет. Страшась за свою репутацию, я ретировался в сортир. Через пару минут из-за дверей раздался голос Гата:
– Баш, парень, ты там?!
– Да.
– Можешь выйти?
– Зачем?
– Хочу тебя поздравить. Я, Дуэйн Гат, хирург-резидент этого приемника, полагаю, что ты вытянул приз. Дай пять.
– Приз?
– Приз. Аппендикс. Режем скальпелем, находим его, извлекаем – и ты сохраняешь его у себя как приз! Слушай: ТОЛЬКО ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ ПРИНЕСЕТ ИСЦЕЛЕНИЕ, Баш! Ты предоставил голодным хирургам шанс чуть-чуть порезать, а ПОРЕЗАТЬ – ЭТО ИСЦЕЛИТЬ. Мы почикаем старушку Принцесс быстрее, чем ты произнесешь «скальпель»!
Я облегченно вышел из кабинки и предстал перед сияющим лицом доброго хлопца из Алабамы, только что получившего шанс разрезать человеческую плоть[67]67
Энтузиазм Гата объясним. Хирургические резидентуры работают по принципу пирамиды, переход на следующий год не является гарантированным, и для перехода на следующий год в числе прочего нужно набрать определенное количество операционных часов. Поэтому конкуренция у хирургов очень высокая.
[Закрыть].
Почувствовав себя увереннее, я пошел осматривать остальных пациентов. Меня немедленно захлестнуло волной старушек без острых проблем и гомеров с болезнями всех систем организма сразу (при этом степень их тяжести, если верить учебникам, была несовместима с жизнью). Встречались единичные пациенты с серьезными проблемами. Я бегал среди них, делая все то, чему научился в отделении: собирал анамнез, осматривал, ставил вены, вводил назогастральные трубки и катетеры Фолея… Осмотрев трех гомеров подряд и начав лечение, которое вернет их в счастливое слабоумное состояние, я вернулся на центральный пост – и обнаружил, что под моим именем уже скопилось с десяток новых папок. Меня накрыло чувством беспомощности. Я не понимал, как я смогу разобраться со всем этим. Как я могу помочь им всем? И как мне при этом выжить?
– Ты хочешь здесь выжить? – спросила Дини, отводя меня в сторону.
– Да.
– Отлично. В этом случае запомни два правила. Первое: лечи только тех, чья жизнь под угрозой прямо сейчас. Второе: СПИХИВАЙ все остальное. Ты же знаком с концепцией СПИХИВАНИЯ?
– Да, Толстяк научил меня.
– Да? Вот и отлично. Тогда с тобой все будет в норме. Делай то, что он говорил: ПОЛИРУЙ и СПИХИВАЙ. Слушай, бывает довольно трудно отличить экстренных пациентов от всякого шлака[68]68
В США приемные отделения наводняют пациенты с не особенно серьезными проблемами, и это отнимает очень много времени. Типичные диагнозы: хроническая боль в спине, хроническая одышка, закончились наркотики, негде переночевать и тому подобное.
[Закрыть], особенно в праздники, а еще труднее их СПИХНУТЬ без риска возвращения. Это своего рода искусство. Но если это не экстренная ситуация, мы не обязаны с этим разбираться. А теперь возвращайся обратно и начинай ПОЛИРОВАТЬ И СПИХИВАТЬ!
Какое облегчение! Знакомые по работе с Толстяком концепции, твердая почва под ногами. Эти организмы, ищущие пристанища, не найдут его здесь: их выгонят обратно домой или на улицу; либо отправят в отделения; либо – если они умрут – увезут в морг. Здесь может появиться самый гротескный, вопящий и разваливающийся на глазах гомер, но я буду спокоен, так как вскоре я обязательно СПИХНУ его куда-нибудь еще. Мысль о том, что предоставление лечения здесь заключается в ПОЛИРОВКЕ и СПИХИВАНИИ страждущих медицинской помощи куда-нибудь еще, захватила меня. Принцип вращающихся дверей, и главная вращающаяся дверь всегда будет находиться в конце пути, на пороге вечности…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.