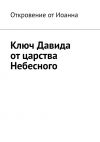Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
– Голливуд?
– Голливуд! Звездные кишечники!
Это потрясало. Впервые я видел такое яркое сияние истинной гениальности.
– Толстяк, это умопомрачительно! И ты весь год держал эту частную практику?
– Конечно. Как только получил лицензию в прошлом июле. Какой смысл становиться лицензированным доком, если ты этим не пользуешься, «чтобы облегчить боль и страдание»? Терапевт общей практики – это прекрасно. Все это мои соседи, мои пациенты. Кеннеди сказал бы: «Спрашивай не о том, что твоя страна может дать тебе, а о том, что ты можешь дать кишечникам своей страны».
– То есть все вышло так, как ты хотел?
– Как и вся история моей жизни, Баш! В конце концов все срабатывает!
– Толстяк, тебе это может показаться глупым, но я пришел сюда сказать, что мне очень жаль, что я воевал с тобой. А еще… чтобы сказать спасибо.
– Все в порядке, Баш, ты ничего не должен говорить.
– Заткнись, ты, жирдяй, и слушай, – сказал я, улыбаясь при виде демонстративной покорности на его лице. – Ты протащил меня через это!
– Берри протащила тебя. Замечательная женщина. Я бы хотел себе такую!
– ЗАТКНИСЬ, ТОЛСТЯК! – заорал я, швыряя в него кусок «Анального зеркала». – За этот год я постепенно отбрасывал от себя всех, пока со мной не остался лишь ты. Отбросив тебя, я развалился на части.
– Нет, Рой, – серьезно сказал Толстяк, – все развалилось на части, когда сломался Эдди и умер Потс. Никому не удалось устоять после этого.
– Правда. Но ты показал мне, что можно оставаться врачом и одновременно самим собой и что помимо Легго и Путцеля есть и другой путь. – Я помолчал, собрался и сказал: – Толстяк, ты чудо. Спасибо. Спасибо за все. – Я замолчал и смотрел в его спокойные глаза, выражающие радость.
Какое-то время мы сидели молча. Потом я вздохнул и сказал:
– Проблема лишь в том, что твой путь – не для меня. Я не могу заниматься гастроэнтерологией. Я сомневаюсь, что вообще могу остаться в медицине. Это не для меня.
– Ты хочешь сказать, что не можешь найти часть туловища, которой готов заниматься всю оставшуюся жизнь? – с сарказмом спросил Толстяк. – Почка? Селезенка? Прямая Кишка? Зуб?
Мой отец – дантист. Это невообразимо. Даже мой дед, иммигрант, не позволял себе пасть так низко. Я помню, как мама рассказывала, как ее мама однажды взяла ее и мою тетку Лил посмотреть на то, как «папа работает»: он был как пчела в золотых металлических сотах, высоко в небе, они видели его, возводящим сверкающий купол башни Крайслера, самого высокого на тот момент здания в городе, а может быть, и в мире. И вот теперь, после всех этих лет, я должен выбрать зуб?! Чувствуя себя в тупике, я безнадежно сказал:
– Я не могу себе это представить.
– Я знаю. Очевидно, что это не для тебя.
– Но что тогда?
– Думаешь, я знаю? Большое дело. Лети высоко. Наслаждайся, Баш. Великие умы не должны зацикливаться на чем-то одном.
– Да, но мне нужно что-то решать, – потерянно сказал я. Когда после долгих лет скольжения по заданной траектории я встал перед выбором, мне стало не по себе. – Я не знаю, что делать.
– Делать? Ну, в Бруклине мы в таких случаях всегда делали вот так, – сказал Толстяк и сплел свой мизинец с моим. – Сцепляли мизинцы.
– Сцепляли мизинцы?
– Ага. Это то, что мы делали в Бруклине, когда не знали, что делать.
Шутка? Но нет, его лицо оставалось искренним и серьезным. Я чувствовал, как его толстый мизинец обхватывает мой. Внезапно я понял, что он имел в виду. Это был совершенный волшебный миг. Он почувствовал пустоту во мне – и заполнил ее. Он показал, что я не одинок. Мы были связаны. Это была любовь, это было понимание. Независимо от обстоятельств мы с Толстяком останемся друзьями.
– Для толстого парня ты не так уж сильно потеешь, – сказал я, засмеявшись.
– Жизнь тяжела, но даже толстый парень может поститься на Йом-кипур.
Мы с Берри смеялись над «гвоздем номера» в «Докторских женах», статьей, рассказывающей о потрясающей, идеальной жене: «зная о глубинном смысле, который несет ужин для доктора», когда ее великий муж-доктор отправится на экстренный вызов, который может надолго его задержать (а еда тем временем остынет), она научилась «сохранять свежесть ростбифа на многие часы», заворачивая его в алюминиевую фольгу и держа на блюде, поставленном на медленный огонь. Я рассказал Берри про гнездышко, которое свил себе на верхней койке в дежурке, и спросил, не является ли это очередной регрессией.
– Нет, я думаю, что это интеграция. Ты пытаешься выработать план дальнейших действий. Теперь, когда ты знаешь, что можешь быть врачом, ты думаешь о том, чтобы отказаться от медицины и двигаться дальше. Чем ты все-таки думаешь заняться?
– Отправиться с тобой во Францию. Может быть, год не работать.
– Но что ты скажешь Легго?
– Я не знаю. Я ненавидел все это. Целый год. Все это было дерьмом.
– Это не так. Толстяк, полицейские, твои приятели. Они же тебе нравились! И тебе нравилось разговаривать с пациентами в амбулатории, не так ли?
– Только, если мне не приходилось заниматься чем-то медицинским.
– В приемнике ты был очарован Коэном, – сказала она задумчиво. – Почему бы тебе не стать психиатром?
– Я? Психиатр?!
– Ты, – сказала она, глядя мне в глаза. – Быть с людьми – единственное, что поддерживало тебя в этом году, Рой. А «быть с» – это и есть суть психиатрии.
У меня в голове щелкнуло. Я попросил ее еще раз повторить последнюю фразу.
– «Быть с» – это и есть суть психиатрии. Ты всегда смотрел на мир под своим, особым углом. Психиатрия может оказаться как раз тем, что тебе нужно.
«Быть с». Доктор Сандерс, умирая, сказал, что главное для врача – это быть рядом со своими пациентами.
– Ты имеешь в виду «быть с пациентами»?
– Не только. Даже со своей семьей.
– Семьей? Моего деда СПИХНУЛИ гнить в богадельню. Мой отец…
«…Нет ничего лучше в болезни, чем быть с кем-то, кому можно довериться, и врач идеально для этого подходит…»
– Ты говоришь, что психиатрия действительно может что-то дать пациентам? Это отличается от терапии. Можете ли вы что-то излечить?
– Иногда. Если болезнь замечена на ранних стадиях.
– То есть главное – это то, что психиатр может сделать что-то для пациентов?
– Нет, главное – что ты можешь сделать что-то для себя.
Ошеломленный, я спросил ее, что она может сделать сама для себя.
– Расти. Вместо того, чтобы забывать, ты пытаешься вспомнить. Вместо защиты и поверхностного взгляда – стараешься открыться, стать свободнее, копать глубже. Ты творишь себя. Основной инструмент психотерапии – ты сам и то, кем ты можешь стать.
Мне было сложно осознать это. Неожиданно в хаосе появился просвет. Я могу стать кем то, кого я не презираю? Перестать привязываться к собственному прошлому? Избавиться от избегания, нетерпения, вспышек ярости, презрения к миру? Взволновавшись, я спросил ее, есть ли что-нибудь, что мне можно было бы об этом почитать.
– Фрейд. Начни с «Печали и меланхолии». Там Фрейд пишет: «Тени потерянных объектов накрывают эго». Ты был накрыт этой тенью целый год.
– Какой тенью?
– Своей тенью.
Моя хранительница человечности, моя Берри. Как мне потребовалось вырасти для того, чтобы любить ее, принимать ее, заботиться о ней в этот калечащий год.
– Я люблю тебя, – сказал я. – Я пережил этот кошмар лишь благодаря тебе.
– В какой-то степени да. И ты прав, эта интернатура похожа на собрание детских кошмаров: агрессия, страх отмщения, а затем финал, в котором ты не побеждаешь, но выживаешь. Это чистейшая тема Эдипа: мать, отец и ребенок.
«…Надеюсь, ты закончишь хорошо и получишь бесценный опыт. Теперь ты можешь решить многие медицинские проблемы, и еще столько всего нужно узнать. Я волнуюсь по поводу мирового экономического кризиса, и теперь держать деньги в банке не имеет никакого смысла. Не знаю, что говорила тебе мать, но это было правдой и основой всего. Я знаю, что ты волнуешься о нас, как сын, и это никогда не изменится. Расстояние и обстоятельства не дают нам видеться чаще, и это неизбежно в наши дни. Я хотел бы поиграть в гольф с моим старшим сыном и надеюсь, что это вскоре случиться. Моя страсть к этой игре безгранична, и я действительно наслаждаюсь этим…»
7
Расставшиеся с иллюзиями, разочарованные, не желающие оставаться в Доме в качестве резидентов и не знающие при этом, что делать дальше, мы нуждались в помощи. Мы обратились к Толстяку. Во время десятичасового ужина мы спросили его, что нам предпринять.
– По поводу чего?
– По поводу того, на какую специальность пойти первого июля.
– Сделайте то, что все сейчас делают. Проведите симпозиум.
– На какую тему? – спросил Эдди, глаза которого из-за транквилизаторов были слегка расфокусированы.
– На тему «Как выбрать специальность». На какую же еще?
– А кто его проведет? – спросил Коротышка.
– Кто? – улыбнулся Толстяк. – Я. Звезда кишечных обследований кинозвезд.
Слух о предстоящем симпозиуме быстро разошелся, и в назначенный день на него собрались студенты и терны со всего Дома. Даже Гилхейни и Квик присоединились к нам. Толпа, переполнившая комнату, затихла, и Толстяк начал:
– Система медицинского образования порочна насквозь. К тому моменту, когда мы понимаем, что не будем докторами из телевизора, раздевающими загорелых красоток, а будем докторами Дома, проводящими ручную раскупорку кишечника гомерам, мы уже вложили в наше образование слишком многое, и мы не можем развернуться и просто уйти. Это приводит нас к той патовой ситуации, в которой находитесь вы сейчас. Все должно быть наоборот. В первый же день практики надо приводить блюющего от страха студента ЛМИ к койке Оливии О. – и ее горбы отвратят потенциальных хирургов, а ее несовместимые с жизнью параметры и ее нежелание ни умереть, ни излечиться – будущих умников-терапевтов. Даже будущие гинекологи, увидев поле своей будущей деятельности, обратятся к стоматологии. А потом и только потом тех, у кого хватит выдержки, можно учить дальше.
Как мы и ожидали, начало было прекрасным. Но как это может помочь нам сейчас?
– Сейчас эти мои слова вам уже не помогут, так как к этому моменту вы уже вложились по полной программе, и вы в ловушке. И что теперь? Теперь перед вами множество специальностей, из которых вы можете выбирать. Большинство из них предполагает тот самый близкий контакт с пациентами, уход за ними, которым вы наслаждались весь прошедший год, а также прилагающуюся к этому пытку ночными дежурствами. Это специальности, предполагающие «прямую заботу о пациентах». Они сегодня здесь обсуждаться не будут. Мазохисты могут покинуть зал.
Никто не ушел.
– Я сам выбрал специальность, подразумевающую прямую заботу о пациентах – гастроэнтерологию. У меня есть на это причины. Я – особый случай. Для моих планов гастроэнтерология подходит лучше всего. Повезло, не так ли? Но теперь про специальности, которые не требуют заботы о пациентах. Вариантов всего шесть: лучи, газы, трупы, кожа, глаза и психи[99]99
Радиология, анестезиология, патологическая анатомия, дерматология, офтальмология, психиатрия.
[Закрыть].
Толстяк написал эти шесть слов на доске и сказал, что сейчас с нашей помощью перечислит плюсы и минусы каждой из специальностей.
– Теория игры, – сказал он. – Таблица, которая получится в результате, поможет вам принять решение и выбрать специальность. Итак, первое – лучи. Преимущества радиологии?
– Деньги, – сказал Чак, – много денег.
– Точно, – сказал Толстяк, – реальная возможность сделать состояние. Еще плюсы?
Но помимо по умолчанию подразумевающегося отсутствия ухода за пациентами, других плюсов никто не нашел, и тогда Толстяк спросил про минусы.
– Гомеры, – сказал я, – приходиться проводить тесты на гомерах.
– Нарколепсия, – добавил Хупер, – ты все время находишься в темноте.
– Гонады, – сказал Коротышка, – рентгеновские лучи могут поджарить твои сперматозоиды. Твой первый ребенок окажется одноглазым, двузубым и с восемью пальцами на каждой руке.
– Отлично, парни, – сказал Толстяк, записывая все это. – Мы движемся вперед!
Мы создали таблицу специальностей, не подразумевающих прямой заботы о пациентах:

*У каждой специальности, не подразумевающей прямую заботу о пациентах, также имеется такое преимущество, как отсутствие прямой заботы о пациентах.
** По данным Берри, психиатра и клинического психолога.
По окончании симпозиума выяснилось невероятное. На бумаге психиатрия побеждала с огромным отрывом.
После сплава на каноэ привлекательность психиатрии стала еще очевиднее. Этот последний совместный выезд интернов организовал Чак, и теплым, ярким ветреным летним днем мы сдали наших пациентов старшим резидентам, загрузили пиво и отправились к подножию холмов – на берег реки, петляющей через заросли, устремляющейся в сторону океана. Мы с Берри лениво гребли вниз по течению, соревнуясь за последнее место с двумя полицейскими. Гилхейни, который был на веслах, громко ругал своего рулевого, Квика, так как их каноэ постоянно врезалось то в один, то в другой берег. Но все же что могло быть лучше, чем летним днем плыть по течению, пить прохладное пиво, слушая, как глубокий баритон рыжего и настойчивый тенор его друга исполняют дуэтом «Плач изумрудного острова»?
Мы высадились на маленьком острове и устроили пикник в сосновой роще. Вскоре все окружили Берри. Она слушала о нашем недовольстве, и соглашалась с тем, что этот год был кошмаром.
– Это было бесчеловечно. Неудивительно, что доктора остаются бесстрастными перед лицом даже самой большой человеческой трагедии. Проблема даже не в черствости, а в отсутствии глубины. Большинство людей как-то чисто по-человечески, эмоционально реагируют на свою повседневную работу – но не врачи. Это парадоксально: они так сильно деградируют, но при этом остаются востребованными обществом. В любом сообществе врачи – одна из наиболее уважаемых групп.
– Ты хочешь сказать, что это все обман? – спросил Коротышка.
– Бессознательный обман, безумное подавление, которое позволяет докторам верить в то, что они действительно являются могучими целителями. Если вы слышите, что кто-то из вас говорит: «А что, этот год был не так уж плох», значит, этот человек просто подавляет свои чувства – чтобы в следующем году провести следующих за вами интернов через то же самое.
– Что ж, моя умная женщина, – вступил Гилхейни, – по какой же причине тогда эти прекрасные молодые люди пошли на это?
– Потому что очень сложно сказать «нет». Если ты с шестилетнего возраста запрограммирован на то, чтобы стать врачом, если ты вложил в это годы, и развил свое искусство подавления до такого состояния, что уже не можешь вспомнить, как хреново тебе было в интернатуре, ты уже не можешь все это бросить. Может ли звездный игрок самоудалиться из игры? Да никогда!
Она была права. Что мы могли ответить? Мы сидели, притихнув, наблюдая, как медленно растут вечерние тени. Берри ответила на несколько вопросов о психиатрии, и постепенно наш пикник начал превращаться в групповую сессию, основной темой которой была потеря.
– О какой потере ты говоришь? – спросил Чак.
– Каждый из вас потерял что-то за этот год. Я знаю об этом в основном из рассказов Роя, но я слышала и про Браки На Костях, и про Отношения На Костях, и про срыв Эдди, и… – она замолчала, но продолжила дрожащим голосом: – … и про Потса. Вы потеряли Потса. Если бы вы чувствовали эту потерю, вы бы до сих пор плакали. Вы сломлены грузом вины, вы сломлены осознанием того, что убили в себе сочувствие.
В погружающейся в сумерки роще повисла тяжелая и мрачная, как саван, тишина. Я почувствовал, что задыхаюсь. Что я потерял? Дни вроде этого, стремление к творчеству, способность любить. Мрак. Застой. Рок.
Наконец, когда солнце почти закатилось за красневшие вдали холмы, Гилхейни тихо спросил:
– Эти люди покалечены. Можно ли что-то сделать для них?
– Чувство вины невозможно подавить, оно как горячая картошка – тот, кто будет долго держаться за нее, непременно получит ожог. Бросьте это! Прекратите! Разозлитесь! Выместите зло на тех, кто сделал вас такими. Есть ли в Доме психиатр, с которым вы бы могли поговорить?
Есть! Доктор Фрэнк, психиатр, который выступал перед нами в наш первый день в Доме. Он тогда упомянул о самоубийствах, а Рыба заставил его замолчать. Он молчал целый год. Почему? Возвращаясь в наших каноэ обратно, мы слышали шум океана, и каждый думал о том, что потерял. Сможет ли доктор Фрэнк помочь нам это вернуть? А к тому времени, когда светлячки начали свой ночной танец, мы задумались, как выместить нашу ярость на тех, кто похитил части наших душ, этих грабителей, боссов Дома потерь.
В эту ночь я дежурил. Я прибыл из нашего путешествия на каноэ со стертыми ладонями, с опьянением, которое уже начинало переходить в похмелье, моя голова была заполнена тем, что говорила Берри, и я злился на то, что должен был опять возвращаться в Дом. Было жарко и влажно, и выступивший пот напомнил мне об ужасном прошлом лете, когда я стал новым терном в Доме. Все это уже было. В приемнике меня ожидало новое поступление. Он было экстраординарным. Уже с порога ко мне бросился Жемчужина, пытавшийся рассказать о пациенте, но мне не хотелось его слушать, так что я просто взял историю болезни и прочитал: «Нэйт Зок, 63 года, кровавый понос, доброкачественный полип кишечника». Не удивительно, что Жемчужина пытался со мной поговорить. Зок из Зоков БИТа и крыла Зока, перегородившего вид на лето, открывавшейся из окна моей дежурки.
Я вошел в комнату, Жемчужина, уже начинавший впадать в раздражение, семенил за мной. Я ни разу не видел столько человеческой плоти сразу. Шестеро огромных, бизонообразных Зоков столпились вокруг каталки, причмокивая, чавкая, шлепая губами, отдавая щедрую дань оральной стадии развития по Фрейду. Сверкая бриллиантами запонок, Жемчужина представил меня толстым детям Нэйта Зока, в то же время пытаясь отогнать их от каталки, где предположительно лежал сам Нэйт Зок. Когда они расступились, нашему взору предстала птицеобразная женщина с искусственными черными волосами, злобным взглядом и противным голосом. Услышав мое имя, она сказала:
– Ну что, молодой доктор Килдер, самое время появиться, да?
– Трикси, – раздался властный голос с каталки, – заткнись!
Она так и сделала. И вот он, Нэйт Зок, выглядит на свои шестьдесят, пористая кожа, слегка покрасневший от любви к выпивке нос, решительное лицо, держится как хозяин положения. Несмотря на волнение окружающей его толпы, сам он оставался спокойным. Жемчужина еще раз представил меня и вышел. Я немедленно был окружен толпой не-Нэйтов Зоков. Все они требовали информации, диагноза, прогноза, степени чрезвычайности положения, а также опасались, что Нэйт получит не самую лучшую палату в Доме. Для решения последней проблемы Трикси настойчиво шипела мне в ухо: «Вы знаете, кто такой Нэйт Зок? Вы слышали про крыло Зока, а?» Минуты три я слушал все это и терпел, а потом начал закипать и громко сказал:
– Все, кроме Нэйта, выйдите отсюда немедленно.
Шок. Никто не сдвинулся с места. Разговаривать с Зоками таким тоном?
– Ну-ка, подождите минуточку, молодой человек…
– Трикси, заткнись и убирайся! – сказал Нэйт.
Когда говорил Нэйт Зок, его слушают даже другие Зоки. Палата быстро опустела. Я начал осмотр.
– Они слишком жирные, – сказал Нэйт. – Мы пытались что-то сделать с этим, но ничего не помогает. Знаешь, доктор Жемчужина рассказал о тебе, Баш, и предупредил меня, что ты хороший врач, но очень прямолинеен. Мне это нравится. Доктора должны быть жесткими. Когда ты так богат, как я, люди не до конца честны с тобой.
Я кивал, продолжая осмотр, и спросил, что у него был за бизнес.
– Болты и гайки. Начал с пятисот баксов, но после Великой депрессии ворочал миллионами. Болты и гайки, не самые лучшие, но зато очень много.
Я сказал Нэйту, что если просто поберечь его кишечник и ничего с ним не делать, то тот, скорее всего, заживет сам. Когда я заканчивал, в комнату просунула голову Трикси, расстроенная тем, что Нэйт получит не самую-самую лучшую, а только вторую из лучших палат. Нэйт опять приказал ей заткнуться и сказал:
– Ну и что? Мне всегда дают самую лучшую палату, где меня никто не навещает. Так что как-нибудь переживу. Вот что случилось с детьми, которые всегда получали только самое лучшее? Жир. Они стали слишком жирными.
У 789 был тяжелый день. Он увяз в лабиринте тестов, назначенных Оливии О. ее частником, Малышом Отто (который все еще не получил признания в Стокгольме), кроме того, Семь был расстроен отсутствием какого-либо прогресса в диагностике горбов. После этого при осмотре первого сегодняшнего поступления Семь с резидентом из радиологии нашли образование на рентгене легких. Когда он рассказал мне об этом, я охладил его пыл новым ЗАКОНОМ ДОМА: «ЕСЛИ РЕЗИДЕНТ ИЗ РАДИОЛОГИИ И СТУДЕНТ ВИДЯТ ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕНТГЕНЕ ЛЕГКИХ, НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ». Семь продолжал настаивать на своем, но в конечном счете «образование» оказалось браслетом лаборанта, случайно попавшим в кадр, что окончательно добило беднягу. Я пытался его подбодрить, но это не помогло, и я сдался. Я не буду ничего делать для кого бы то ни было этой ночью.
– Семь, – сказал я, свешиваясь с верхней койки, – я собираюсь спать. И я хочу, чтобы ты переоделся сейчас, а то придешь среди ночи, начнешь стучать и разбудишь меня.
Полуприкрыв глаза, я смотрел, как этот невысокий бородатый парень переодевается в неоновом свете, обнажая свой прыщавый и уже оплывший торс. Вдруг Семь остановился. Я спросил, в чем дело. После долгого раздумья, так ему свойственного, он спросил:
– Доктор Баш, у меня осталось работы еще на несколько часов, а вы уже закончили и собираетесь спать. Почему так получается, что я остаюсь без сна всю ночь?
– Очень просто. Ты же математик, правильно? Смотри, я получаю фиксированную зарплату независимо от количества часов, которые бодрствую. Ты платишь фиксированную плату за обучение ЛМИ независимо от количества часов, в течение которых ты спишь. Соответственно, чем больше я сплю, тем выше моя почасовая оплата, и чем меньше спишь ты, тем ниже твоя плата за обучение.
После паузы Семь сказал:
– То есть вам платят за то, что вы спите, а я плачу за то, чтобы не спать?
– Именно. Выключи свет, когда будешь уходить, приятель. Да, запомни, Нэйт Зок – пациент не для студентов. Если ты заговоришь с ним, даже если просто поздороваешься – ты покойник. Спокойной ночи.
Я слышал неуклюжие шаги нашего математического гения и чувствовал его озадаченный взгляд. Затем свет выключился, и я уснул.
На следующее утро вокруг что-то изменилось. Началась небольшая эпидемия. Никогда в истории Божьего дома не случалось ничего подобного. Сначала это был небольшая струйка, потом – ручеек, затем – мощный поток, стремящийся к океану. Неожиданно сразу пятеро тернов оказались зараженными мыслями о психоанализе. Мы начали ПОЛИРОВАТЬ себя для СПИХА в психиатрическую резидентуру с первого июля.
Мы дружно взялись за изучение Фрейда. Мы преследовали доктора Фрэнка. Сначала его порадовал интерес, который проявил Эдди к психиатрии в Доме, но после того, как к нему обратились еще четверо тернов, Фрэнк побежал обсуждать ситуацию к Легго. Мы требовали консультации психиатра для наших пациентов, мы взяли за правило посещать психиатрические обходы, резко выделяясь нашими грязными халатами на фоне ухоженных психиатров, и демонстрировали там свое невежество, задавая короткие вопросы о потере, ярости и чувстве вины. На конференции, посвященной малоизученному аутоиммунному заболеванию, Хупер потряс нас всех, предложив психоаналитическую интерпретацию, основанную на влечении к смерти по Фрейду. Эдди, все еще соревнующийся с Хупером за пресловутого «Черного ворона», настолько восторгался идеями Фрейда об анальном садизме, что у него развился лицевой тик. А Чак увлекся пассивно-агрессивными типами личности и обнаружил, что испытывал патологическую близость к своей матери в то время, когда отец сидел на работе и читал вестерны. Он прибежал с новостями:
– Старик, это потрясающе, я не гей, но все в моем анализе указывает на то, что я пидор!
Коротышка, конечно же, погрузился в учение того, кого Толстяк назвал «венским умником», глубже всех, и у него появились навязчивые мысли о том, что означает то, что Энджел с его согласия вытворяет с его лицом. Он сказал:
– Кажется, со мной что-то не так.
Я продолжал заниматься самоанализом, валяясь на верхней койке в дежурке, составляя свой психологический портрет и пытаясь найти и собрать кусочки себя.
Наконец наступил день, получивший название «Поговори с Легго о будущей карьере». Легго слышал о психоаналитической эпидемии, но не придал этому значения. У него не было сомнений в нашем будущем: нас ждал год резидентуры в Доме, до первого июля оставалось меньше месяца, и надо было составлять расписание ночных дежурств. Так что Легго несколько удивился, услышав, как Коротышка, Хупер и Эдди по очереди заявляют:
– Сэр, я думаю начать резидентуру в психиатрии.
– Психиатрия?
– Да, с первого июля.
– Но это невозможно! Вы согласились остаться на год в резидентуре. Я рассчитываю на вас, моих парней.
– Да, но видите ли, это важно и очень срочно. Многое произошло, и многое предстоит осмыслить, мне есть над чем работать, и это не может ждать.
– Но в вашем контракте написано…
– У нас же нет контракта, вы забыли?
Легго действительно не помнил, что администрация Дома не стала подписывать с тернами контрактов, так как контракт лишил бы их возможности обращаться с нами, как с дерьмом. Он спросил:
– Нет контракта?
– Нет, вы же сами сказали, что он нам не нужен.
– Я сказал? Гхм… – пробормотал Легго, глядя в окно. – Как же так? Всем нужен контракт. Всем!
Когда и Чак упомянул психиатрию, Легго взорвался: «КАК?! ТЫ ТОЖЕ?!»
– Без дураков, шеф. Этой стране нужен высококлассный черный психиатр.
– Да, но… но ты же так хорош в терапии! И ты выбрался из нищеты провинциального Юга, ведь твой отец сторож, в Обер…
– Точно, точно. И представьте, сегодня я был в амбулатории, и одна тетка разозлилась на меня и швырнула в меня учебником, ударив меня по уху, но вместо того, чтобы дать ей в глаз, я сказал: «Мэм, возможно, вас что-то разозлило, а?» И тогда я стал думать о психиатрии. Я завтра встречаюсь с доктором Фрэнком и собираюсь подвергнуться анализу.
– Но ты не можешь начать с июля. Мне так нужны мальчики, вроде тебя.
– Мальчики? Вы сказали «мальчики»?
– Ну я… я имел в виду…
– Вы хотите, чтобы я прислал к вам Роя прямо сейчас?
– Баша? Гхм. Ты не в курсе, какие у него планы на будущее?
– В курсе.
– Психиатрия?
– Точно.
– Что ж, в таком случае можешь не отправлять его ко мне.
И я так и не встретился с ним. Хотя Берри и объяснила, что Легго покорежило системой, я был слишком зол, чтобы не сравнивать его с Никсоном, прижатым Сирикой и Верховным судом из-за его стертых записей. Это был сам Легго, стоявший вместе с Сент-Клером[100]100
Джеймс Сент-Клер – адвокат, представлявший Никсона во время Уотергейтского процесса.
[Закрыть] на борту президентской яхты «Секвойя», слушающий гимн и злобно говорящий после его окончания: «Тебе платят копейки, но вот то, ради чего это имеет смысл»[101]101
Фраза Никсона, вошедшая в учебники корпоративного менеджмента.
[Закрыть]. Берри была права, он был нелеп и жалок. Но именно такие нелепые люди обладали властью. И Легго начал давить на нас, требуя, чтобы мы остались. Сначала он действовал через Рыбу, потом в ход пошли обвинения, затем – прямые угрозы. Легго предупредил нас, что уход в июле «может серьезно повредить вашей будущей профессиональной карьере». Но мы твердо стояли на своем. Легго начал злобствовать еще сильнее. Беззащитные, уязвимые и не обладающие властью, мы становились все более нервными. Июль неумолимо приближался, все попытки Легго воздействовать провалились, и он начал паниковать.
Никто не знал, что он может сделать.
8
И он созвал нас на экстренный фуршет в местном кафетерии.
Первым, кого я встретил, войдя в Дом утром того дня, был Говард, непрошибаемый Говард, последний из интернов, проходивших через Город Гомеров. Он стоял у дверей лифта, у его ног были рассыпаны компьютерные перфокарты. Его всегда аккуратная прическа была растрепана, он яростно кусал черенок своей трубки и долбил по дверям лифта, крича: «СПУСКАЙСЯ, ЧЕРТ ТЕБЯ ДЕРИ, СПУСКАЙСЯ!» «Ну вот, – подумал я, – последний счастливый интерн сломался».
Единственными пациентами, которых я собирался сегодня осмотреть, были Нэйт Зок и Оливия О. Наши с Нэйтом отношения развивались прекрасно, и взаимопонимание достигло небывалых высот. Все Зоки, включая Трикси, были уверены, что, вышибив их из палаты в приемнике, я спас жизнь Нэйта. Я не стал избавлять их от этой иллюзии. Первые несколько дней Трикси полагала, что Нэйт стоит у врат смерти, и я держу ключ от них у себя в кармане, и поэтому преследовала меня по всему Дому. Избавиться от нее можно было лишь одним способом: напомнить, что Нэйт так и не получил самую лучшую палату Дома. Трикси вела войну с дочкой одной чрезвычайно богатой гомерессы, занявшей ту самую палату и не собиравшейся никому ее уступать. Но Трикси произвела подсчеты на пальцах и решила, что гомересса не может играть в Лиге Зоков, особенно с учетом того, что интерьер крыла Зока все еще не был завершен. Главной моей задачей в лечении Нэйта была реализация подхода Толстяка: как можно больше ничего не делать. Это было непросто. Мне пришлось преодолевать массу препятствий и проявлять максимальную изворотливость, ПОЛИРОВАТЬ историю и поддерживать Скрытое Присутствие, чтобы продолжать ничего не делать для этой очень важной шишки. Мне нравился Нэйт, и это сильно упрощало борьбу. Подход Толстяка сработал: постепенно потенциально летальное кровотечение прекратилось. В этот день Нэйта выписывали, и он захотел поговорить со мной.
– Ты хороший парень, – сказал Нэйт. – Я в состоянии оценить талант. Я смотрю на человека и вижу, есть в нем что-то или нет. Понимаешь меня?
– Конечно, – сказал я.
– В тебе это есть. Жемчужина предупреждал меня насчет тебя. Я никогда не забуду, как ты выставил мою жену за дверь. Мы с тобой похожи, мы оба начали с нуля, а теперь… – Нэйт сделал неопределенный жест рукой, будто играл на огромном, заполненном деньгами аккордеоне, заполнившем весь мир. – Теперь послушай. Ты мне нравишься, Баш, а люди, которые мне нравятся, всегда получают награду. Я знаю, что вы ни черта здесь не зарабатываете, но теперь, почти закончив интернатуру, ты можешь открыть частную практику. Я могу помочь. Видел шикарный офис Жемчужины с его «Скрипачом на крыше»? А знаешь, как он начинал? Ему помог мой старик. Послушай, судя по твоим кроссовкам, ты играешь в теннис. Приезжай к нам, сыграй на моих кортах, поплавай в бассейне. Вот карточка: «НЭЙТ ЗОК. НЕ ЛУЧШЕЕ, НО МНОГО». Позвони в эти выходные, ладно?
Я поблагодарил его и начал прощаться.
– И еще кое-что. Я собираюсь написать письмо шефу терапии, доктору Легго с копиями шеф-резиденту, в ЛМИ и совет директоров. Я был пациентом в этой больнице восемь раз, и ни разу я не получал настолько хорошего лечения. Обычно меня ведет какой-нибудь плаксивый парнишка из Бронкса, который настолько боится Зоков, что заходит в палату каждые пять минут, назначает бесконечные тесты, процедуры, и мне от них становится хуже еще до того, как я успеваю поправиться. Обычно после такого лечения мне приходится отбывать в мою квартирку в Палм-Спрингс и там приходить в себя. А это не очень хорошо для бизнеса. Но у тебя хватило мозгов дать моим кишкам зажить. И я знал, что ты рядом, если вдруг что-то пойдет не так. Баш, ты был со мной откровенен, как мужчина с мужчиной. Ты справился с моей женой, и с моими жирными детьми, и со мной тоже. И я расскажу об этом твоему начальству. Позвони в субботу. Я пошлю за тобой шофера.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.