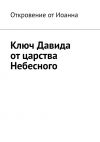Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Я лежал в своей постели. Вошла Берри. Я молчал. Берри присела на край кровати и стала разговаривать со мной, но я молчал. Я не устал, мне не было грустно, и я не злился. Она положила мою голову себе на колени и, посмотрев мне в глаза, заплакала. Она попыталась уйти. Она пару раз возвращалась от дверей к кровати и, наконец, помедлив в дверях, как плакальщик медлит перед закрытием крышки гроба, ушла. Ее печальные шаги простучали вниз по лестнице и замерли, а я не чувствовал грусти. Я не устал и не злился. Я лежал на кровати и не спал, воображая, что чувствую то же, что и гомеры, – отсутствие чувств. Я не знал, насколько я был плох, но я точно знал, что не смогу делать то, чего хотел от меня доктор Сандерс, – быть с другими. Я не мог быть с другими, так как я был где-то еще, в каком-то холодном месте, бессонный среди спящих, далеко, очень далеко от страны любви.
Часть третья
Крыло Зока
Но как же несчастному обрести идеальные качества, необходимые в его профессии.
Зигмунд Фрейд «Анализ конечный и бесконечный»
1
Я был готов к тому, что машины захватят меня. Утром первого апреля, в День дураков, я стоял перед герметичными двойными дверями БИТа, блока интенсивной терапии, который Толстяк называл «мавзолеем в конце коридора». Я ощущал себя жителем пригорода в состоянии фуги[88]88
Диссоциативная фуга (от лат. fuga – «бегство») – состояние, при котором пациент осуществляет длительные путешествия, не отдавая себе в этом отчета, при этом по прибытии испытывает амнезию и не может вспомнить о себе ничего, вплоть до имени.
[Закрыть], который, отправившись на Уолл-стрит, через три дня оказывается в Детройте, ничего не помня о себе. У меня не было прошлого или будущего, я едва присутствовал в настоящем. Мне было страшно. Весь следующий месяц я буду нести ответственность за интенсивную терапию тех, кто оказался над пропастью, зависнув у самого края этой скользкой и извилистой трассы, ведущей к смерти. Я буду дежурить через ночь, меняясь с резидентом. Мое внимание привлекла бронзовая табличка на стене: «БЛАГОДАРЯ ЩЕДРОСТИ МИСТЕРА И МИССИС Г. Л. ЗОК, 1957». Зоки крыла Зока? Когда же я встречу настоящего Зока? С технократической невозмутимостью астронавта я толкнул двойные двери и прошел через них, заковав себя в герметичном пространстве БИТа.
Внутри было очень тихо, очень чисто и очень спокойно. Была слышна тихая музыка, сглаживающая стерильную до хруста атмосферу блока так же нежно и аккуратно, как французский шеф-повар помешивает омлет, готовя завтрак для раннего гостя. Я пошел через пустынное, рассчитанное на восемь коек отделение. Пациенты лежали в мире и покое, будто счастливые рыбы в спокойном море, они плыли, плыли… В какой-то момент я обнаружил, что подпеваю звучащей музыке: «Этим зачарованным веееечером…» Я потом остановился перед компьютерной консолью, напомнившей мне о детском благоговейном восхищении мысом Канаверал[89]89
Мыс Канаверал – город во Флориде, где расположен космодром Космического центра Кеннеди.
[Закрыть] и подростковым страхами при просмотре «Космической Одиссеи 2001 года». Я наблюдал, как мигают яркие огоньки, как на осциллографе мерцает что-то, похожее на ряды сердцебиений. Пока я смотрел, из консоли донесся неприятный звук, лампочки замигали, один из рядов остановился во времени и в пространстве, и машина извергла из себя розово-сетчатый язычок ЭКГ. В этот момент из соседней комнаты выскочила медсестра. Она посмотрела на ЭКГ, посмотрела на экран осциллографа и, не отправившись взглянуть на пациента, с раздражением и мольбой сказала: «Черт, Олли, проснись и соберись, Христа ради!» Как будто в наказание, она стукнула машину по нескольким клавишам, и это вновь заставило ее загудеть, зажужжать, почти попадая в такт самбы, звучавшей в тот момент в отделении: «Когда же начнууут, начнууут…»
Увидев в этой космической лаборатории теплокровное существо, я облегченно вздохнул, повернулся к медсестре и сказал:
– Привет, я Рой Баш.
– Новый терн? – подозрительно спросила она.
– Верно. Что это за штуковина?
– Штуковина? Это вряд ли. Это Олли, компьютер. Олли, поздоровайся с Роем Башем, новым интерном БИТа.
После нескольких тычков по жизненно важным органам Олли выплюнул сетчато-розовую полоску с надписью: «ПРИВЕТ, РОЙ, И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МЕНЯ ЗОВУТ ОЛЛИ». Я спросил, где можно оставить вещи, и сестра сказала мне идти за ней. На ней был хлопчатобумажный хирургический костюм, расстегнутый сзади от шеи почти до попы: до четвертого поясничного позвонка, до той части спины, где позвоночник делает восхитительный изгиб, устремляясь к месту, где когда-то был хвост, и которое превратилось теперь в место крепления большой ягодичной мышцы, то есть задницы. Она шла, и ее спина двигалась в такт музыке, и я подумал о том, как здорово то, что эти крепкие молодые мышцы, окутанные музыкой, сливаются с ней в идеальную нейрофизиологическую симфонию.
«…Нет ничего прекраснее человеческого тела, и теперь ты уже можешь считаться экспертом в обращении с ним…»
Небольшая комнатка, предназначенная для персонала, была заполнена медсестрами, пончиками и сплетнями. При моем прибытии мыльный пузырь разговоров лопнул, и в комнате повисла тишина, но вот Энджел, коротышкина Энджел, встала, подошла ко мне, обняла и сказала:
– Я хочу (жест в мою сторону) представить вам Роя Баша, интерна. Я рассказала им (жест в сторону медсестер, затем опять в мою) про тебя. Мы рады (жест в сторону неба), что ты здесь (жест в сторону земли). Хочешь пончик?
Я выбрал с кремом. Забыв о работе, я расслабился в этой дружелюбной атмосфере, успокоенный царящей здесь легкостью, и перевел мой мозг в режим «выкл.».
Медсестры перемывали кости резиденту, ведущему БИТ, – Джо. За несколько недель, проведенных здесь, Джо потрясла, напугала и, в конце концов, настроила против себя всех сестер, действуя в архаичной манере, которая все еще встречается, когда женщина-врач работает с женщинами-медсестрами – и позволяет гарантированно испортить отношения. Обычно Джо с утра пораньше начинала собственный дообходовый обход, но сегодня ее еще никто не видел.
– Она провела всю вчерашнюю ночь, свою выходную ночь, здесь, – сказала медсестра. – Она сидела с миссис Пэдли, поражаясь, что та все еще жива. При этом единственное, что не так с миссис Пэдли, – это лечение Джо. Она, наверное, проспала. Ох и разозлится она!
Явилась Джо, кипящая от злости. Она подозрительно посмотрела на меня, вспомнив, как мы с Чаком и Коротышкой мучили ее во время нашей работы в северном крыле отделения № 6 и фиаско, которым все закончилось. Тем не менее она выпятила челюсть, протянула мне руку и храбро сказала:
– Здравствуй, Рой. Добро пожаловать на борт. Забудь о том, что случилось наверху, здесь тебе понравится. Это мощная медицина. Дисциплина на корабле – самая жесткая во всем Доме. Начнем заново. Никаких обид, а?
– Никаких, Джо, – сказал я.
– Отлично. Кардиология – моя специальность, в июле я начинаю работать в Национальном институте здравоохранения в Бетесде, так что будь рядом со мной – и ты сможешь многому научиться. В блоке мы жестко контролируем все сердечные параметры. Работа напряженная, но, если мы будем усердно трудиться, мы спасем множество жизней и отлично проведем время. Пойдем.
Как раз когда Джо, старшая сестра и я катили тележку с историями к первой палате, вошел Пинкус, консультант блока, готовый к обучающему обходу. Пинкус, штатный кардиолог Дома, был высоким и истощенным, ему было около сорока. Он прошел путь от Университета Аризоны до ЛМИ и Божьего дома, он был легендой, фанатиком и по отношении к профессии, и по отношению к себе. Говорили, что Пинкус он редко покидает Дом. Я сам неоднократно видел его ночами, бродящим по коридорам и проверяющим пациентов, которых он консультировал. При этом в любое время был терпеливым, полезным, добрым, готовым помочь написать научную статью, поставить водитель ритма или просто поболтать. Он был бесконечно предан работе, и в Доме поговаривали, что его жена и три дочери узнавали о том, что он побывал дома, лишь потому, что крышка унитаза оказывалась поднятой вверх.
Еще одним признаком фанатизма была его одержимость кардиологическими факторами риска. Курение, кофе, лишний вес, высокое давление, насыщенные жиры и отсутствие физической нагрузки – все это было для него хуже смерти. По слухам, когда-то Пинкус был малоподвижным, полнеющим, вечно встревоженным истребителем кофе и пончиков, но упорные тренировки помогли ему довести себя почти до истощения. Опасаясь повышения холестерина, он занялся бегом, добегался до невероятной формы, и в последние два года преодолевал дистанцию Апрельского марафона меньше, чем за три часа. Ему даже удалось избавить себя от последнего оставшегося фактора риска – по типу личности: полностью перевернув себя, он перешел от типа личности А (тревожный) к типу Б (спокойный).
Пинкус и Джо вкратце обсудили накладку со временем начала обхода и решили, что с этого дня в БИТе будет один обход, начинающийся всегда в одно и то же время.
Несмотря на наличие в отделении более серьезных проблем, оба они, Пинкус и Джо, больше всего интересовались пациенткой, у постели которой Джо провела ночь: миссис Пэдли. Милая семидесятипятилетняя Пэдли была СПИХНУТА в Дом Путцелем для обычного обследования кишечника (в связи с жалобами на отрыжку и пучение после китайской еды). Обследование не выявило никаких отклонений, но, к несчастью, какой-то переучившийся терн заметил на ЭКГ, что у миссис Пэдли желудочковая тахикардия, которая в его учебниках описывалась как «летальная аритмия» – и перевел ее в БИТ. Здесь миссис Пэдли стала добычей Джо, решившей, что пациентка умирает. Джо набросилась на нее с дефибриллятором и без какой-либо анестезии сожгла кожу на ее груди. Сердце миссис Пэдли, оскорбленное переходом в нормальный синусовый ритм, оставалось в нем несколько минут, после чего вернулось к своему собственному, привычному режиму желудочковой тахикардии. Обезумевшая Джо поджарила миссис Пэдли еще четыре раза, пока подоспевший Пинкус не прекратил это барбекю. Всю прошлую неделю сердце Пэдли оставалось в ритме желудочковой тахикардии, и с ней все было в порядке (не считая, конечно, нагноившихся ожогов на груди). Типичная СБОП. Но Пинкус и Джо почувствовали «случай», который может превратиться в отличную публикацию. Используя богатейшие кардио-фармакологические знания Пинкуса, они назначали миссис Пэдли все доступные им сердечные средства, но безрезультатно. К моменту моего прибытия в БИТ Пинкус уже прописывал ей все некардиологическое, что только мог придумать: от медикаментов для лечения системной красной волчанкой (аутоиммунной болезни) до средств от лишая пальцев ног («нога спортсмена»). Пэдли, захваченная в плен, страдала от побочных эффектов всех этих лекарств и хотела домой, но каждый день Пинкус и Джо испытывали на ней что-нибудь новенькое. Сегодня это был «Норплейс», один из компонентов смазки, использовавшийся для прикрепления электродов для ЭКГ Олли к груди пациентов.
– Здравствуйте, дорогуша, как наша девочка поживает сегодня? – спросил Пинкус.
– Я хочу домой. Я нормально себя чувствую, молодой человек. Отпустите меня.
– Есть ли у вас хобби, дорогая? – спросил Пинкус.
– Вы спрашиваете меня об этом ежедневно, – сказала Пэдли, – и ежедневно я вам отвечаю, что мое хобби – жизнь вне больницы. Если бы я знала, что китайская еда приведет к этому, я бы в жизни не позвонила Путцелю. Вот я до него доберусь! Вы знаете, что он меня не навещает? Он боится.
– Мои хобби – бег и рыбалка, – продолжал Пинкус. – Бег для поддержки формы и рыбалка для успокоения нервов. Я слышал, что Джо волновалась из-за вас прошлой ночью.
– Она волновалась, а я нет. Отпустите меня!
– Я хочу, чтобы вы попробовали новое лекарство сегодня, дорогая.
– Никаких лекарств! Последнее заставило меня воображать, что я четырнадцатилетняя девочка из Биллингса, штат Монтана. Я пришла сюда с добрыми намерениями, а вы устраиваете мне путешествия в Монтану. Никаких больше лекарств для Пэдли!
– Это точно сработает!
– У меня нет ничего такого, на чем оно могло бы сработать!
– Пожалуйста, миссис Пэдли, примите его для нас, – искренне умоляла Джо.
– Только если вы дадите мне на обед рыбную солянку.
– Договорились, – сказала Джо, и мы ушли.
В коридоре Пинкус заговорил со мной: «Очень важно иметь хобби, Рой. Какое у тебя?»
Но не успел я ответить: Джо погнала нашу тележку вперед. Из пятерых оставшихся пациентов говорить не мог ни один. Каждый из них страдал от какой-нибудь страшной, неизлечимой, затяжной болезни, которая убивает наверняка, затрагивая при этом важные органы вроде сердца, легких, почек, печени, мозга. Самым ужасным был мужчина, у которого все началось с прыщика на колене. Частник Дома, Утиная Задница Доновиц, не стал посылать бактериальные культуры на анализ и назначил неправильный антибиотик, уничтоживший бактерии, предотвращавшие распространение резистентного стафилококка. Это привело к распространению инфекции и общему сепсису, превратившему счастливого сорокапятилетнего брокера в страдающий эпилепсией, изможденный скелет, который не мог говорить из-за дыры, прогнившей в хрящах его трахеи после месяцев, проведенных на искусственной вентиляции. Во время обхода он смотрел на меня с ужасом и непониманием, с немой мольбой о спасении. Его единственным убежищем теперь были сны, в которых ему снился его голос, его нормальная жизнь – и это дарило ему покой до того момента, пока он не пробуждался и не погружался в кошмар своей сломанной жизни. Это была явная преступная халатность со стороны Доновица, но никто не сказал человеку, который пришел сюда с прыщом на колене, что он может отсудить миллионы. Стоя в дверях его палаты, я слушал Джо, рассказывающую его историю болезни голосом таким же монотонным и бесстрастным, как голос Олли. Я увидел, что взгляд пациента метнулся ко мне, новичку, который мог бы принести чудо, вернуть ему его голос и его субботние игры в сквош, его веселье с детьми. Я был подавлен. Судьба послала ему ленивого некомпетентного доктора, и его жизнь стремительно и неуклонно шла под откос. Я отвернулся. Я не мог больше видеть эти немые глаза.
Он был не одинок. Еще четыре раза меня потрясали трагедии уничтоженных жизней. Один пациент за другим: абсолютно неподвижные, легкие – на искусственной вентиляции, сердца – на искусственных водителях ритма, почки – на диализе, едва работающие (если совсем не отключившиеся) мозги. Это было ужасно. Здесь стоял запах витающей поблизости смерти, этой болезненно кислой, лихорадочной, скользящей у горизонта смерти. Я не хотел принимать в этом участие. Я не буду касаться этих несчастных. Это слишком печально.
Но не для Джо. В каждой палате она доставала свои карточки три на пять и оттарабанивала данные, а медсестра поднимала пациентов, давая ей возможность аускультировать легкие. Пинкус печально и отвлеченно смотрел в окно, так как не мог расспрашивать пациентов или рассказывать им о своих увлечениях, а я чувствовал пустоту внутри себя. Джо спросила, не хочу ли я прослушать пациентов, и я рефлекторно подчинился. Последним из них был студент второго курса ЛМИ, во время практики в педиатрии подхвативший простуду от какого-то ребенка. Начался кашель, потом он перешел в грипп, а потом – во что-то, выходящее за рамки известного врачам этого мира, не поддающееся излечению, поразившее его почки, легкие, сердце и печень – и оставившее его на искусственной вентиляции, водителе ритма и диализе. Несмотря на все это, он умирал. На его щеках была светлая щетина. Джо заставила медсестру поднять его, прислонила к нему стетоскоп и предложила мне подойти. Я сказал, что воздержусь.
– Что, – удивилась Джо. – Почему?
– Я боюсь подцепить то, что у него, – ответил я, отходя подальше.
– Что?! Ты – врач, ты обязан. Подойди.
– Джо, отвали, ладно?
Позже мы с Пинкусом пошли обедать, оставив Джо наблюдать за блоком. Пинкус всегда приносил обед в бумажном коричневом пакете с собой, из дома: чтобы, находясь на работе, продолжать следить за своей диетой. Копаясь в своем твороге, зелени и фруктах, он спросил меня о моих увлечениях, потом поведал мне о беге для поддержания формы и рыбалке для успокоения нервов, а затем стал расспрашивать меня о моем отношении к кардиологическим факторам риска. За этот обед я узнал о том, как я уничтожаю свою жизнь, сужая свои коронарные артерии и превращаясь в жертву атеросклероза, больше, чем за четыре года студенчества в ЛМИ. Пинкус заявил, что, учитывая «чистую» наследственность, я обязан спасти свое сердце, воздерживаясь от поедания того, что я люблю (пончики, мороженое, кофе), курения того, что я люблю (сигарет и сигар), делания того, что я люблю (ничего), и чувствования того, что я чувствую (тревоги).
– Даже кофе? – спросил я, так как не подозревал, что это тоже фактор риска.
– Раздражитель сердца. Последний номер «Анналов внутренних болезней». Исследование проведено здесь, в Доме, интерном по имени Говард Гринспун.
Наконец, после продолжительного обсуждения бега (Пинкус сообщил, что, готовясь к марафону, он пробегает до шестидесяти миль в неделю), он предложил пройти в его кабинет, чтобы пощупать мышцы его ног, что мы и сделали. Выше пояса Пинкус напоминал зубочистку, но его нижняя часть могла бы принадлежать Мистеру Олимпия. Его квадрицепсы, бицепсы, портняжные мышцы и икры оказались впечатляюще накачанными и прикрепленными стальными сухожилиями.
Когда я вернулся в БИТ, отвращение к болезням и страх перед медицинской аппаратурой так сильно давили на меня, что мне хотелось немедленно сбежать. Джо поймала меня, настаивая на том, чтобы я научился ставить линию в радиальную артерию запястья: болезненная, опасная и относительно бесполезная процедура. После этого я сбежал в комнату для персонала, заявив, что должен заняться изучением историй болезней. Я взял историю студента, чье тело уже почти полностью разрушило нечто неизвестной природы, – и начал читать. У него все началось с больного горла, температуры, кашля и простуды. У меня тоже болело горло, я кашлял, я был простужен, а температура была повышенной. Мое горло было полностью готово к засеиванию вирусами, подхваченными от студента. Я заболею тем же, что и он. Я умру. Я огляделся вокруг – и понял, что сейчас будет заступать новая смена медсестер. Они заходили в комнату в своей уличной одежде и удалялись в альков, где стояли шкафчики, чтобы переодеться. Так как народу скопилось слишком много, некоторые девушки не поместились в раздевалке и переодевались прямо в середине комнаты: выскальзывали из своих блузок, юбок или джинсов и, сияя белизной лифчиков, трусиков и прочего белья, натягивали зеленые хлопчатобумажные хирургические костюмы. И даже те, кто не носил лифчиков, преспокойно переодевались прямо при мне, хихикая над моим обалделым видом. Я поразился тому, насколько легко мы, медсестры и врачи, ежедневно имеющие дело с распадом чужой плоти, учимся не стесняться своих тел.
Я закончил. Пока я вел машину через холодный апрельский дождь, мои мысли возвращались к БИТу. В нем было что-то, отличающее его от других отделений.
Квинтэссенция! Вот что это было. Блок был квинтэссенцией. Попадающие туда стояли на пороге смерти и в каком-то смысле сами были ее воплощением.
Этого следовало ожидать. Об этом намекала бронзовая табличка Зоков на стене. И в то же время именно там, в царстве смерти, мы оказывались лицом к лицу с сексом. Я не мог этого не заметить. Я не стал притворяться, что понял это. Но эти медсестры, работающие среди умирающих, были самой жизнью.
Берри спросила, как прошел мой первый день в БИТе, и я ответил, что это было не похоже ни на что: насыщенно, мощно, как будто это часть какой-то космической программы, но в то же время кажется, что ты находишься в овощной лавке, где овощи – это люди. Мне было грустно от того, что они молоды и умрут, но это было не самым важным, ведь я тоже умру от этого странного неизведанного вируса, атаковавшего маленького студента ЛМИ. Берри сказала, что мой страх смерти может быть еще одним проявлением «синдрома третьего курса»[90]90
Болезнь студентов-медиков, находящих у себя симптомы всех заболеваний, которые они изучают.
[Закрыть] и что она волнуется о моем сердце. Вспомнив Пинкуса, я сказал:
– Да. К твоему сведению, я собираюсь начать контролировать свои кардиологические факторы риска.
– Я не говорю о механике, я говорю о чувствах. Прошли недели со дня самоубийства Потса, а ты до сих пор ни словом об этом не обмолвился. Как будто этого не было!
– Это было. И что?
– Он был твоим близким другом, и он, черт возьми, мертв.
– Я не могу сейчас думать об этом, я должен выполнять свою новую работу в блоке.
– Потрясающе. Несмотря на все то, что произошло, прошлое для тебя не существует!
– Что ты имеешь в виду?
– Ты и другие интерны выживаете ежедневно лишь затем, чтобы начать следующий день. Забудь сегодняшнее сегодня. Полное отрицание. Мгновенное подавление.
– Ну и что в этом такого?
– Это значит, что ничто не меняется. Человеческая история и опыт ничего не значат. Вы не растете. Невероятно! По всей стране интерны проходят через это и входят в новый день так, будто вчерашнего дня не было. «Забудь об этом», «Все прошло», «Возвращение домой», «Любовь», «Медицинская иерархия» и так далее. Это больше, чем самоубийство. И это то, что делает вас докторами? Прекрасно!
– Я не вижу в этом ничего плохого.
– Знаю, что не видишь. И это плохо. Я не о навыках врачевания, которые ты получаешь, а об умении проснуться на следующий день так, будто ничего не произошло, даже если случилось так, что твой друг покончил с собой.
– Мне предстоит многому научиться в блоке. Я не могу себе позволить думать о Потсе.
– Прекрати, Рой, ты не какой-то тупой чурбан, ты – личность.
– Послушай, я больше не твой всезнающий интеллектуал. Я просто парень, который учится зарабатывать себе на жизнь, хорошо?
– Отлично! Все пятна на твоем солнце исчезли.
– Как ты можешь просить меня думать, если завтра я могу умереть?
2
На следующее утро горло болело еще сильнее. Я ехал в Дом, кашляя, и меня не интересовало ничего, кроме моего состояния. Вскоре я вслед за студентом ЛМИ отправлюсь в предсмертную кому. Джо как раз закончила осматривать ночные выделения пациентов, но я настоял на том, чтобы до обхода она прослушала мои легкие. Она сказала, что они в порядке. Несмотря на это, я волновался настолько, что никак не мог сконцентрироваться, – и в итоге СПИХНУЛ себя на рентген легких. Мы проанализировали снимок вместе с радиологом, который заверил меня, что все в порядке. На пейджер сообщили, что у пациента блока остановка сердца, и я понесся обратно.
Остановка была у студента. В его палате столпились пятнадцать человек: араб, который вентилировал легкие; медсестра, запрыгнувшая на койку и делавшая закрытый массаж сердца, при этом при каждом нажиме ее юбка задиралась почти до талии; шеф-резидент из хирургии, из-под ворота хирургического костюма которого выбивались темные курчавые волосы, покрывавшие его грудь… Джо и Пинкус едва смогли войти в палату. Пинкуса вызвали с утренней пробежки, и он, в кроссовках и спортивном костюме, отстраненно смотрел в окно. Джо была холодна как лед, она не отрывала взгляда от ЭКГ, назначала лекарства и отрывисто раздавала распоряжения медсестрам. Студент лежал посреди всего этого куском мяса.
Несмотря на всеобщие усилия, студент продолжал умирать. Как обычно и бывает в таких случаях, после часа активных действий всем стало скучно, как на вечеринке неудачников, всем хотелось закончить – и дать пациенту умереть, разрешив остановившемуся сердцу последовать за уже мертвым мозгом. Джо, в ярости от мысли о провале, заорала: «С этим парнем мы давим до последнего!» Когда сердце все-таки отказалось заводиться, Джо распорядилась поджарить тело еще четырьмя разрядами, но это не помогло, и она замерла, опустошив свой мешок с медицинскими трюками. Это стало сигналом, по которому на сцену вышли хирурги. Разгорячившийся шеф-резидент, желавший превратить драму в резню, спросил:
– Эй, хочешь, я открою его грудную клетку? Открытый массаж сердца?
Джо радостно откликнулась:
– Конечно! Этот парень вошел сюда на своих ногах. Мы давим до последнего!
Хирург разрезал грудную клетку от подмышки к подмышке и разделил ребра. Он начал качать сердце рукой. Пинкус вышел из комнаты. Я стоял в оцепенении. Было ясно, что студент мертв. То, что они сейчас делали, они делали не для него, а для себя. У хирурга устала рука, и он спросил, не хочу ли я продолжить. Как в тумане, я подчинился. Я взял в руку молодое безжизненное сердце и сжал его. Жесткая, скользкая, плотная мышца казалась кожаным мешком, наполненным кровью. Зачем я это делал? Моя рука заболела. Я сдался. Сердце было как серовато-синий фрукт, выросший на дереве из костей. Тошнотворно! Синее лицо студента бледнело. Алая кровь в грудной полости чернела, свертываясь. Даже после смерти мы продолжали уродовать его тело. Выходя из палаты, я слышал властный крик Джо: «Здесь есть студенты? Это шанс, который вам не часто выпадает, – открытый массаж сердца! Отличный случай. Ну же, сюда!» Продолжая испытывать отвращение, я спрятался в комнате персонала, где медсестры болтали, поедая пончики, будто снаружи ничего не происходило.
– Рад видеть, что ты не портишь свои коронарные артерии пончиками, Рой, – сказал Пинкус. – Я пытался говорить об этом девочкам, но они не слушают. Но им повезло, конечно, все-таки эстроген увеличивает их шансы.
– Я не голоден, – сказал я, – и мне кажется, что я подцепил болезнь этого студента. И я умру. Я только что проверил частоту дыхательных движений, тридцать два в минуту[91]91
Нормальный показатель – 16–20.
[Закрыть].
– Умрешь? – переспросил Пинкус. – Хм. Скажи, а у этого студента было хобби?
Старшая сестра взяла историю, открыла на добавленном Пинкусом разделе «Хобби» и сказала:
– Нет, никаких хобби.
– Вот, – сказал Пинкус. – Видишь?! Никаких хобби. У него не было хобби. У тебя есть хобби, Рой?
С некоторой тревогой я осознал, что нет, и сказал ему об этом.
– Тебе нужно хотя бы одно. Мои хобби направлены на улучшение состояния моих коронарных артерий: рыбалка для успокоения нервов и бег для улучшения формы. Рой, за девять лет работы в блоке я ни разу не видел, чтобы умер марафонец. Ни от инфаркта, ни от вируса, ни от каких-либо других причин. Никаких смертей, точка.
– Серьезно?
– Да. Смотри: если ты не в форме – сердце бьется вот так, – Пинкус сделал движение, медленно приближая пальцы к ладони, – так, будто он машет кому-то на прощание в замедленной съемке. – Но, если ты бегаешь, сердечный выброс резко повышается, и ты качаешь всерьез, и я имею в виду – КАЧАЕШЬ! Вот так!
Пинкус сжал и разжал кулак несколько раз с такой силой, что костяшки пальцев побелели, а мышцы предплечья вздулись. Это впечатляло. Я принял его веру. Я схватил его за руку и спросил, что нужно делать, чтобы начать. Пинкус был доволен и начал с подбора обуви. Вместо атеросклероза и вирусов мой мозг был заполнен кроссовками New Balance 320s, анаэробным гликолизом мышц и подпиской на журнал «Мир бегуна». Мы составили расписание тренировок, которое через год превратит меня в марафонца. Пинкус был великим американцем.
Остаток дня я провел, избегая Джо и паникуя. Джо хотела научить меня всему и рассказать обо всем, чтобы, оставшись на первом ночном дежурстве в одиночестве, я справился. Джо пугала перспектива доверить мне свой блок, и она бродила вокруг меня, повторяя: «Я никогда не выключаю пейджер». Наконец, она ушла. Ситуация была типичной для интернатуры: зная совсем немного, я был вынужден отвечать за многое. Я нуждался в помощи кого-то, кто был знаком с правилами и порядками, заведенными здесь. Поэтому я отправился к старшей сестре и сообщил, что я в ее полном распоряжении. Довольная, она начала учить меня вещам, о которых на протяжении четырех лет, проведенных в ЛМИ, – лет, наполненных кинетикой ферментов и изучением зебровидных болезней, никто даже не упоминал. Я превратился в техника, учащегося выставлять нужные параметры на циферблатах аппаратов искусственной вентиляции легких.
Незадолго до ужина меня вызвали в приемник к моему первому поступлению, сорокадвухлетнему мужчине по фамилии Блум. Первый инфаркт. Его отправляли в блок из-за возраста: если бы ему было шестьдесят два, он попал бы в обычное отделение, где его шансы на выживание уменьшились бы вдвое. Блум лежал на койке в приемнике: белый, как простыня, задыхающийся, встревоженный и морщащийся от боли в груди. Его глаза были наполнены тоской умирающего, жалеющего о том, что не провел свои последние дни иначе. Он и его жена смотрели на меня с надеждой. Чувствуя себя очень неловко, я вдруг вспомнил Пинкуса и спросил Блума, есть ли у него хобби.
– Нет, – выдохнул он, – у меня нет хобби.
– Что ж, после этого вам стоит завести хотя бы одно. Я начинаю бегать для поддержания формы. И всегда можно начать рыбачить для успокоения нервов.
Факторы риска были не на стороне Блума. Он перенес серьезный инфаркт и на четыре дня завис на пороге смерти. Я вкатил его в БИТ, и сестры столпились вокруг него, подсоединяя к мониторам, свету, звуку и всему, к чему они только могли его подсоединить. Олли зажегся, демонстрируя измененную ЭКГ Блума. Что я мог сделать с его несчастным сердцем? Немногое. Просто ждать и наблюдать.
Чак и Коротышка, отлично знавшие, как тяжело отрабатывать первую ночь в блоке, зашли ко мне поболтать. Хотя мы и теряли контакт друг с другом, случившееся с Потсом и Эдди заставляло нас стремиться к тому, чтобы общаться почаще. Я обратился к Коротышке:
– Слушай, все хочу тебя спросить. Ты не знаешь, что не так с речевыми центрами Энджел? Я имею в виду, почему она, когда начинает говорить, зависает и машет руками. Что это с ней?
– Никогда не замечал, – ответил Коротышка, – по мне так она в порядке.
– То есть вы с ней так до сих пор ни о чем и не разговаривали?
Задумавшись, Коротышка замолчал, а потом расплылся в ухмылке, хлопнул себя по колену и сказал:
– Нет! Никогда! Ха!
– Черт, – сказал Чак, – ты далеко ушел от этой поэтессы.
– Мне кажется, я люблю Энджи, но вряд ли я на ней женюсь. Видишь ли, она ненавидит евреев и докторов, а еще ей не нравится мой свист и то, что я постоянно хожу за ней, когда мы не в постели. Я думаю, что возможно… О, привет Энджи-Вэнджи, что я хотел сказать?
– Коротышка, – сказала Энджи, – знаешь что?! (жест, указывающий на себя). Я думаю (показывая на Коротышку), что ты, черт побери, слишком много говоришь (жест в сторону неба). Рой, мистер Блум хочет (указывая на свой рот) поговорить с тобой. Нам нужна помощь.
Чак с Коротышкой ушли, оставив меня один на один с потрясениями и ударами первого одиночного выхода в космическое пространство. Я проводил вечер, идя по канату вместе с Блумом и другими пациентами, балансируя на грани катастрофы. В одиннадцать начался стриптиз, смена медсестер: гладкие бедра, кружевные трусики, подвязки, черные чулочки, медленно скатывающиеся вниз; мелькает, обнажившись на мгновенье, кустик лобковых волос; в поле периферического зрения появляется обнаженная грудь, еще одна – в центральном поле зрения, и в мельчайших деталях видны соски, эти произведения искусства. Тестостероновый шторм. С кем они были, кто был с ними перед тем, как они пришли сюда, на работу, ко мне? Придя в себя после этого зрелища, я отправился спать. Медсестра разбудила меня в четыре утра. Новое поступление, восемьдесят девять лет, небольшой инфаркт, без осложнений.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.