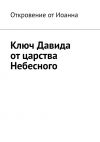Текст книги "Клиника «Божий дом»"

Автор книги: Сэмуэль Шэм
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Письмо Легго? На силу отвечай силой! Даже Легго не настолько уперт, чтобы противостоять Зокам, семье, которая владеет огромным сталелитейным бизнесом, выковывая болты размером с палку колбасы и гайки размером с калач; болты и гайки, на которых держится целое крыло, построенное ими для Божьего дома. Взволнованный и радостный, я отправился проведать горбатую Оливию О., которая, судя по всему, тоже поживала превосходно.
Леон Скрытое Присутствие снова не разрешил мне показать горбы Оливии Легго, поэтому я вскарабкался на верхнюю койку и закопался в своего Фрейда, читая об очередной венской красотке, прыгнувшей в постель к своему папочке. Пришел Чак, достал из сумки свою бутылку и запел. Хупер уселся снизу с книгой «Как проколоть ухо», чтение которой, к нашему удивлению, оказалось не подготовкой к очередному шагу на пути к «Черному ворону», а обязательным условием для получения подработки в универмаге в центре города. Заглянувший Эдди начал было читать вслух книгу «Как я спас мир, не испачкав халата», но уже после пары абзацев мы начали дружно хохотать над идеализированным обманом, который книга упорно пыталась выдавать за истину, и книга навсегда отправилась в мусорное ведро. Зашедший Коротышка радостно поприветствовал 789:
– Эй, 749, ты уже разобрался, что там за горбы?
– Извини, но ты ошибся с моим отчеством, – сказал Семь. – Нет, пока не разобрался.
– Черт, может все-таки это грудь? – сказал Чак. – Дополнительная грудь?
– Это не очень помогает, потому что никто не знает, что в этой груди.
– Это духовные горбы, наполненные молоком человеческой доброты, – предположил я.
– Моя основная теория, – сказал Семь, – состоит в том, что они наполнены кислородом. Возможно, именно этот кислород и поддерживает в ней жизнь.
– Точно, она же не человек, а растение. Ее горбы фотосинтезируют. В своей доброте она дарит кислород всем нам.
– Нет, вы все ошибаетесь, – сказал Коротышка. – Я знаю, что в ее горбах, и это не кислород и не человеколюбие!
– Ладно, старик, что же в них?
– Перцы чили. Горбы Оливии – обычные гигантские перцы чили.
Когда смех утих, Чак запел песню «Миссисипи» Джона Харта:
Когда закончу путь земной,
Отдайте морю мое тело,
Раздайте скопленное мной,
Хочу, чтоб мне русалка пела.
Мы все когда-то слышали, как эту песню пел другой интерн. Этим другим интерном был Уэйн Потс. Мы были готовы. Пришло время отправляться на фуршет в местный кафетерий.
На входе стояли Гилхейни и Квик. Когда мы вошли, два лица одарили нас подмигиваниями: одно – рыжее и толстое, другое – темное, жилистое и худое. Легго даже не догадывался, кого он выбрал себе в защитники. Мы набились в комнату и налегли на бутерброды. Легго ел, стоя впереди нас. Чувствуя повисшее в воздухе напряжение, Рыба, которому до постоянного места в группе штатных лизоблюдов Дома оставалось выдержать всего две недели шеф-резидентства, изо всех сил старался не допустить взрыва. Он встал перед нами и объявил, что начнет с того, чего с таким нетерпением ждали Эдди и Хупер: с объявления победителя «Черного ворона».
– Так что, все это было всерьез? – спросил я Чака.
– Может быть и нет, но Легго с Рыбой в это поверили.
– …А поскольку одна награда этого года, для Лучшего интерна дома, доставшаяся Рою Башу, была выполнена в виде заколки для галстука, мы решили изготовить заколку и для «Черного ворона». – Рыба поднял в воздух серебряную заколку, на конце которой был изображен черный ворон, и продолжил, – Я знаю, что за эту награду шло яростное соревнование между Эдди и Хупером, которые шли ноздря в ноздрю до самой сегодняшней ночи, когда смерть пациентки Розы…
– КАЦ! РОЗА КАЦ! – заорал Хупер. – ДА! Я ЗНАЛ ЭТО! РОЗА КАЦ ВЫВЕЛА МЕНЯ НА ВЕРШИНУ! Я ВЫИГРАЛ!
– Да, – сказал Рыба, – вскрытие миссис Розы Кац было проведено сегодня утром, и я с удовольствием объявляю обладателя первой в истории Дома награды «Черный ворон», доктора Хупера!
– ДААААА! – заорал Хупер, выбегая к Рыбе и получая свою заколку и поездку на двоих в Атлантик-Сити. Он изобразил победную пляску и запел: «На набережной у мооооря…»
– Секундочку! – сердито встрял Коротышка. – Роза Кац была моей СБОП! Я требую признать ее смерть и ее вскрытие за мной. Я долго и тяжело работал, чтобы добиться ее смерти, но Хупер обобрал меня. Он пришел вчера ночью, хотя он в этот день даже не дежурил, а я в это время спал дома. Дежурил Эдди, и, поскольку Роза умерла во время его дежурства, я уверен, что она хотела бы отдать разрешение на вскрытие именно ему. Победил Эдди, не Хупер.
– ЭЙ! ЭЙ! ЭЙ! – закричал Эдди, вставая и устремляясь вперед. – ЭЙ, МУЖИКИ, ЭТО – ЭДДИ! ХУПЕР, ТЫ МОЖЕШЬ ГЛОТАТЬ МОЮ ПЫЛЬ! Я – ЧЕРНЫЙ ВОРОН, ЧЕСТНАЯ ПОБЕДА! АПЛОДИСМЕНТЫ ДЛЯ ЭДДИ! ЭЙ! ЭЙ! ЭЙ!
Это спровоцировало скандал. Эдди и Хупер начали спорить, пихаться и толкаться, а потом уже и всерьез замахиваться друг на друга, а мы начали кричать и улюлюкать, как на настоящем боксерском матче, но тут вмешались полицейские и развели их. Легго вышел вперед и сообщил, что решение жюри окончательное и первым «Черным вороном» Дома стал Хупер. Хупер с облегчением пожал руку Эдди и потом, обернувшись к нам и чуть не плача, сказал:
– Вы знаете, друзья, я не могу в это поверить. Моя мечта сбылась. Я хочу, чтобы вы знали, что я бы не смог бы добиться этого без вашей помощи, без помощи каждого из вас. Вы помогли мне стать тем, кто я есть, и я никогда не забуду этого. От всего сердца, спасибо, друзья. На набережнооой…
Легго и Рыба не дали Хуперу допеть вторую строчку, и мы перешли к главному вопросу повестки.
– Все вы, придя сюда почти год назад, – начал Легго, – согласились проработать по два года, но теперь некоторые из вас думают об уходе из терапии. Молодые люди, я буду откровенен, я рассчитываю на то, что вы проведете с нами еще один год резидентуры, и этот год будет благотворным для вас. Одного года катастрофически мало. Это ничто, это выброшенное время. Второй год – это основа всего, закрепление навыков, придающее всему этому завершенность. – Он остановился, напряженная тишина заполнила комнату. «Выброшенное время!» – Итак, кто из вас собирается в психиатрию? Поднимите руки.
В гробовом молчании поднялось пять рук: Коротышки, Чака, Эдди, Черного ворона и Лучшего интерна дома. И тут глаза Легго и Рыбы, уставившиеся в дальний угол комнаты, вылезли из орбит. Мы повернули головы и увидели, что Гилхейни и Квик, оба, тоже подняли руки.
– Что?! – закричал Легго. – Вы тоже? Вы же полицейские, не врачи. Вы не можете стать психиатрами с первого июля!
– Мы полицейские, – начал Гилхейни, – и врачами-психиатрами в строгом смысле этого слова нам не стать. Честно говоря, это ограничение кажется нам несколько странным, учитывая то, с каким количеством людей извращенных, в том числе преступно извращенных нам приходится иметь дело.
– Ну и что? Заканчивайте уже.
– Мы решили стать психоаналитиками[102]102
Американский термин Lay analist, означающий психоаналитика без медицинского образования.
[Закрыть].
– Психоаналитиками?! Вы, копы, думаете стать психоаналитиками?!
Повисла пауза, а потом из нее выкатился знакомый нам ответ:
– Были бы мы полицейскими, если бы это было не так?
– Да, – сказал Квик, – эта идея была любезно предложена нам нашим другом, Взрывоопасным Даблером, а также доктором Джеффом Коэном.
– Что?! – завопил Легго. – Даблер – психиатр?!
– Не просто психиатр, – сказал Гилхейни, – а фрейдистский аналитик.
– ЭТОТ ПСИХ?! ФРЕЙДИСТСКИЙ АНАЛИТИК?!
– И не просто психоаналитик, – продолжил Квик, – а бородатый президент Института психоанализа, видный гуманист и ученый.
– Да, – вступил Гилхейни, – покинув Божий дом сразу после окончания интернатуры, Даблер не оглядывался назад и поднялся на самый верх. Сейчас он пытается помочь нам начать.
– А с учетом того, что Финтон повредил ногу, – добавил Квик, – для нас в любом случае настало время сменить нашу деятельность на что-либо менее подвижное. Психоанализ подходит идеально.
– И не сказал ли великий Зигмунд Фрейд, подводя итог симпозиума по мастурбации в 1912 году, что «объекты онанизма неистощимы»?
– И не пришло ли время вступить в спор с древней католической догмой, утверждающей, что мастурбация приводит к слепоте, росту волос на ладонях, безумию и искривлению ног, подобному рахиту?
– Простите, шеф, – сказал Гилхейни, скрестив свои огромные руки на груди и облокачиваясь на дверь, – на этом мы заканчиваем со своими свободными ассоциациями, – и он закрыл глаза и замолчал.
Легго был потрясен. Повернувшись к нам, нервно дергая свой стетоскоп, уползающий в недра штанов, он спросил:
– Психиатрия? Все пятеро? Я этого не понимаю. Хупер?
– Ну, – покорно начал Хупер, – должен признать, что большую часть года я думал о патологической анатомии, но почему-то сейчас психиатрия кажется более подходящим вариантом. Пришлось пройти через многое, шеф: развод, раздел имущества, прощание с тестем и потенциальной работой, но все равно моя невеста-патологоанатом будет меня поддерживать и держать в курсе дел.
– Чак? И даже ты?
– Вы знаете, каково это, шеф! То есть хотя бы просто посмотрите на меня. Когда я впервые появился здесь, я выглядел потрясно, правда, парни? Я был худым, атлетичным, я одевался с иголочки, помните? Сейчас я жирный, одеваюсь, как уборщик, как какой-то чертов бродяга. Почему? Это все вы и гомеры, вот почему! И в основном именно вы, вы превратили меня в то, чем я стал сегодня. Спасибо, шеф, большое спасибо!!! И будь я проклят, если я останусь на второй раунд!
Вспышка Чака нас напугала. Легго был оскорблен и озадачен. Он начал было допрашивать Эдди, но Коротышка, становившийся все злее и злее, взорвался:
– Прекратите, Легго! Вы же не представляете, через что мы прошли за этот год! Вы же понятия об этом не имеете!
Повисла угрожающая тишина. В глазах Коротышки горел дикий огонь, казалось, что он сейчас набросится на Легго, Рыба прикрыл своего шефа собственным телом и подал знак полицейским. Коротышка продолжал:
– У меня для вас есть хорошая новость и плохая. Плохая состоит в том, что все это – дерьмо, а хорошая – в том, что его здесь до хрена! Вы поломали нас за этот год с вашей ханжеской версией здравоохранения. Мы ненавидим это. Мы хотим уйти.
– Что?! – потрясенно спросил Легго, – вы… вы не получали удовольствия от занятий медициной здесь, в Божьем доме?
– Примите это наконец вашим долбанным мозгом, – заорал Коротышка на Легго, а, если верить Фрейду, на своих родителей в лице Легго, и сел.
– Это просто несколько человек, которые радикально…
– Нет, – мрачно сказал я. – Это все мы. Этим утром я видел, как Говард Гринспун громил двери лифта, как маньяк.
– Говард?! Нет! – воскликнул Легго. – Мой Гови?
Внимание переключилось на «его Гови». Царила тишина. Напряжение сочилось наружу. Говард сжался. Напряжение повисло в воздухе, его можно было потрогать рукой. Говард начал выдавливать из себя слова:
– Д-д-да, шеф. Мне очень жаль, сэр, но это правда. Это все гомеры, Гарри и женщина с газами по имени Джейн. Понимаете, меня убивают эти дежурства, когда я принимаю новых пациентов. Каждый раз в такой день я знаю, что общий возраст моих новых поступлений будет превышать четыреста лет, и тогда у меня начинается депрессия, и я хочу покончить с собой. Напряжение невероятное. И эти конференции по заболеваемости и смертности, где меня каждые две недели поджаривают за ошибки. Никто не застрахован от ошибок, не так ли, шеф? И не могу же я не делать ошибок! А потом этот прыжок Потса и то, что от него осталось, разбросано повсюду, так что нам приходилось парковаться прямо на нем. И все эти гомеры. И эти молодые пациенты, которые умирают, что бы мы с ними не делали. И если честно, шеф, то… то с сентября я сижу на антидепрессантах. Элавил. И я все-таки остаюсь, так представьте тогда, что чувствуют другие ребята. Например, Коротышка. Раньше он был таким веселым парнем, а теперь… Да вы только посмотрите на него!
Мы все посмотрели на него. Коротышка уставился на Легго взглядом, исполненным ярости, как у Безумного Эйба. Выглядел он невообразимо злобно.
Легго спросил с удивлением:
– То есть ты хочешь сказать, что не предвкушаешь своих дежурств, не ждешь их с нетерпением?
– Предвкушаю? – переспросил Говард. – Шеф, за два дня до дежурства, сразу после предыдущего, я начинаю нервничать и увеличиваю дозу элавила до двадцати пяти миллиграмм. А за день до дежурства я добавляю пятьдесят торазина. В день своего дежурства, зная, что скоро увижу гомеров, я начинаю дрожать и… – дрожа, Говард достал серебрянную коробочку для пилюль и проглотил таблетку валиума, – … и я постоянно принимаю валиум. А в особо паршивые дни я… я добавляю декс.
Так вот в чем был секрет улыбки Говарда! Парень оказался ходячей аптекой.
Легго застрял на чем-то, сказанном Говардом, и спросил Рыбу:
– Они сказали, что им не нравятся дежурства?
– Да, сэр. Мне кажется, что они это сказали.
– Странно. Парни, когда я был интерном, я обожал свои дежурства, свои приемные дни. Мы все их обожали. Мы ждали их с нетерпением, мы дрались за самых тяжелых пациентов, чтобы показать шефу, на что мы способны. И мы делали все это чертовски хорошо. Что случилось? Что происходит?
– Гомеры, – сказал Говард, – гомеры. Вот что происходит.
– Вы имеете в виду стариков? Но мы так же заботились о стариках.
– Гомеры отличаются от стариков, – сказал Эдди. – В ваши дни их не существовало, так как тогда они умирали. А теперь нет.
– Это бред, – сказал Легго.
– Бред, – сказал я, – но это правда. Кто из вас видел гомера, умершего в этом году без нашей помощи? Поднимите руки.
Рук не оказалось.
– Но мы же им помогаем. Иногда даже излечиваем!
– Большинство из нас не узнает излечение, даже если оно выскочит на нас из коробки с печеньем, – сказал Эдди. – Я так никого и не излечил, и я не знаю интерна, который может похвастаться, что сделал это. Мы все так до сих пор и ждем своих первых излечений.
– Да что вы! Это ерунда. Что на счет молодых?
– Как раз они и умирают, – сказал Ворон. – Большинство вскрытий было проведено на людях нашего возраста. Победа в этой номинации не была легкой прогулкой, шеф.
– Что ж, все вы мои парни, – сказал Легго так, будто сегодня он забыл включить свой слуховой аппарат. – И прежде чем завершить эту нашу встречу, я хотел бы сказать несколько слов об уходящем годе. Во-первых, спасибо за прекрасно проделанную работу. Во многих отношениях это был прекрасный год, один из лучших. Вы его никогда не забудете. Я горжусь вами всеми и, прежде, чем закончить, я не могу не сказать несколько слов о том, кого с нами сегодня нет. О враче с огромным потенциалом, об Уэйне Потсе.
Мы напряглись. Затрагивая тему Потса, Легго рисковал нарваться на неприятности.
– Да, я горжусь Потсом. Несмотря на некоторый дефект, который привел к его… его несчастному случаю, он был прекрасным молодым врачом. Позвольте мне рассказать вам о нем…
Я отключился. Вместо злости я чувствовал сейчас жалость к Легго, такому зажатому и неловкому, такому далекому от всего человеческого и от нас, «его парней». Он был из другого поколения, поколения наших отцов, которые несколько раз перепроверяли сумму счета в ресторане прежде, чем заплатить.
– …может быть, этот год был несколько трудным, но все же это был обычный год, и мы потеряли одного из вас, не дойдя до конца, но это иногда случается, и остальные никогда не забудут его. Но все же мы не можем заставить нашу преданность медицине пострадать из-за этого…
Легго был прав, это был обычный год интернатуры. По всей стране на экстренных фуршетах в кафетериях тернам разрешалось злиться и обвинять, но это ничего не меняло. Год за годом, на протяжении вечности, сначала злость, а затем выбор: отказаться от цинизма и сменить профессию или оставаться в терапии, превращаясь в Джо, потом в Рыбу, потом в Пинкуса, потом в Путцеля и, наконец, в Легго, и каждый следующий еще более подавлен, еще более поверхностен, еще больший садист, чем нижестоящий. Берри ошибалась: подавление не было злом, оно было кошмаром. Но для работы в терапии оно было необходимо. Мог ли кто-то из нас, пройдя через этот год в Божьем доме, остаться таким же, как был? Мог ли кто-то остаться невредимым и стать такой редкостью, как врач, который остался человеком? Кто бы смог это? Толстяк смог. Может быть, смог бы Потс?
– …и давайте почтим память о докторе Уэйне Потсе минутой молчания.
Секунд через двадцать Коротышка вновь взорвался и заорал:
– ЧЕРТ ВАС ДЕРИ, ЭТО ВЫ УБИЛИ ЕГО!
– Что?!
– ВЫ УБИЛИ ПОТСА! Вы доводили его Желтым Человеком и не помогли ему, когда он молил о помощи. Он боялся, что если он обратится к доктору Фрэнку, вы заклеймите его позором, подумаете, что он спятил, и его карьера будет уничтожена. Вы – сволочи, вы пожираете хороших парней, таких, как Потс, слишком мягких, чтобы вынести все это. От вас мне хочется блевать. БЛЕВАТЬ!
– Ты не можешь так говорить обо мне, – искренне сказал Легго, выглядевший подавленным и удивленным. – Я бы сделал все для того, чтобы спасти Потса, чтобы спасти моего мальчика.
– Вы не можете нас спасти, – сказал я, – не можете остановить процесс. Поэтому мы и собрались в психиатрию. Мы пытаемся спастись сами.
– От чего?
– От превращения в придурков, которые стараются подражать такому, как вы! – закричал Коротышка.
– Что?! – переспросил дрожащий Легго. – Что такое ты говоришь?
Мне казалось, что он пытается понять нас, и я знал, что он не сможет этого сделать. Но он сейчас плакал внутри себя, потому что мы задели в нем какую-то струну, напомнившую ему обо всех его неудачах в роли отца. И я сказал, стараясь сделать это как можно мягче:
– Основной проблемой этого года были даже не гомеры, а то, что у нас не было никого, с кого хотелось бы брать пример, кто был бы образцом для подражания.
– Никого?! Никого во всем Божьем доме?
– Для меня, – сказал я, – только Толстяк.
– Он? Но ведь он такой же псих, как и Даблер! Ты же не всерьез, а?
– Вот что мы пытаемся сказать, шеф, – с нажимом сказал Чак. – Как мы можем заботиться о пациентах, если никто не заботится о нас?
Мне показалось, что Легго впервые услышал его. Он застыл. Он почесал голову. Он начал жестикулировать, будто собирался что-то сказать, но не сказал ничего. Его колени подломились, и он сел. Он выглядел потрясенным и обиженным, как ребенок, который вот-вот заплачет, и мы видели, как его нос задергался и как он полез в карман за носовым платком. Грустные, отрезвленные, но все еще злые, мы поплелись к выходу. Двери закрылись за последним из нас, оставив нашего шефа в одиночестве. Пьяный, с заплетающимся языком Никсон разваливался на части в общественных местах. Люди отворачивались. Никто не хотел знать, что он чувствует.
Берри, Чак и я гостили в поместье Нэйта Зока. Мы сидели в фальшивом Елизаветинском саду, купаясь в лучах вечернего летнего солнца и любуясь на особняк стоимостью в миллионы долларов, представлявший собой мешанину из архитектурных излишеств разных тысячелетий. Нэйт закончил пересказывать историю о «Баше, крутом парне, которому лучше не перечить». Мы с Берри отправились играть в теннис, оставив Чака напиваться вместе с Нэйтом и Трикси, а тучное потомство Зоков в это время налегало на закуски и низкокалорийный сельдерейный тоник. Теннисный корт был закрыт от ветра буками и тополями, а окружавшая его ограда была обсажена розами. Корт был наполнен красками роз, ароматом роз, и казалось, что мы играем в теннис внутри розы. Мы вспотели. Мы остановились, и тогда Нэйт предложил нам охладиться в бассейне. У нас не было с собой купальных принадлежностей.
– Все в порядке, – сказал Нэйт, – никто не будет смотреть.
– И никто не станет следить за временем, – добавила Трикси, – мы знаем все о сексуальной жизни молодых докторов.
Мы прошли по газону в сторону дома, и я понял, что в отличие от богачей, я не привык к такой изолированности, к отсутствию соседей, к тому, что теннисный корт и бассейн были совсем рядом. Мы прошли мимо гаража, в котором дворецкий полировал «вольво» Берри, пытаясь добиться такого же блеска, как и у белого «Эльдорадо» Нэйта. В крытом бассейне, где звук шагов отражался от кафеля стен, мы разделись, обнялись и нырнули в воду идеальной температуры. Всплеск, всплеск, не лучший всплеск, но зато много всплесков.
В сумерках, после ужина, продолжая пить, мы поболтали о письме Зока. Нэйт отправил Легго письмо обо мне – и получил самый теплый ответ. Будучи не из тех, кто удовлетворится чем-то, кроме «самого лучшего», Нэйт позвонил Легго и Рыбе, чтобы «прояснить, что эти ребята о тебе думают и совпадает ли это с тем, что думаю я, так как я отлично вижу талант, а иначе я бы не добился того, что имею сейчас». Поговорив с Легго, Рыбой и еще парочкой пролиз, Нэйт все прояснил. И не только прояснил, но еще и добился, чтобы одна из палат в крыле Зока была названа в мою честь и отныне и навсегда именовалась «Палатой Баша». Но и это не все! В Доме Божьем в дополнение к «Лучшему интерну дома» и «Черному ворону» появится еще одна ежегодная награда, «Премия Баша», с поездкой на двоих в Палм-Спрингс в качестве приза. Она будет вручаться терну, «наиболее ярко проявившему качества доктора медицины Роя Г. Баша», главным из которых будет считаться умение «оставить пациента в покое». Услышав про «Палату Баша» и «Премию Баша» Легго и Рыба были слишком шокированы, чтобы суметь хоть что-то возразить. Мой благодетель, Зок, потрясал. Мое имя будет увековечено в Божьем доме.
Мы закурили сигары. Ночь была настолько спокойна, что огонек от спички поднимался строго вертикально. Чак и Нэйт обменивались байками из жизни. Чак рассказал об открытках, последняя из которых была такой: «ХОЧЕШЬ СТАТЬ АДМИНИСТРАТОРОМ В ИНСТИТУТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ? ЕСЛИ ДА, ЗАПОЛНИ АНКЕТУ И ВЕРНИ ОТПРАВИТЕЛЮ». Нэйту история очень понравилась. В свою очередь он рассказал, как Великая депрессия обратила пятьсот долларов в гигантскую фабрику, производящую болты и гайки, «не лучшие, но зато много». Чаку история очень понравилась. Долгий июньский вечер был наполнен серенадами сверчков, и сумрак окутал нас как кошачье мурлыканье. Берри положила голову мне на плечо. Нэйт и Трикси полюбили ее и предложили стать психотерапевтом, контролирующим лишний вес их детей. Нэйт рассказал нам с Берри, как отец Трикси сказал ему когда-то: «Если доишь корову, то должен ее купить», намекая, что нам неплохо бы пожениться. Чак встрял с предупреждением: «Как говорят у нас дома, если что-то посадил, то обязан следить за ростом». Обняв нас троих со слезами на глазах, Нэйт пожелал нам спокойной ночи, сожалея, что мы отказались от его предложения начать частную практику. Находящийся в мире со всей Вселенной, полный любви, я смотрел, как мрак окутывает красную черепичную крышу Дома Зока, напоминающую мне о черепичных крышах Франции.
9
Любой в Божьем доме, увидевший эти горбы, испытывал отвращение. Эти огромные, воздушные, немыслимые горбы породили даже больше слухов, чем Зок. Учитывая, что частота дыхательных движений у Оливии О. колебалась в районе шести в минуту, наибольшей популярностью пользовалась «теория запасного кислорода», а некоторые даже полагали, что слегка зеленоватая гомересса превращается в растение. И вот в последнюю неделю моей тернатуры мы с Леоном Скрытое Присутствие, ожидающим специализации, сидели на верхней койке с историей болезни Оливии О., прикидывая, как бы половчее выбить из колеи нашего шефа. Я очень хотел посмотреть, проявит ли Легго хоть какие-нибудь человеческие эмоции, увидев эти жуткие горбы.
После достопамятного фуршета Легго пошел на некоторые уступки, провел ряд встреч и сделал несколько интересных предложений, так что, судя по всему, все, кроме двух-трех интернов, в итоге продолжат работу в Доме. Мы с Коротышкой точно уходили, Чак пока не определился. Остальные оставались. В скором времени они отправятся в американские академические центры и на специализации, настоящие умники-терапевты, элита, подготовленная Лучшим медицинским институтом и Божьим домом. Несмотря на то, что некоторые из них покончат с собой, или подсядут на наркоту, или сойдут с ума, в общем и целом они будут подавлять себя, приспосабливаться, прославят Легго и Божий дом и будут слыть лучшими. Легго захваливал Эдди, обещая назначить его резидентом отделения в июле и дать «полную свободу действий» в отношении интернов. И вот, утверждая, что «интернатура была не так уж и плоха», Эдди уже готовился воплотить в жизнь свою новую концепцию: «Я поставлю их на колени с первого дня». Через год он вернется в родную Калифорнию получать специализацию в онкологии. Гипер-Хупер тоже оставался. Он прислал нам открытку из Атлантик-Сити, с рисунком черного ворона вместо подписи. Вернувшись в Божий дом, он быстро доказал, что не утратил хватки. Не успел он войти в палату к СБОП, которая поправлялась и готовилась к выписке, и сказать ей: «Здравствуйте, дорогуша», как та ахнула, схватилась за сердце и через пять минут была уже мертва. Вскрытие показало массивную тромбоэмболию легочной артерии. Легго пообещал Хуперу, что он сможет начать резидентуру в морге, проводя вскрытия своих собственных пациентов. И вслед за Эдди придя к выводу, что «интернатура была совсем не плоха», Хупер готовился ко второму году – и последующему возвращению в Калифорнию на специализацию в «смертологии». Коротышка отправлялся на запад, в классическую «восточную» резидентуру по психиатрии при университете Вайоминга, возглавляемую гуру по имени Гроям, получившим докторскую степень в Университете Канзаса. Коротышка был счастлив начать карьеру в психиатрии в диаметрально противоположной его «западным» родителям системе психоанализа. Было ясно, что это было очередным маневром в его войне против родителей, показывающим его желание устроить мамочке и папочке полного Фрейда. Крутые Бедра заявила, что не будет по нему скучать. Коротышка вообразил, что ему наплевать. Он еще не знал, насколько одиноко может быть в Вайоминге.
Мои амбулаторные пациенты, узнав о моем уходе, расстроились. Они приносили подарки, приводили родственников и желали мне удачи. Одна из них, та, которой я недавно сообщил о неоперабельной раковой опухоли и которая отказывалась в это верить, спросила: «Ну и куда ты теперь собрался?» Когда я сообщил, что собираюсь год отдохнуть, она сказала: «Отлично, я буду твоей пациенткой, когда ты вернешься». Нет. Она будет мертва. Это было тяжело, очень тяжело. Я провел последний прием в амбулатории, постоянно вздыхая и едва сдерживая слезы. Мэй, черная свидетельница Иеговы, обеспокоенная моим пыхтением, спросила: «Ой, доктор Баш, вы ведь не заразились от меня астмой?» Когда я говорил, что собираюсь стать психиатром, многие удивлялись.
«…НЕ СОБИРАЕШЬСЯ В РЕЗИДЕНТУРУ? ТЫ ЖЕ ОБЕЩАЛ ИМ! КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ТВОЕМ РЕЗЮМЕ? ИЗМЕНИ СВОЕ РЕШЕНИЕ! Я ПОРАЖЕН!..»
Мой отец. Первый раз за все время он оказался выбитым из колеи. Но вскоре, успокоившись, он вернулся к своей привычной манере, к своему привычному сыну и продолжал:
«…Не могу понять, как ты берешь год отпуска и отказываешься от такого заработка. Я потрясен, что ты собрался в психиатрию, и это пустая растрата твоего таланта. Я надеюсь, что смог это объяснить, но, наверное, нет. Я уверен, что ты полностью посвятишь себя новой области медицины и у тебя есть все задатки, чтобы стать прекрасным практикующим психиатром. Твой глубокий интерес к людям и умение заглянуть им в душу станет основой для твоей работы, и я надеюсь, что ты сможешь заработать себе на жизнь. Современная философия предполагает наслаждение каждым днем жизни и тем, что запланировал в меру своих способностей, и мы с мамой постараемся, как и раньше, жить таким образом. Погода была так себе, но запомни, мой старший сын, НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ДОЖДЯ НЕ БЫВАЕТ…»
Я наконец понял, что означают все эти отцовские союзы. Надежду. В ней был смысл жизни. И что было моей надеждой теперь? Взять годовой отпуск, рисковать, вырасти, быть с другими – даже с родителями, которые любят меня, несмотря на то, что я столько лет отстраняюсь от них и смотрю на них свысока. Был ли Толстяк до сих пор моей надеждой? В каком-то смысле да. Он многому меня научил, и он открыл мне глаза на единственное настоящее изобретение американской медицины: надежную систему, которая с минимальными усилиями позволяет превратить искренних, энергичных парней в скучных докторов с комплексом превосходства, которые могут мириться с ужасами болезни и фальшивым «лечением», которые успешно живут в мире всеобщих фантазий об идеальном здоровье, над которым не властны даже возрастные изменения; целая нация Гипер-Хуперов и прочих калифорнийцев, верящих, что каждый день будет солнечным, а тело всегда останется молодым, плывущих на волнах жизненной силы, а когда надвигаются тучи, распадаются браки, ослабевает эрекция, а на руках появляются старческие пятна – в ужасе ломающихся.
Итак, мне удалось уберечь Оливию О. от смерти в результате вмешательства частников, пролиз, студентов, сотрудников «ПОМОЩИ» или уборщиков дома. Через несколько дней гомересса достанется новому терну. Мы выжили. Легго прибыл на обход. Я начал рассказывать о пациентке и вдруг понял, что со дня экстренного фуршета шеф терапии держался отстранено и почти не появлялся в поле моего зрения. Изредка я видел его – и он выглядел серьезным, грустным, замкнутым и исполненным горечи – но в то же время подозрительности. Это почему-то меня беспокоило. И все-таки Оливия, настоящее чудо, кажется, вдохнула в него жизнь. Я не упомянул о горбах, и вопросы, которые шеф задавал 789, в основном касались ее диабета. Легго интересовало, почему при том, что на момент поступления уровень глюкозы в крови у Оливии был в три раза выше нормы, Семь решил дать ей еще больше глюкозы, подняв уровень до превышающего норму в девять раз и установив тем самым рекорд Дома. Семь повел себя как истинный математический гений, нарисовав сложную векторную диаграмму действия ферментов, которая привела в замешательство всех присутствующих. В редком для него порыве воодушевления шеф сказал: «Великолепный случай, ребята! Пойдемте осмотрим ее».
Мы практически вбежали в палату. Чак и я расположились у изголовья койки. Попробовав поговорить с Оливией и не получив ответа, Легго начал осмотр. В молчаливом ожидании мы наблюдали, как он осторожно откидывает простыню и замирает. Было неясно, увидел ли он горбы. Аккуратно, словно общаясь с духами мертвых, он приподнял ночную рубашку. Там были они: гигантские, гладкие, дрожащие, покрытые зелеными венами, загадочные, почти кабалистические горбы. Легго даже глазом не моргнул. Множество глаз уставились на него, но никто не заметил хоть какой-нибудь реакции. Даже самые закаленные интерны при виде горбов почувствовали себя некомфортно, но наш шеф даже не вздрогнул. И что же он сделал? Тихо, осторожно, как кот, играющий с едой, он положил правую руку на ее правый горб, а левую – на левый, а мы с трудом сдержались, чтобы не заорать с отвращением, удивлением и негодованием: «НЕТ! НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!» Скажет ли он нам, что в них находится? Он не сказал. Он просто стоял, прямой, как палка, держась за ее горбы минуты две, а то и больше, и никто из нас не смог понять, зачем он это делает. Таким мы видели его лишь возле большого пальца ноги Мо, а также при виде чего бы то ни было, наполненного мочой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.