Текст книги "Жизнь и ее мелочи"
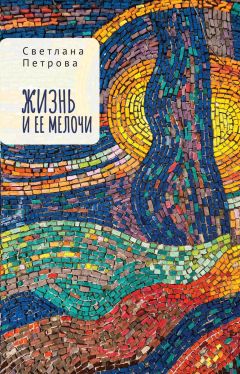
Автор книги: Светлана Петрова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Убийство в степи
Ветер дул в лицо, острый, сырой, совсем не весенний, и сильный – валил с ног. Ерген брёл из последних сил, согнувшись под своей ношей в три погибели. Руки онемели, шея затекла, ныла прострелянная на фронте голень, но он боялся остановиться – потом уже не взвалить на спину чудовищного размера тюк, не заставить притерпевшееся к страшной усталости тело снова стремиться вперёд и вперёд.
Вот и камень, на который он обычно присаживался по дороге на пастбище, значит осталось километров восемь. Нельзя садиться, нельзя, потом не встанешь, не захочешь встать. Ну, вот камень позади, соблазн тоже. Теперь он дойдёт, должен дойти. Ветер, шайтан, ворошит тюк выдёргивает соломинки, разносит по степи, а каждая былинка на вес золота, хоть и мало в соломе пользы для пустых овечьих желудков. Может, проволока лопнула? Посмотреть бы, но голову повернуть опасно, можно потерять равновесие. Ничего не поделаешь, это бы донести.
Мог ли он представить себе такое год назад, когда вернулся из армии? Здесь всегда жили бедно. Отец с матерью до сих пор в колхозе работают, но старые стали, скоро помощь потребуется. И ему они нужны, как нужен родной дом, родное небо, эта сухая трава под ногами и бескрайняя даль, такая синяя, что больно смотреть. Недаром у его народа узкие глаза.
Совсем отвык от этих мест: три года учился в райцентре, жил в интернате, потом Афганистан. Отслужил честно: пулю и медаль заработал. Ребята звали в Сибирь, на Днепр, в Донбасс, рассказывали завлекательно – работы и народу много, а он им объяснял, как умел, красоту степей. Но никого не соблазнил, все разъехались по своим домам. И правильно: настоящее место человека там, где родился.
У, как тяжело. По груди и между лопатками ручьями течёт пот. Выстуженный ветром он леденит, словно змея. Ладно, перетерпится, бегать под огнём с полной выкладкой не легче. Прежде здесь только овец пасли, но уже давно большую часть степи запахали, сеют хлеб. Под пастбища оставили самые засушливые участки, да и те копытами вытоптаны в пыль: слишком мало земли. Овец теперь круглый год содержат в кошарах, а корм привозят. Старики, что прежде гуляли с овцами по просторам, от такой работы заскучали, ушли доживать век по аилам. Молодые, пока учатся да служат срочную, отвыкают от дома, от обычаев предков, тянутся в город к чистой размеренной жизни. Рабочих рук в степи не хватает. Когда Ерген вернулся из Афгана, председатель колхоза Басан к нему пристал: бери кошару – 1200 голов в Айли-Сайской степи, пособи родному колхозу выполнить план, не отстать от соседей, с которыми мы соревнуемся и которые взяли в этом году повышенные обязательства. Да и районное начальство наседает: кровь из носу, а увеличивай поголовье. Стране нужно мясо. Помоги, Ерген, задача-то государственной важности, ты партийный, тебе объяснять не надо.
Ерген в чабаны не хотел, шоферить собирался. Но колхозные грузовики от бездорожья, от отсутствия запчастей и ремонтной базы почти развалились. Правда, обещали новые. И Басан тоже обещал взять Ергена шофёром, когда будет на чём ездить.
Ну, наконец-то: на горизонте проступило серое пятно, оно шевелилось – это его отара. Теперь он дойдёт, чего бы это ни стоило. И понесло же его в Айли-Сайскую степь! До него тут чабанил опытный Джусалы. Несколько лет бился, сам, чем придётся, чинил дырявую крышу кошары, сам выхаживал ягнят, ругался с председателем за каждую тонну кормов. Всё равно дохли овцы – от недоедания, от болезней и холода зимой. Не выдержал Джусалы, подался в потребсоюз закупать у населения каракульчу – шкурки мёртвых ягнят. Басан обозвал его на собрании дезертиром: весь народ борется за ускорение, а ты бросаешь важный государственный фронт, погнавшись за длинным рублём. Людям сейчас не шубы нужны, а в первую очередь мясо. Изгоним таких, как Джусалы, из рядов честных тружеников, кричал Басан. Но колхозники знали: Джусалы сделал всё, что мог и чего не мог, а овцы сотнями подыхают и у соседей. Знали и то, что верные люди пасут на дальних лугах личные стада председателя, секретаря партбюро колхоза и главного бухгалтера. И ещё жизнь научила, что правда, если и есть, то где-то очень далеко, отсюда не видать, а Басан рядом. Потому и молчали.
Если уж Джусалы сдался, то мне точно не потянуть, – ответил на предложение председателя Ерген. Тот замахал руками: это когда было! Теперь у нас перестройка, тебе ни о чём беспокоиться не надо, это у меня голова должна болеть, как обеспечить овец кормами. И обеспечу! Честное слово партийца! Да, да, подтвердил бухгалтер, кивая упитанным лицом, мы устанавливаем новые экономические связи и отношения, корма будут.
Ух, Ерген ввалился в кошару, и упал на спину, на солому, которую принёс. Упал, и показалось ему, что помутившееся сознание провалилось вместе с ним куда-то во тьму. Под закрытыми веками метались искры и красные круги, затем выплыло круглое, как луна на небе, лицо жены Алтычи. Не хотела отпускать его на зиму в эту проклятую степь, плакала, обнимала, прижималась тёплым мягким животом, рассчитывая на силу своих прелестей. Он женился на ней срезу после армии. Устал от войны и тяжёлой необходимости подавлять чувство страха, плоть требовала женщины, чтобы расслабиться, перестать убивать и приблизиться к своей сути, к тайне продолжения себя. Женился, не дожидаясь, пока вернётся с курсов животноводов юношеская привязанность, застенчивая Якшуль.
Весь отпуск Ерген днём и ночью пил, как вино, сладкую нежность молодой жены, пил ненасытно и наконец насытился, тело запросило работы. А Алтыча – что с бывшей школьницы взять – поверила, будто нет в жизни мужа ничего главнее любви. И в те дни, когда дела задерживали его в районе, в правлении колхоза, у родных, в слезах бросалась ему в ноги, упрекая, что разлюбил. Ерген, действительно, стал к ней равнодушен. Ал-тыча жила в сытости и праздности, желая, чтобы и муж сидел подле, толстея пил кумыс, и дети тренькали у него на груди медалью «За отвагу». Это не для него. Лепёшка не лезет в горло, когда голодной смертью умирают тысячи безропотных живых тварей, не понимая, чем они провинились перед человеком, который приручил их, взяв на себя обет – поить и кормить.
Кто-то коснулся щеки, и Ерген с трудом разлепил веки: ягнёнок, единственный, уцелевший из последнего окота. Привязался к чабану, как щенок. Ерген дал ему имя Сегиз, согревал за пазухой, подкармливал хлебом. Плохо рос Сегиз: у матери-овцы мало молока. Худой, ножки тоненькие, в паху редкая шерсть обнажала тонкую синюшную кожу. Ягнёнок попробовал губами лицо человека. Дыхание было почти неощутимым, а вместо блеяния раздался еле слышный шорох гортани.
В проёме кошары толпились овцы, те, что оставались живыми вопреки здравому смыслу. Они не рвались к соломе, не напирали друг на друга, а стояли безучастно, глядя слепнущими глазами, как будто ждали не пищи, а избавления от жизни. И вспомнился Ергену хроникальный фильм: афганские дýхи, как овцам, вспарывают животы нашим пленным солдатам, и в глазах у ребят ужас понимания, что это всё, это конец, и их, дававших клятву защищать свою страну, на чужой земле защитить некому.
Тоска подступила к сердцу Ергена. Он замычал, сжав зубы, стал раскачиваться из стороны в сторону, но тоска не уходила, наоборот, росла, постепенно захватывая холодными тисками его всего, клеточку за клеточкой. Разжав зубы, Ерген широко распялил рот и закричал страшно, как тварь, с которой живьём сдирают кожу. Кричал долго, с исступлением извергая безумные звуки и оглушая самого себя. Даже овцы, которые, казалось, уже ничего не чувствовали, попятились назад.
На рассвете Ерген, раздав еду животным, отправился в райцентр. Сломанный грузовик с прицепом, на котором он вчера пытался добраться до кошары, стоял на дороге. Надо просить Басана прислать трактор, чтобы вытащить тюки соломы, которую так ждали голодные овцы. Впрочем, их уже ничто не спасёт, весь год они получали вместо трёх одну кормовую единицу, а последний месяц только пустую солому. Жить им осталось недолго.
Уже к полудню, преодолев пешком двадцать километров, Ерген был в городе. В колхоз не заходил, не верил Басану, который предаёт великое время перемен. Совет народных депутатов он сам выбирал – вот, где всё могут и всё должны. Рассказать о Басане – не главное, главное – транспорт, чтобы отвезти оставшихся овец на мясокомбинат, хоть что-то спасти для людей, а живность от мучений.
Ерген открыл красивую стеклянную дверь здания горисполкома и ступил на красную дорожку, на секунду смешался, снял грязные разбитые сапоги, поставил их в уголок, смотал портянки и уверенно зашагал по коридору, ощущая босыми ногами колкость нового ковра. Вот и табличка с фамилией первого секретаря. Ерген вошёл в кабинет, с достоинством поздоровался, коротко и толково объяснил суть дела. Секретарь поблагодарил заросшего щетиной босого человека, посетовал, что тот не пришёл раньше. Сказал участливо: если б мы знали, подобного безобразия не допустили. Такие, как Басан, мешают прогрессу в сельском хозяйстве, маскируясь под перестроившихся. Это вредные люди, с ними нужно вести беспощадную борьбу. Вы коммунист, с вас и спрос – почему разрешаете у себя под носом орудовать человеку, запятнавшему звание партийца? Давно следует поставить вопрос на общем собрании колхозников. Если народ лишит его доверия – будем менять. Я поговорю в обкоме, подберём кандидатуру грамотного хозяйственника. Правда, с кадрами сейчас трудно, многие запятнали себя в период застоя, но ничего, поможем.
Ерген слушал внимательно. Спросил: а как насчёт транспорта? Председатель высоко поднял брови: с транспортом туго, да и мясокомбинат сверх плана ничего не возьмёт, кроме того, насколько я понимаю, вес у ваших овечек не кондиционный. Они не мои, сказал Ерген, государственные, нужно же что-то делать срочно. Председатель не сдавался: тут целая группа вопросов, один я их решить сразу не могу, попробуйте обратиться в товарищу Кектееву, он занимается сельским хозяйством в горкоме. Зачем мне горком? – удивился Ерген, вы же и есть советская власть. Мы власть исполнительная, поучительно заметил секретарь, и чабан опять почувствовал тоску. Кектеев оказался на совещании в областном центре, его ждали только завтра к вечеру, и вообще, на приём надо записываться заранее. А если срочно? Для срочных свой список.
Всю обратную дорогу лил дождь. От сырости, от голода, от душевной боли Ергена било крупной дрожью, зубы стучали, воспалённые глаза блестели. За время его отсутствия отара, хотя и съела тюк соломы, ещё поредела, это он заметил сразу, но останавливаться не стал, прошёл в пристройку. Там, на столе лежал большой острый, как бритва, плоский нож с удобной ручкой. Нож подарил знакомый афганец в знак дружбы.
Прежде Ергену не приходилось резать овец, хотя он видел, как это делается. Первой жертве он просто полоснул по горлу, она рухнула на бок, но сдохла не сразу, долго дёргала грязными ногами, изо рта вместе с хрипами вырывались кровавые пузыри, и Ерген вонзил ей нож между рёбер, где, по его мнению, должно находиться сердце. Овец осталось сотни три, Ерген работал без отдыха, чтобы успеть до темноты. Некоторым хватало одного удара, с другими пришлось повозиться, хотя все были слабыми и не разбредались, а стояли смирно, дожидаясь своей очереди. Дождь давно закончился, одежда Ергена, залитая кровью, задубела и мешала двигаться свободно, но он не обращал внимания. Хватая за загривок одну овцу за другой, всё с ужасом ждал, когда попадётся Сегиз. Но вот и последняя жертва, солнце коснулось горизонта, а Сегиза нет. Спотыкаясь от усталости, Ерген побрёл к загону, откуда навстречу вышел его ягнёночек, видно, прятался там весь день, боялся, не зная, что и смерть бывает избавлением. Сегиз сделал несколько шажков и зашатался, передние ножки подогнулись. Ерген тоже опустился перед ним на колени: сейчас, сынок, сейчас всё закончится и тебе станет легко.
Так они и стояли друг перед другом, солнце опускалось всё ниже, закат стал красным, а человек никак не мог решиться. Наконец, нож глубоко вошёл под рёбра Сегиза. Ерген лёг рядом и стал смотреть, как меняется цвет неба. Ветер разогнал тучи, над степью стояла тишина.
Ерген устал. Он больше ни о чём не думал, ничего не желал, всё потеряло смысл, только нож в руке ещё хранил его. Ерген направил лезвие себе в грудь, и солнце наконец провалилось за горизонт.
Оползень
И будут они вкушать от плодов путей своих.
Книга Притчей Соломоновых, гл.1, стих 31.
1
Захар Головатый, по происхождению черноморский казак, по званию подхорунжий, по призванию художник, по профессии повар высшего разряда, по социальному статусу пенсионер, вышел поутру из вагончика, служившего ему домом, и, прижмурившись, стал смотреть в сине-зелёную даль, затуманенную дрожащим от июльской жары маревом.
Люди с музыкальным ухом иначе, чем все остальные, воспринимают ритмично организованные звуки, так и Захар видел то, что от других сокрыто, а иным и вовсе неинтересно: пёструю палитру ствола платана, глубину светотени под старой грушей, диковинную форму облаков. Но доминантой среди всей красоты открытого пространства было море.
Искрясь в солнечных лучах, оно лежало слева до Адлера и справа до Большого Ахуна, а прямо – до самого горизонта. Если подняться на гору повыше того места, на котором Захар стоял, горизонт бы отодвинулся, но ничего не изменилось – море и только море, знакомое и всегда новое. Цвет воды зависел от игры ветра и света, от погоды, от времени года и часа дня. Море обладало способностью и быстро меняться, и завораживать монотонностью. Казалось, где-то на большой глубине гигантские лёгкие то мощно дышат, дрожа от гнева, то безмятежно спят.
Краски неба над вечерним морем вообще описать невозможно: все оттенки семи цветов радуги. Когда солнце тонуло в море с макушкой, вода и воздух насытившись ультрамарином, темнели и сливались в единое целое, а огни проходящих вдали судов выглядели звёздами на небосводе.
Море Захар любил с детства, хотя «любил» – не совсем точное слово, море являлось неотторжимой частью его бытия, питая взор, душу и мозг. Теперь, когда жизнь обрушилась, стало казаться, что несчастья начались после того, как он потерял прямую связь с морем, надеясь обосноваться на пыльной кубанской земле, чтобы погрузиться наконец в давно лелеемый книжными мечтами истинно казачий быт.
Хотя, ежели вдуматься, судьба его определилась много раньше, когда он, самый рослый парень выпускного класса, 1 сентября в просторном школьном дворе на празднике «первого звонка» посадил на плечо кудрявую малышку с колокольчиком и пустился в пляс перед учителями, родителями и детьми, еле видными за щедрыми букетами цветов. Наконец опустил девочку на землю.
– Как звать?
– Луиза! – звонко выкрикнула она непривычное имя и побежала в толпу.
Всё в мире предопределено. Школа теперь называется лицеем, но стоит всё там же, на тихой улице Ушинского в тени гигантских гималайских елей и магнолий. А Луизы больше нет.
Глаза слезились то ли от яркого солнца, то ли от нахлынувших картин прошлого. Старик прикрыл веки. А ведь сколько времени убыло, пока он снова её встретил! Успел и в армии отслужить, и жениться, и дочь в детский садик определить – ничто не порушило однажды возникшую мистическую связь. В случайной, чужой компании девушка с круглыми плечами, высокой грудью и тяжёлой копной тёмных волос, знакомясь, протянула руку:
– Луиза.
Как вспышка света. Он сразу вспомнил воробьиную лёгкость детского тельца и подивился нынешней густой женской прелести, но ещё больше – неожиданному чувству родства и общности, словно все эти годы они прошли вместе, думали одинаково и ему известны её желания.
Весь вечер Захар лелеял в себе это ощущение. Боясь расплескать, сидел тихо, сторонясь шумных разговоров и громкого смеха. Его не смущало, что Луизу по-хозяйски обнимал за плечи популярный сочинский гитарист и она улыбалась ответно. Мало ли что было прежде, теперь станет иначе. Прощаясь, спросил:
– Помнишь, как я тебя, первоклашку, нёс на плечах?
– Не помню, – ответила она пренебрежительно и одновременно фасоня. Улыбнулась, чтобы показать красивые зубы.
Рухнул последний бастион, и любитель истории неожиданно выпалил.
– Свет очей моих…
Так царевна Софья называла князя Голицына, своего любовника. Завладевшая вниманием Захара брюнетка о сестре первого русского императора слыхом не слыхивала. В удивлении подняла соболиные брови:
– Дурак.
И опять улыбнулась.
Дурак почувствовал себя счастливым.
Да, давно это было. Глядя назад через долгую вереницу лет, начинаешь думать: а может, и не было? Иногда Захару, часто перебиравшему старые фотографии, стало казаться, что это лицо другой женщины, а не той, которую он любил так самозабвенно. Или всё случилось с ним в какой-то иной жизни, а может, прочитано в книге.
С тех пор, как старик поселился на горе, он много работал физически, возделывая огород и ухаживая за садом, сооружая надворные постройки, вырезая завитки на самодельной мебели. Руки двигались почти автоматически, предоставляя голове свободу размышлять. Порой рефлексия одолевала так настойчиво, что становилось тяжко, приходилось мысли отгонять, словно мошкару, но они кусали и не уходили. Как сегодня.
Захар вздохнул, смахнул огрубевшим пальцем влагу с ресниц и пошёл под навес готовить себе нехитрый завтрак. Включил плитку, опустил кипятильник в банку с водой, достал мешочек дроблёной овсянки и пакетик цикория – кофе по утрам он пить перестал из-за перебоев в сердце, а в течение дня наслаждался божественным вкусом и духом собственноручно собранных трав, превосходящих дорогие магазинные чаи. Держа каравай на весу, отрезал толстый ломоть ржаного хлеба, покрошил на него сухой козий сыр. Магазинный, приготовленный по технологии, обеспечивающей быструю прибыль, долго бы не продержался, заплесневел, а этот, домашний, хотя и своеобразный, его устраивал.
Изобретательный повар и прежде презирал изыски для себя, а ныне простота сделалась необходимостью. Ходить вниз за продуктами с каждым годом становилось всё труднее, и он легко обходился малым. Мясо, курицу ел раза два в неделю, зато овощи и фрукты имелись в избытке. Летом свежие, а на зиму Захар сушил обильные дары сада и ягоды – на компоты, квасил капусту, мочил яблоки, солил помидоры с огурцами, баклажаны с кабачками, чеснок и грибы. Десяток несушек ковыряли червячков в небольшом загоне, в ближнем лесу паслась молоденькая, но сисястая козочка. Всё своё, только трудись – не ленись! Все бы так жили, здоровее были, но не всем дано, город, особенно большой, диктует свои порядки, требует скорости и общих правил.
Конечно, разумная организация нужна везде. Вот и Захар, с утра до полудня носил воду из бойкого живительного ключа, возился в земле – труд нескончаемый и изнурительный для позвоночника, но важный. Бабочки-капустницы за месяц успевали отложить между листьями несколько поколений детишек, способных оставить от кочанов одни кочерыжки. Поскольку химию огородник не применял, за право есть капусту ему предстояло бороться с прожорливыми гусеницами вручную. Уничтожение зародышей чужой жизни, давало повод задуматься о необходимости совершать зло. Оправданное. Кем? Тем, кто сильнее.
Однако он мог остаться лежать, если чувствовал слабость или просто испытывал лень, закончить отложенное можно и завтра, послезавтра – когда будет желание. Без желания работа превращается в истязание тела и души, а в охотку всё вершится споро. И ещё: то, что он делает, должно нравиться только одному человеку – ему самому. Это существенно.
Середина дня посвящалась творчеству. Уже несколько месяцев, укрывшись от жары в густой тени деревьев, Захар корпел над резьбой деревянного трехстворчатого складня: в центре Христос, по бокам Богоматерь и Иоанн Креститель. Такую картинку он ещё мальчиком видел в библиотечной книге. Художественная память впечатление сохранила, и вдруг образ запросился наружу. Зачем ему, атеисту, икона? Если бы он знал.
Обед был простым, но сытным. Жевал человек труда медленно и старательно, обдумывая меню на завтра, а заодно прикидывая, что следует закупить в следующую магазинную ходку. Чтобы лишний раз не тратить энергию на разогрев плитки, поев, он приготовил овощной ужин, который можно съесть холодным, обманув вкус сметаной. Грязную посуду мыл тщательно и обязательно вытирал – так приучила приёмная мать, полотенце сполоснул в тазике нагретой солнцем водой и повесил сушить.
Самые жаркие часы разумнее всего проводить в дрёме на самодельной раскладушке в саду, где земля, затенённая кронами деревьев, манит обманчивой прохладой. После отдыха наступала очередь домашних, столярных, слесарных работ, которых в любом хозяйстве хватает, а нужно выкроить светлое время и для чтения, чтобы потом зря не жечь лампочку. Наконец солнце, завершая привычный маршрут, двинулось к закату. Резче запахли цветы, в кустах замигали светлячки. На гору стремительно опускалась тень, потянуло свежим ветерком, сбегающим ночью с вершин в долину, и скучавший с утра ветряк начал весело раскручивать лопасти, накапливая бесценную энергию. Ещё один день Захара стал прошлым, пора на боковую. Но он не спешил заключить себя в вагончик и присел на скамейку под развесистой смоковницей, любуясь картинами засыпающей красоты. Земля, каждый сантиметр которой Захар обласкал своими руками, вызывала в груди всхлип восторга. От неё исходили благодать и желание жить. Он с неистощимой нежностью охватывал взглядом роскошный сад, уходивший за пределы участка до самого леса, стройные огородные ряды, окружённые золотом подсолнухов, виноградную беседку. Когда-то ржавое жилище, теперь обшитое жёлтой вагонкой и увитое неприхотливым чёрным виноградом «Изабелла» с запахом зелёных лесных клопов, походило на бунгало отдыхающих у моря импрессионистов.
Красно-кирпичная бабочка-крапивница не успела устроиться на тёплый ночлег и, сложив расписные крылышки, застыла рядом на скамейке. Эти красотки, искусные опылители растений, совсем не боятся людей. Захар где-то прочёл, что древние римляне считали их цветами, олицетворяющими любовь. Он аккуратно взял шоколадницу двумя пальцами, посадил на ладонь, тепло и нежно выдохнул. Бабочка задрожала, раскрыла бархатные опахала и полетела в сторону сада, оставив на руке лёгкий отпечаток.
Старик задумчиво потёр пальцами, словно перебирая пыльцу воспоминаний.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































