Текст книги "Дикие пальмы"
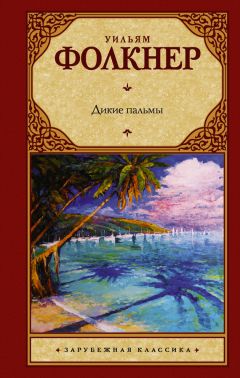
Автор книги: Уильям Фолкнер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
– Далеко мне придется идти? – спросила она.
– Да не знаю я! – выкрикнул он. – Но земля где-то здесь, рядом. Земля, дома.
– Если я попытаюсь двинуться, то ребенок родится даже не в лодке, – сказала она. – Ты должен подвести лодку поближе.
– Да, – закричал он, обезумевший, отчаявшийся, потерявший надежду. – Подожди. Я пойду и сдамся, и тогда им придется… – Он не закончил, не успел закончить; и об этом он рассказал тоже: как он спотыкался, разбрызгивал воду, пытаясь бежать, рыдал и хватал ртом воздух, и тут он увидел ее – еще одна платформа, стоявшая над желтой водой, на ней, как и раньше, те же фигуры в хаки, похожие, те же самые; он рассказывал о том, как сменяющие друг друга дни, начиная с того первого невинного утра, сложились, словно телескоп, исчезли, будто их никогда и не было, всего лишь два близких, последовательных мгновенья (последовательных? одновременных), и он не перенесся через какой-то промежуток пространства, а просто сделал полный поворот на собственных ногах и теперь, подняв руки и надрывно крича, пытался бежать, то погружаясь, то выныривая, разбрызгивая воду. Он услышал чей-то испуганный вскрик:
– Смотрите – один из них! – потом слова команды, щелканье затворов, встревоженные крики: – Вот он! Вот он!
– Да! – закричал он, он бежал, спотыкаясь и погружаясь под воду. – Я здесь! Здесь! Здесь! – и продолжал бежать дальше, в первый разбросанный залп, он остановился среди расходившихся по воде кругов от пуль, замахал руками и закричал: – Я хочу сдаться! Я хочу сдаться! – а потом не с ужасом, а с удивленной и абсолютно невыносимой яростью смотрел, как разделилась присевшая на корточки горстка фигур в хаки и появился пулемет, его тупой толстый ствол наклонился и направился и потянулся в его сторону, а он продолжал кричать надтреснутым, похожим на карканье голосом: – Я хочу сдаться! Вы что – не слышите меня? – и продолжал кричать даже увертываясь и ныряя, бултыхаясь, уходя под воду, погружаясь полностью, слыша, как пули вонзаются в воду над ним, а он, ползая по дну, все еще пытался кричать, даже не успев встать на ноги, и, все еще находясь целиком, кроме его торчащих, четко очерченных ягодиц, под водой, испускал он яростный вопль, пузырящийся вокруг его рта и лица, потому что он всего лишь хотел сдаться. Потом он оказался в относительной безопасности, вне их видимости, хотя и ненадолго. То есть (он не сказал ни как, ни где) был один момент, когда он остановился на секунду, чтобы отдышаться, прежде чем бежать дальше, путь назад к лодке был теперь открыт, хотя он все еще слышал крики у себя за спиной и время от времени – хлопки выстрелов: он стоял, глотая ртом воздух, сотрясаясь от рыданий, саднила неизвестно откуда и когда взявшаяся длинная рваная рана на руке, а он тратил драгоценное дыхание, произнося слова, не обращенные уже ни к кому, как крик умирающего кролика, обращенный не к уху смертного, а звучащий как приговор всему живому и самому себе, безрассудству и страданию, бесконечной способности этого крика к безрассудству и боли, в которой, кажется, и заключается его единственное бессмертие: – Я же хочу только одного – всего лишь сдаться.
Он вернулся к лодчонке, влез в нее и взял треснувшее весло. И теперь, когда он рассказывал об этом, несмотря на неистовство стихий, породивших его, он (рассказ) стал совсем простым; теперь он своими пальцами, которые больше совсем не дрожали, даже сложил еще один клочок папиросной бумаги и наполнил его табаком из кисета, не просыпав ни крошки, словно из-под пулеметных очередей он перенесся вдруг в некий предел, недоступный более удивлению, а потому последующая часть его рассказа, казалось, доходила до слушателей словно из-за затененного, хотя и все еще прозрачного стекла, как нечто не слышимое, а видимое… ряд теней, нечетких, но явных, мирно проплывающих, логичных и разумных и абсолютно бесшумных: они были в лодке, в центре широкой спокойной котловины, которая не имела границ и по которой неодолимая мощь потока, снова направляющегося неизвестно куда, несла хрупкую одинокую лодку, на ирреальном и неизменном горизонте сменяли друг друга аккуратные, маленькие, спрятавшиеся под кронами виргинских дубов городки, недостижимые и похожие на миражи и явно не прикрепленные ни к какой тверди. Он не верил в их существование, они ничего не значили, он был обречен; в них было не больше смысла, чем в клубах дыма или горячечном бреду; его неустанное весло продолжало грести, не стремясь теперь ни к какой цели и даже без всякой надежды, время от времени он бросал взгляд на женщину, которая сидела, поджав к груди сомкнутые колени, все ее тело представляло собой ужасающе напряженную дугу, и ниточки красноватой слюны точились из ее прикушенной нижней губы. Он никуда не стремился и ни от чего не бежал, он просто продолжал грести, потому что к этому моменту он уже греб так долго, что казалось: остановись он – и его мускулы зайдутся в вопле агонии. И потому, когда это случилось, он не удивился. Он услышал звук, который хорошо знал (конечно, он слышал его только раз, но и одного раза было более чем достаточно) и которого ждал; он оглянулся назад, продолжая работать веслом, и увидел ее – извивающаяся, пенящаяся, несущая, словно соломинки, свою плавучую ношу в виде деревьев, мусора и мертвых животных, целую минуту смотрел он на нее через плечо из той своей предельной усталости, в которой уже нет места ярости, где даже страдания и способность чувствовать унижения прекращаются, из которой теперь с дикарским и неистребимым любопытством взирал он на способность своих уже потерявших чувствительность нервов переносить дальнейшие страдания, на то, какие еще страдания можно изобрести для них, и тут волна в действительности начала разворачиваться над его головой рокочущим апогеем. И только тогда он отвернулся. Ритм его движений не изменился, он не замедлился и не ускорился; продолжая грести все с той же гипнотической равномерностью, он увидел плывущего оленя. Он не знал, что это такое, как не знал и того, что изменил курс лодки, следуя за оленем, он просто смотрел на плывущую перед ним голову, когда волна обрушилась на него, и лодчонка уже привычно взмыла вверх на месиве плавающих деревьев, и домов, и мостов, и заборов, а он все продолжал грести, даже когда весло не находило никакой, кроме воздуха, опоры, и продолжал грести, даже когда его и оленя бок о бок, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, выбросило вперед, теперь он смотрел на оленя, смотрел, как олень начал выходить из воды, и вот олень уже бежал по самой поверхности, весь возвышаясь над водой, и, возвышаясь, исчезал из поля зрения в умирающем крещендо брызг и хлещущих по нему веток, мокрый олений хвостик мелькал все выше и выше, и животное исчезло из поля зрения, как исчезает дым. А лодка ударилась обо что-то и накренилась, и он оказался за бортом, стоя по колено в воде, он подпрыгнул и упал на колени, с трудом поднялся, глядя вслед исчезнувшему оленю. – Земля! – закричал он надтреснутым голосом. – Земля! Держись! Еще немного! – Он подхватил женщину под мышки и потащил ее из лодки, потащил, падая и задыхаясь, вслед за исчезнувшим оленем. И теперь действительно показалась земля – пологий подъем, ровный, затем набирающий крутизну, потом крутой, странный, надежный и невероятный, индейский курган, и он карабкался по скользкому склону, скатывался назад, а женщина вырывалась из его покрытых склизкой грязью рук.
– Отпусти меня! – кричала она. – Отпусти меня! – Но он не отпускал ее, задыхаясь, рыдая, он снова карабкался на скользкий склон; он почти добрался до пологой террасы, таща за собой свою сопротивляющуюся, непосильную ношу, но тут какая-то палка под его ногой вдруг сложилась с молниеносной конвульсивной скоростью. Это змея, подумал он в тот миг, когда нога его потеряла опору, и он, собрав совсем уже последние свои силы, то ли вытолкнул, то ли вытащил женщину наверх, а сам ногами вперед и лицом вниз снова свалился в ту среду, где он прожил больше дней и ночей, чем мог помнить, и откуда сам он полностью так еще и не выходил, словно его изможденное и растраченное тело пыталось воплотить в жизнь его яростное, неослабевающее стремление любой ценой, пусть даже ради этого ему придется утонуть, расстаться с ношей, тащить которую судьба, против его воли и не давая ему возможности выбора, обрекла его. Позднее ему казалось, что, уходя под воду, он унес с собой первый кошачий крик новорожденного.
Дикие пальмы
Их не встречали ни управляющий шахты, ни его жена, которые, как потом выяснилось, были молодой парой, даже моложе их, хотя и куда больше привычной к трудностям, – по крайней мере, если судить по лицам, – чем Шарлотта и Уилбурн. Они носили фамилию Бакнер, а называли друг друга Бак и Билл. – Только если правильно, то Билли, – сказала миссис Бакнер резким голосом жительницы Запада. – Я из Колорадо («а» она произносила как «э»). А Бак из Вайоминга.
– Идеальное имя для сучки, правда? – доброжелательно заметила Шарлотта.
– Что вы этим хотите сказать?
– Ничего. Я не хотела вас обидеть. Я имела в виду хорошую сучку. Какой я и постараюсь быть.
Миссис Бакнер посмотрела на нее. (Это происходило, пока Бакнер и Уилбурн были на складе, где они брали одеяла, овечьи тулупы, шерстяное белье и носки.) – Вы с ним не женаты, да?
– Почему вы так подумали?
– Не знаю. Это бросается в глаза.
– Нет, мы не женаты. Я надеюсь, вы ничего не имеете против? Ведь нам придется жить под одной крышей.
– А что я могу иметь против? Мы с Баком тоже не сразу поженились. Теперь-то у нас все в порядке. – В ее голосе слышалась не радость, а удовлетворение. – И я его далеко запрятала. Даже Бак не знает куда. Да если б и знал, это ничего бы не изменило. С Баком у меня все в порядке. Но девушке предосторожность не помешает.
– Что запрятала?
– Бумажку. Свидетельство. – Позднее (она как раз готовила ужин, а Уилбурн и Бакнер были все еще на другой стороне каньона, в шахте) она посоветовала: – Заставь его жениться на себе.
– Может быть, я так и сделаю, – сказала Шарлотта.
– Ты его заставь. Так будет лучше. Особенно если влетишь.
– А ты влетела?
– Да. Уже с месяц.
Когда поезд, на котором возили руду, – игрушечный паровозик, перед которого ничем не отличался от зада, три платформы и кабинка служебного вагона, в которой не было почти ничего, кроме печки, – добрался до этой заваленной снегом станции, они никого не увидели, кроме грязного великана, да и на того они наткнулись совершенно неожиданно; в грязном подбитом овчиной пальто, с блеклыми, смотревшими так, словно он сильно недосыпал последнее время, глазами на грязном лице, которое явно давно не брили и не мыли, – поляк, у которого был свирепо-надменный, дикий и немного сумасшедший вид; он не говорил по-английски, бормотал что-то и, безумно жестикулируя, показывал на другую стену каньона, где лепилось с полдюжины домиков, сделанных в основном из листового железа и по окна занесенных снегом. Каньон был совсем не широк, это был овраг, выработка, устремляющаяся вниз, девственно чистый снег, на котором человек оставил шрамы и грязные пятна, лишь подчеркивал убожество входного ствола в шахту, кучи отходов, нескольких строений, а за линией каньона поднимались неприступные пики, окутанные на фоне грязного неба какими-то немыслимыми облаками.
– Весной здесь будет красиво, – сказала Шарлотта.
– Хорошо бы так, – сказал Уилбурн.
– Обязательно будет. Да и сейчас красиво. Давай-ка пойдем куда-нибудь. А то я сейчас замерзну.
И опять Уилбурн попытался обратиться к поляку: – Управляющий, – сказал он. – Какой дом?
– Да, босс, – ответил поляк. Он снова показал рукой на другую стену каньона, рванулся с места с невероятной для его роста скоростью и – Шарлотта мгновенно, не успев сдержать себя, метнулась в сторону – показал пальцем на ее легкие туфельки на утоптанной тропинке среди глубокого снега, потом взял двумя грязными руками воротник ее пальто и с почти женской мягкостью поднял его, блеклые глаза смотрели на нее с выражением одновременно неистовым, яростным и нежным; он подтолкнул ее вперед, погладил по спине и даже резковато шлепнул по заду. – Бежи, – сказал он. – Бежи. Потом они увидели тропинку, пересекающую узкую долину, и пошли по ней. То есть это была не совсем тропинка, – очищенная от снега или утоптанная, – просто здесь высота снега была чуть меньше, она была не шире человеческого тела, – узкий проход между двумя снежными берегами, – и потому в некотором роде была защищена от ветра. – Может быть, он живет на шахте, а домой приходит только на уик-энды, – сказала Шарлотта.
– Но мне сказали, что он женат. Что же она тогда делает?
– Может быть, и этот поезд тоже ходит раз в неделю.
– Не нужно было тебе ходить к машинисту.
– Но его жену мы тоже не видели, – сказала Шарлотта. Она в раздражении прищелкнула языком. – Это было даже не смешно. Извини меня, Уилбурн.
– Извиняю.
– Извините меня, горы. Извини меня, снег. Кажется, я сейчас замерзну.
– Во всяком случае, сегодня утром ее там не было, – сказал Уилбурн. Как не было на шахте и управляющего. Они выбрали себе дом, выбрали не случайно и не потому, что он был самый большой – таким он не был, – и даже не потому, что увидели термометр (он показывал четырнадцать градусов ниже нуля) у дверей, а просто потому, что это был первый дом, к которому они подошли, а они оба сейчас впервые в жизни самыми своими костями, самыми внутренностями поняли, что такое настоящий холод, холод, который оставлял нестираемую и незабываемую отметину где-то в душе и в памяти, как опыт первой любви или опыт лишения человека жизни. Уилбурн стукнул в дверь рукой, которая даже не почувствовала дерева, и, не дожидаясь ответа, открыл ее и втолкнул Шарлотту в единственную комнату, где мужчина и женщина, сидевшие в одинаковых шерстяных рубахах, джинсовых брюках и шерстяных носках над затрепанной колодой карт, разложенной для какой-то игры на доске, лежащей на бочонке, в удивлении подняли на них глаза.
– Вы хотите сказать, что вас сюда послал он? Сам Каллаган? – спросил Бакнер.
– Да, – сказал Уилбурн. Он слышал, как Шарлотта и миссис Бакнер футах в десяти от него, там, где Шарлотта остановилась у печки (в качестве топлива в ней использовался бензин; когда его поджигали спичкой – что происходило только после того, как им приходилось гасить ее, чтобы заправить опустевшую емкость, потому что вообще-то она горела не переставая, днем и ночью, – он загорался с жутким хлопком и вспышкой, к которым с течением времени Уилбурн сумел привыкнуть и, подходя к ней со спичкой, даже перестал крепко сжимать губы, чтобы сдержать сердцебиение), разговаривали друг с другом: «Это вся одежда, которую вы привезли с собой? Вы же замерзнете. Бак должен сходить на склад». – Да, сказал Уилбурн. – А что? Кто еще мог меня сюда послать?
– Вы… гм… ничего с собой не привезли? Ни письма, ничего?
– Нет, он сказал, мне ничего…
– А, понимаю. Вы сами заплатили за дорогу. За железнодорожные билеты.
– Нет. Их оплатил он.
– Черт меня побери, – сказал Бакнер. Он повернулся к жене. – Ты слышала, Билл?
– А что? – спросил Уилбурн. – Что-нибудь не так?
– Да нет, ничего, – сказал Бакнер. Мы пойдем на склад, подберем вам что-нибудь в чем спать и какую-нибудь одежду потеплее той, что на вас. Он вам даже не сказал, что нужно купить тулупы?
– Нет, – сказал Уилбурн. – Но дайте мне сначала согреться.
– В этих краях вы никогда не согреетесь, – заметил Бакнер. – Если будете сидеть у печки, пытаясь согреться, дожидаясь, когда станет тепло, вы никогда и шагу не ступите. Будете голодать, но даже не встанете, чтобы заполнить емкость бензином, когда он выгорит. Дело в том, что вы должны принять это как данность – вам здесь всегда будет холодновато, даже в постели; вы просто занимайтесь своими делами и через какое-то время привыкнете и забудете о холоде, а потом даже не будете замечать, что вам холодно, потому что тогда уже забудете, что это такое тепло. Так что пойдем. Можете взять мое пальто.
– А как же вы?
– Это не далеко. У меня есть свитер. А потом, когда будем нести вещи, согреемся немного.
Склад представлял собой такой же металлический домик в одну комнату, наполненный металлическим холодом и приглушенным металлическим светом отраженного снега, проникавшим через единственное окно. Холод внутри был просто убийственным. Воздух там был как желе, почти что затвердевший на ощупь, тело теряло желание двигаться, что было вполне естественно, так как даже просто дышать, жить в этой атмосфере и то было нелегко. По обеим сторонам стояли деревянные полки, мрачные и пустые, кроме самых нижних, словно это помещение представляло собой своего рода термометр для измерения не температуры, а остатков жизненных сил, неопровержимая стоградусная шкала (Нужно нам было привезти с собой Вонючку, уже успел подумать Уилбурн), сокращающаяся в объеме ртуть мистификации, которая даже не была грандиозной. Они собрали в кучу одеяла, тулупы, шерстяное белье, галоши; на ощупь вещи были тверды, как лед, как металл; когда они несли их назад в домик, легкие Уилбурна (он забыл о том, что здесь высокогорье) с трудом перекачивали жесткий воздух, который обжигал их, как огонь.
– Значит, вы врач, – сказал Бакнер.
– Врач компании, – уточнил Уилбурн. Они уже вышли со склада. Бакнер запер дверь. Уилбурн поглядел на другую сторону каньона, на противоположную стену с неглубоким безжизненным шрамом ствола шахты и кучи отходов. – Что-нибудь не так, а?
– Я объясню вам попозже. Так вы врач?
Теперь Уилбурн посмотрел на него. – Я же только что сказал вам. Что вы имеете в виду?
– Значит, у вас должна быть какая-нибудь бумажка.
Как их там называют – диплом?
Уилбурн снова посмотрел на него. – На что вы намекаете? Перед кем я несу ответственность за мои знания – перед вами или перед тем, кто платит мне зарплату)?
– Зарплату? – Бакнер расхохотался. Потом он остановился. – Пожалуй, я ошибся. Я не хотел вас обижать. Когда в наши края приезжает кто-нибудь и ты предлагаешь ему работу, а он заявляет, что умеет ездить на лошади, то нам нужны доказательства его умения, и он не должен сердиться, когда от него просят этих доказательств. Мы даже даем ему лошадь, чтобы он мог проявить себя, только мы даем ему не самую лучшую из наших лошадей, если же у тебя всего одна лошадь и к тому же хорошая, то ты не дашь ему этой лошади. Что означает, что у нас нет лошади, чтобы он мог проявить себя, и тогда нам приходится расспрашивать его. Вот это я и делаю. – Он посмотрел на Уилбурна внимательным оценивающим взглядом карих глаз на исхудалом лице цвета сырого мяса.
– Ах так, – сказал Уилбурн. – Понимаю. У меня диплом очень неплохого медицинского колледжа. Я почти закончил интернатуру в известной больнице. И тогда я бы стал… во всяком случае, меня бы признали, то есть публично объявили бы, что я знаю почти все, что знает любой врач, и, вероятно, даже больше, чем некоторые. По крайней мере, я надеюсь, что так оно и есть. Это удовлетворяет вас?
– Да, – сказал Бакнер. – Я удовлетворен. – Он повернулся и пошел дальше. – Вы хотели узнать, что здесь не так. Мы оставим вещи в доме и пойдем к шахте, там я вам покажу. – Они оставили одеяла и белье в доме и пересекли каньон по тропинке, которая была не похожа на тропинку, точно так же как склад был похож не на склад, а на какую-то загадочную вывеску, некий пароль, начертанный на дорожном указателе.
– А поезд, на котором мы приехали? – спросил Уилбурн. – Что в нем было, когда он спускался отсюда в долину?
– Он был загружен, – сказал Бакнер. – Он должен приходить туда с грузом. Во всяком случае, уходить отсюда загруженным. Я за это отвечаю. Я не хочу, чтобы мне в один прекрасный день перерезали горло.
– Чем загруженным?
– А-а, – сказал Бакнер. Шахта начиналась не стволом, а галереей, которая сразу же уходила в недра породы, – круглая труба, похожая на ствол гаубицы, утыканная крепежным лесом и наполненная убывающим по мере продвижения вперед сиянием снега и тем же убийственным желеобразным холодом, что и на складе, и вмещающая узкоколейку, по которой, когда они вошли (они быстро отскочили в сторону, чтобы их не сбило), двигалась тележка с рудой, которую бегом катил человек; и в нем тоже Уилбурн признал поляка, – хотя этот был пониже, поплотнее, поприземистее (позднее он понял, что они вовсе не были гигантами, какими казались, что иллюзия роста была всего лишь аурой, эманацией дикарской младенческой невинности, присущей всем им) – те же блеклые глаза, то же грязное небритое лицо и та же грязная овчина.
– Я думал… – начал Уилбурн. Но он не закончил. Они пошли дальше; последние отблески снега исчезли, и им предстало зрелище, напоминающее кадры из фильмов Эйзенштейна или описания ада у Данте. Галерея перешла в маленький амфитеатр, от которого отходили меньшие галереи, похожие на растопыренные пальцы, все это освещалось каким-то карикатурным подобием электрических огней, словно развешенных для карнавала, – некое грязное подобие лампочек, имевших тот же вид подделки и умирания, какой был и у большого, почти пустого сооружения, на котором огромными буквами было написано Склад, – в свете которых работали кирками и лопатами другие грязные, казавшиеся гигантскими фигуры в тулупах с опухшими от хронического недосыпания глазами, работали с таким же ожесточением, с каким катил груженую тележку первый, они сопровождали свою работу криками и восклицаниями на языке, который Уилбурн не мог понять, почти так же подбадривают друг друга игроки бейсбольной команды, а из меньших галерей, в которые они еще не заходили и где в насыщенном пылью ледяном воздухе горело множество лампочек, доносилось то ли эхо их криков, то ли крики других людей – бессмысленные и фантастические, они заполняли воздух, точно слепые мечущиеся птицы. – Он мне говорил, что у вас здесь еще есть китайцы и итальянцы, – сказал Уилбурн.
– Да, – ответил Бакнер. – Они уехали. Китаезы уехали в октябре. Я проснулся утром, а их и след простыл. Все до одного удрали. Я думаю, они пешком ушли. Представьте себе – толпа людей в незаправленных рубашках и соломенных тапочках. Но в октябре еще было мало снега. Во всяком случае, он еще не всюду лежал. Они как чуяли. А итальяшки…
– Чуяли?
– Здесь денег не платили с сентября.
– Ах так, – сказал Уилбурн. – Теперь понимаю. Да. Значит, чуяли. Как ниггеры чуют.
– Не знаю. Черномазых здесь у меня не было. Итальяшки устроили шуму побольше. Объявили забастовку, все чин по чину. Бросили свои кирки и лопаты и вышли из шахты. Ко мне явилась целая – как там она называется? – депутация. Серьезный разговор, все очень громко, и масса рук; женщины вокруг стоят на снегу, детишек держат, чтобы я на них посмотрел. И тогда я открыл склад и раздал им все шерстяное белье – на каждого, на мужчин, женщин и детей (поглядели бы вы на них – детишки в мужском белье, я, конечно, говорю о тех, кто постарше, кто уже ходил. Они понадевали его сверху, как верхнюю одежду), и на каждого по банке бобов, а потом усадил их всех на поезд, что вывозил руду. Рук-то здесь еще немало оставалось, точнее сказать – кулаков, и я слышал их много спустя после того, как поезд скрылся из виду. Хогбен (он машинист паровоза; ему железная дорога платит), когда вниз едет, тормозит, а потому состав идет себе потихоньку. Во всяком случае, шума от него меньше, чем от них. Но поляки все же остались.
– Почему? Они что – не…
– Не догадались, что все лопнуло? Да они не очень-то понимают. Нет, слышать-то они слышат, итальяшки с ними могли объясняться, один итальяшка был у них переводчиком. Но они странные люди: они никак не могут понять, что их надувают. Я думаю, когда итальяшки пытались им объяснить, они просто не понимали, о чем речь, не понимали, что человек может заставлять других работать, вовсе не собираясь платить. И теперь они думают, что работают сверхурочно. Делают всю работу. Они не откатчики и не шахтеры, они взрывники. Тянет их всех почему-то к динамиту. Может быть, им грохот взрыва нравится. Но теперь они делают всю работу. Они хотели и женщин своих к работе приставить. Я это не сразу, но все же понял и запретил им. Потому-то они и не высыпаются. Думают, что вот завтра придут деньги и они эти деньги и получат. Может, они сейчас думают, что вы-то и привезли деньги и что в субботу вечером все они получат по тысяче долларов на брата. Они как дети. Во что угодно готовы поверить. Вот почему, когда они узнают, что вы их провели, они вас убьют. Нет-нет, не ножом в спину и вообще не ножом, они просто схватят вас, сунут вам в карман динамитную шашку, одной рукой будут держать вас, а другой подносить горящую спичку к шнуру.
– И вы не сказали им?
– А как? Говорить с ними я не умею, переводчиком был один из сбежавших итальяшек. И потом, ему ведь нужно, чтобы все выглядело так, будто шахта нормально работает, а я вроде бы должен следить за этим. Чтобы он мог и дальше продавать руду. Поэтому-то вы – доктор – и оказались здесь. Когда он вам сказал, что здесь не будет медицинской инспекции и вы можете не беспокоиться о своей лицензии, он говорил правду. Но горная инспекция здесь есть, а горные нормы и правила требуют присутствия на шахте врача. Потому-то он и оплатил приезд сюда ваш и вашей жены. И потом, деньги могут и появиться. Когда я увидел вас сегодня утром, я подумал, что вы их привезли. Ну? Насмотрелись?
– Да, – ответил Уилбурн. Они вернулись ко входу; снова быстро отошли в сторону, уступая дорогу груженой тележке, которую бегом толкал еще один грязный и безумный поляк. Они вернулись в живой мороз девственно чистого снега и клонящегося к закату дня. – Я не верю этому, – сказал Уилбурн.
– Ведь вы все сами видели.
– Я говорю о причине, по которой вы все еще здесь. Вы не ждали никаких денег.
– Может быть, я жду случая удрать отсюда. А эти ублюдки не спят даже по ночам, и потому случай все не подворачивается. Черт, – сказал он. – И это тоже ложь. Я остался здесь потому, что теперь зима, и здесь мне не хуже, чем могло бы быть в каком-нибудь другом месте, пока здесь есть еда на складе и я могу поддерживать тепло. И потому что я знал – ему скоро придется прислать сюда нового доктора или приехать самому и сказать мне и этим сумасшедшим ублюдкам, что шахта закрыта.
– Ну что ж, вот я и здесь, – сказал Уилбурн. – Он прислал нового доктора. Так что же вам было нужно от доктора?
Целую минуту Бакнер смотрел на него… жесткие маленькие глаза, которые, должно быть, неплохо умели оценивать людей и командовать ими – людьми определенного сорта, класса, типа, иначе он не был бы там, где был сейчас; жесткие глаза, которым, как подумал вдруг Уилбурн, никогда раньше не приходилось оценивать человека, заявившего, что он врач. – Послушайте, – сказал он. – У меня хорошая работа, беда только в том, что с сентября мне ни гроша не платят. Мы скопили около трехсот долларов, чтобы было на что уехать отсюда, когда все это окончательно лопнет, и протянуть какое-то время, пока я не найду какую-нибудь работу. А тут вдруг оказалось, что Билл уже месяц как беременна, но сейчас мы не можем позволить себе ребенка. Вы говорите, что вы доктор, и я вам верю. Так как насчет этого?
– Нет, – сказал Уилбурн.
– Весь риск я беру на себя. Вы останетесь в стороне.
– Нет, – сказал Уилбурн.
– Может, вы просто не умеете?
– Умею. Это не очень сложно. Один из врачей в больнице делал это как-то раз – пациентка после несчастного случая – может быть, как раз для того, чтобы показать нам, чего никогда нельзя делать. Мне это не нужно было показывать.
– Я дам вам сто долларов.
– У меня есть сто долларов, – сказал Уилбурн.
– Сто пятьдесят долларов. Половину того, что у меня есть. Больше я просто не могу.
– У меня и сто пятьдесят долларов есть. У меня есть сто восемьдесят пять долларов. Но даже если бы у меня было всего десять долларов…
Бакнер отвернулся. – Вы счастливчик. Пошли поедим.
Он рассказал об этом Шарлотте. Но не в постели, как бывало раньше, потому что все они спали в одной комнате, – в домике была лишь одна комната с пристройкой для тех дел, которые требуют полного уединения, – а рядом с домиком, откуда, стоя по колено в снегу, теперь уже в галошах, они видели противоположную стену каньона и зубчатые, окутанные облаками пики за нею и где Шарлотта с прежней неукротимостью сказала: – Весной здесь будет красиво. И ты ответил «нет», – сказала она. – Почему? Из-за сотни долларов?
– Ты сама прекрасно знаешь. И кстати, он предлагал сто пятьдесят.
– Низкая цена, наверно; впрочем, не такая уж низкая.
– Нет, я отказался потому, что…
– Ты испугался?
– Нет. Это же ерунда. Простейшая вещь. Небольшой надрез, чтобы впустить воздух. Я отказался потому, что…
– И все же женщины иногда умирают от этого.
– Когда хирург не знает своего дела. Может быть, одна на десять тысяч. Конечно, такие вещи не регистрируют. Я отказался потому, что…
– Не надо. Дело не в цене и не в том, что ты испугался. Вот все, что я хотела знать. Ты же не обязан. Никто не может тебя заставить. Поцелуй меня. В доме мы даже не можем целоваться, я уж не говорю…
Вчетвером (Шарлотта теперь спала в шерстяном нижнем белье, как и остальные) они спали в одной комнате, не в кроватях, а на матрасах на полу («Так теплее, – объяснил Бакнер. – Холод приходит снизу»), а бензиновая печка горела постоянно. Они разместились в противоположных углах, и все же расстояние между матрасами было не больше пятнадцати футов, а потому Уилбурн и Шарлотта даже не могли переговариваться, перешептываться. Но для Бакнеров это было не так уж и важно, тем более что предварительные разговоры и перешептывания, казалось, занимали у них совсем мало времени; иногда минут пять спустя после того, как выключалась лампа, до Уилбурна и Шарлотты доносились резкие толчки с соседней постели, приглушенное одеялами движение, которое заканчивалось стонами женщины, но их такое не устраивало. Однажды термометр упал с четырнадцати ниже нуля до сорока одного ниже нуля, тогда они сдвинули матрасы и улеглись все вместе, женщины посередине, и тем не менее, время от времени, едва только гас свет (а может быть, их просто будил этот шум), без всяких предварительных слов происходила эта бескомпромиссная стычка, словно тех двоих из полусонной неподвижности с сумасшедшей и дикой силой притягивало друг к другу, как сталь к магниту; и по-прежнему такое было не для них.
Они уже прожили там целый месяц, подходил к концу февраль, и весна, которую ждала Шарлотта, стала на месяц ближе; как-то вечером Уилбурн вернулся с шахты, где грязные и невыспавшиеся поляки по-прежнему работали с тем же яростным и обманутым ожесточением, а слепые, похожие на птиц, неразборчивые возгласы по-прежнему носились от стены к стене между пыльных подобий электрических лампочек, и увидел, что Шарлотта и миссис Бакнер смотрят на дверь, в которую он вошел. И он понял, что его ждет, и, вероятно, даже то, что готов к этому. – Послушай, Гарри, – сказала она. – Они собираются уезжать. Здесь все кончено, а у них только три сотни долларов, чтобы добраться туда, куда им надо, и перебиться, пока он не найдет работу. Поэтому им и нужно что-то делать, пока еще не поздно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































