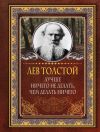Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Глава 6
Друзья дома и гости Софьи Андреевны
Художник С. Н. Салтанов. – Мих. Ал. Стахович. – Думский депутат и князь Тенишев. – Почетный опекун князь С. С. Абамелек-Лазарев. – Аристократка-балерина. – Юмористическое четверостишие Л. Толстого. – Полковник Кириаков. – Визит губернатора. – Григорий Спиридонович Петров. – Василий Иванович Алексеев, искатель, повлиявший до некоторой степени на формирование мировоззрения самого Толстого.
Говоря об обитателях Ясной Поляны после смерти Л. Н. Толстого, нельзя не упомянуть об одной жалкой и трогательной личности, именно о художнике Сергее Николаевиче Салтанове. Не знаю ничего ни о его происхождении, ни о месте рождения, ни даже о пройденной им школе – общей и художественной, по крайней мере – о школе русской. Встретился я с С. Н. Салтановым впервые на Толстовской выставке 1911 года. Там, рядом с несколькими полотнами художника-пейзажиста Батурина, красивого, но слишком по-фотографически точного и четкого в своих изображениях, висело также десятка полтора яснополянских пейзажей, принадлежащих художнику С. Н. Салтанову. Пейзажи, резко контрастируя с работами Батурина, обращали на себя внимание какой-то бледно-голубоватой и серовато-розовой однотонностью: очертания прудов, деревьев и строений виднелись точно сквозь туман. Нигде ни одного солнечного луча! Всюду – серенькая, «осенняя» погода, даже и при летнем, а равно и при зимнем пейзаже. Рисунок – очень простой, такие же темы: яснополянский дом, могила Толстого, его любимая скамеечка в «елочках», парк, пруды, полевые и лесные дали. Нельзя было, тем не менее, отказать этим пейзажам в поэтичности и настроении, весьма своеобразном, индивидуальном. Над туманцем, заволакивавшим все картины Салтанова, скоро стали подсмеиваться, однако не без оттенка уважения к художнику и его дарованию.
У самого художника была наружность Александра Блока второй половины его жизни: когда-то продолговатое, а теперь немного уже округлившееся и покрасневшее бритое лицо, вьющиеся волосы, полные чувственные губы, приятные, но отяжелевшие взгляд и улыбка. Салтанов сплошь все свое время проводил на выставке, в тысячный раз осматривал ее, расхаживая по залам, показывал и объяснял посетителям свои картины, распивал чай в канцелярии, курил, примыкал ко всем кружкам и парам, добродушно разглагольствовал, возражал, поддакивал хрипловатым баском… Длинный, старомодный черный сюртук и круглая, кудрявая голова с бритым лицом выделяли его в толпе и делали видным издалека. О нем говорили, что он недавно приехал из Парижа, где не то просто получал, не то заканчивал свое художественное образование. Париж!.. Так вот откуда приволок Сергей Николаевич свою голубоватого и розоватого оттенка серенькую дымку!.. Дымка эта, конечно, была не русского, а западного происхождения.
– Я так вижу природу, – говорил сам Салтанов. – Обратите внимание: дымка эта всегда лежит на всех предметах. Вы никогда не видите красный цвет ярко-красным, а зеленый – ярко-зеленым. В воздухе всегда есть хоть легкий туман, мгла, которых не может не учитывать, не видеть художник.
На этюды Салтанов ходил, однако, только в туманную, серенькую погоду, избегая ярких, солнечных дней. Такую погоду в Ясной Поляне стали называть «салтановской»…
У симпатичного Сергея Николаевича никогда не было денег. Вернее, когда у него не было денег, то он приезжал в Ясную Поляну, и Софья Андреевна, ценившая тот факт, что художник влюблен как художник в любимую ее Ясную Поляну и, так сказать, прославляет ее в своих холстах, добродушно разрешала ему гостить в доме и неделю, и другую, и третью, а то так и еще гораздо больше. Мало-помалу басистый и добродушный художник сделался своим человеком в Ясной Поляне. Не знаю, когда он написал первую серию своих яснополянских пейзажей, но при мне он то и дело объявлялся все снова и снова на яснополянском горизонте. И жил в доме, спокойный, добродушный, благовоспитанный, доброжелательный, никого не обременяя и радуя понимающих своими новыми этюдами. Я частенько сиживал около Салтанова в поле или в парке, когда он писал, восхищаясь каждой деталью в изображаемой и в действительно любимой им яснополянской природе.
В Ясную Поляну загоняли художника не только безденежье, но еще и конфликт с супругой, от которой художник спасался под крылышко Софьи Андреевны. Внутреннее преодоление этого конфликта происходило для Сергея Николаевича, должно быть, не без известного напряжения. Иной раз он улыбался, шутил по-обычному, а в глазах пряталась боль. Оттого же, может быть, частенько попахивало от художника водочкой, которую он доставал через слуг, состоя с ними в каких-то довольно сложных – мелочных, впрочем – денежных взаимоотношениях. Один раз жена художника, пышно одетая, завитая, молодящаяся дама с громким голосом и резкими манерами, нагрянула к нему неожиданно сама. Возник большой переполох. Софья Андреевна очень была потрясена всей обстановкой визита и боевым характером жены художника, но к самому художнику своего доброго и великодушного отношения, однако, не переменила. Пусть это тоже учтут те или иные идейные наследники тех, кто в супруге великого Толстого не видел и не признавал почти ничего человеческого.
В Первую мировую войну художник Салтанов был мобилизован, отправлен солдатом на турецкий фронт и скончался от какой-то эпидемической болезни – кажется, от тифа – в Салониках. Часть картин его поступила в Толстовский музей. Лично я после Октябрьской революции приобрел для Толстовского музея несколько салтановских холстов у детей Толстых – Сергея Львовича и Александры Львовны, переживавших материальные затруднения. Из Ясной Поляны мною же была переведена в Москву понравившаяся когда-то Софье Андреевне и приобретенная ею красивая картина Салтанова, изображающая яснополянский дом летним вечером, с огоньками в окнах. В музей попали в год отъезда моего из Москвы за границу также два-три небольших этюда, когда-то подаренные мне художником. Все это и служит единственной публичной памяткой о безвременно погибшем скромном певце Ясной Поляны, втором, маленьком, местном Левитане русской живописи.
Из старых друзей дома раз или два показался в нем после смерти Л. Н. Толстого блистательный Михаил Александрович Стахович, предводитель дворянства, член Государственного совета и камергер, все с той же русой бородой лопатой, медно-красной кожей лица, аристократически-изысканными манерами и великолепным французским языком.
Один раз, в августе 1912 года, мы пошли вместе с ним на могилу Льва Николаевича. Вспоминали о закатившемся солнце Ясной Поляны. Стахович был очень добр и внимателен. Хвалил мой яснополянский дневник, расспрашивал о новых работах и обещал свое содействие при помещении их в журналах.
– Почему вы, Михаил Александрович, принимаете во мне такое участие?
– Потому что я хочу, чтобы имя и дело Льва Николаевича укреплялось именно такими его друзьями… Потому что дело увековечивания памяти Льва Николаевича, содействия этому, – я считаю своим лучшим делом в те дни, какие мне осталось жить.
Когда мы подошли к могиле, Стахович быстро опустился перед нею на одно колено, перекрестился, закрыл лицо руками и довольно долго оставался в таком положении. Когда он поднялся, я увидел, что все лицо его было мокро от слез.
Богатый, избалованный, светский холостяк-жуир, но в то же время и отзывчивый на личные и общественные нужды человек и деятель, М. А. Стахович, действительно, любил Толстого лично и благоговел перед ним как писателем. О нем рассказывали, что он наизусть знал «Войну и мир»: можно было начать читать великую толстовскую эпопею с любого места – и Стахович наизусть продолжал дальше. Сам я, впрочем, не присутствовал при такого рода экспериментах.
В молодости Стахович был безнадежно влюблен в Татьяну Львовну. Состарившись холостяком, говаривал: «Кто раз любил Татьяну Львовну, тот уже не может полюбить другую женщину». По крайней мере, так утверждала в беседе со мной сама Татьяна Львовна.
– Почему же вы не вышли за Михаила Александровича? – задал я Татьяне Львовне довольно наивный вопрос.
– Не любила! Когда я представляла себе себя женою Стаховича, меня охватывал ужас…
– А Михаила Сергеевича (Сухотина) любили? – поставил я другой, уже совсем наивный вопрос.
– Да, любила. Иначе бы не вышла за него замуж.
М. А. Стахович отличался большим остроумием и ловкостью на комплименты, как рассказывала та же Татьяна Львовна.
Как-то Лев Николаевич получил в подарок от Черткова самопишущее перо и зовет Стаховича:
– Михаил Александрович, посмотрите, какое у меня хорошее перо!
– Лев Николаевич, – отвечает издали Стахович, не трогаясь с места, – мне, право, нечего смотреть: я и без того знаю, что у вас отличное перо!..
Один раз кто-то помянул о пороке курения.
– Это не порок, – живо возразил Стахович, – потому что у меня его нет!..
Из аристократов при мне побывал в Ясной Поляне князь Тенишев, член 4-й Государственной думы (октябрист) и сын известной деятельницы художественного просвещения княгини Марии Клавдиевны Тенишевой. Недалекий и суетливый человек, погрязший по уши в политике, отрекшийся от каких бы то ни было других интересов и воображавший, что он творил величайшее государственное дело, хотя роль его в Думе на самом деле была ничтожна. С князем гостила в Ясной Поляне его жена, молодая, изящная, красивая и милая дама, о которой было известно, что она замужем вторично и что первым ее мужем, с которым она развелась, был прокурор окружного суда.
Приезд Тенишевых совпал с пребыванием в доме Андрея Львовича, который был крайне любезен и весел с гостями, а по их отъезде неожиданно заявил:
– Ну, что касается княгини, то сразу видно, что она не аристократка, а из простых!
– Но почему же?! – спросил я с удивлением. – Она так мило себя держала.
– Ела суп десертной ложкой. Настоящая аристократка никогда бы себе этого не позволила.
– Но десертная ложка была положена ей по ошибке!
– Ничего не значит. Она должна была потребовать другую.
Помню, я был очень озадачен этим новым выражением аристократического снобизма Андрея Львовича.
В один прекрасный день неожиданно объявился в Ясной Поляне старый знакомый Толстых князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев, розовый, красивый старик с черными (крашеными) усами, значительно облысевшей белой головой и шаткой походкой, шталмейстер, почетный опекун и владелец одного из крупнейших состояний России. Жена его, рожденная Демидова, была владелицей другого такого же состояния. О ней известно было, что она увлекается балетом, сама научилась танцевать и владеет за границей роскошной виллой, где, в отражающем ее фигуру зеркальном зале, предается своему любимому искусству. Танцевала княгиня и на эстраде: в частных домах, на великосветских благотворительных вечерах. При этих выступлениях сиятельной балерины муж ее сидел в публике и своим ровным, спокойным голосом толковал соседям, что «и балет – тоже искусство» и т. д.
Князь считался очень образованным человеком. Действительно, болтая о том и о сем в Ясной Поляне, он – случалось – приводил на память греческие цитаты из Гомера и Аристотеля. Конечно, владел он отлично и новыми языками. С женой князь тогда, кажется, уже не жил, и говорили про него, что безупречной нравственностью он отнюдь не отличается. Мне, по крайней мере, не понравилось, как с балкона «кузминского дома», где жила тогда Т. Л. Сухотина, князь изучал в пенсне «ляжки и бедра» (его выражение) бегавших и взлетавших на «гигантских шагах» двенадцати– и тринадцатилетних девочек… В прошлом у князя была связь с яснополянской крестьянкой Любой, когда-то первой красавицей на деревне, а в описываемое время – худой и некрасивой пожилой женщиной, служившей у Татьяны Львовны кухаркой. Тогда по поводу любовных похождений Абамелека на деревне Лев Николаевич сочинил куплетец в армянском духе:
Адин (то есть один) Лорис,
Адин Мелек, —
Адин свинтус —
Абамелек.
В свой последний приезд в Ясную Поляну Абамелек-Лазарев был еще очень мил, блестящ и остроумен. Но жаловался на старость:
– Старость сказывается в том, что часто, затевая что-нибудь, ставишь себе вопрос: а зачем, к чему все это?!
Князь пресытился всем: удовольствиями, искусством. Он почти не взглянул на знаменитый крошку-альбом Татьяны Львовны с рисунками-миниатюрами знаменитых художников. Впрочем, это не помешало ему, войдя в комнаты Татьяны Львоны в занимаемом ею флигеле, окинуть опытным и внимательным взглядом знатока все, в них находящееся.
– Великолепный стол и не менее великолепный карандаш! – были первые слова стареющего князя на пороге в кабинет Татьяны Львовны.
На старинном, красного дерева столе лежали книги и журналы… «Карандаш» был стоявший на камине рисунок-портрет одного молодого француза, парижского знакомого детей-Толстых…30
Тут же князь рассказал о «деле», которым он был в данное время занят. Он, видите ли, с шофером и камердинером ехал на автомобиле в чье-то отдаленное имение, чтобы купить старинную, редкую мебель. И, собственно, мебель была ему не нужна, но так как «в этом году имелся в его распоряжении автомобиль, то надо же было этот автомобиль как-нибудь использовать!» (Это были собственные слова старика.)
И вот летел бедный князь на автомобиле за ненужной мебелью. Надо же было куда-нибудь девать себя, время и деньги!..
Один раз посетил Ясную Поляну полковник Кириаков, тоже с красавицей-женой и сам красавец ставрогинского типа:31 отточенное, но мертвое и неподвижное лицо с удивительно белой кожей и нежным румянцем. Аккуратно подстриженная бородка a la Наполеон III, в отличие от Ставрогина. Так как это был богач, конногвардеец и помещик, то Андрей Львович, случившийся в ту пору в Ясной Поляне, всячески вокруг полковника увивался.
При мне нанес Софье Андреевне визит тульский губернатор старик Лопухин, явившийся неожиданно в сопровождении чиновника особых поручений. Софья Андреевна приняла его с какой-то кислой миной, может быть, желая показать, что ее губернаторскими визитами, да еще запоздалыми (почему так долго не являлся?) не удивишь. С другой стороны, думаю, что и его превосходительству демократические порядки Ясной Поляны были не особенно по душе. Завтрак – самый простой, для важного гостя подкинули только кусок ветчины. Я и временно помогавший мне в работе по описанию библиотеки молодой «толстовец» – в косоворотках.
Проработавши в Ясной Поляне в качестве библиотекаря полгода, я почувствовал, что устал. Надоели книги, надоела помещичья идиллия. Стояло лето. Я взял – у самого себя – отпуск и решил провести это время в более «человеческой» обстановке и в посильном физическом труде. Отправился – пешком, конечно, – к Булыгиным в Хатунку, а от них дальше – к Буткевичам. У Буткевичей проработал на огороде три-четыре дня. Хозяева были, как всегда, в высшей степени приветливы, и я чувствовал себя прекрасно.
От Буткевичей вернулся опять к Булыгиным, чтобы там проработать на огороде все остальное время. Увы – не удалось!
В тот самый день, как я явился, прикатила за мной из Ясной Поляны пара лошадей. Письмо от С. А. Толстой: прибывший из Петербурга профессор Семен Афанасьевич Венгеров, известный историк литературы, зовет меня повидаться по делу. Венгеров давно уже приглашал меня к участию в издании роскошного собрания сочинений Л. Н. Толстого у Брокгауза-Ефрона и теперь хотел переговорить со мною лично. Так мне было жалко расставаться с друзьями и милой обстановкой!..
Но, делать нечего, отправился в Ясную. Шесть дней отдавались мы разговорам, разговорам и разговорам, которые Венгеров называл «занятиями». Показывал ему Ясную Поляну – «отселева доселева». – «Больше ничего не осталось, что следовало бы осмотреть?» – деловито осведомился бородатый профессор в золотых очках. При этом – ни одной искры, ни одной вспышки чувства! Профессор, историк – и только.
Попробовали говорить о Толстом-мыслителе. И тут Венгеров произвел на меня впечатление человека чрезвычайно узкого, интеллигента, который дальше своего Петербурга с университетом и литературными кружками ничего не видит. Он «совершенно не понимал», почему Лев Николаевич нападал на науку? Или – какого Бога еще разумеет Лев Николаевич, если он отрицает Бога личного? и т. д.
Страшно ценил школьное, гимназическое и университетское образование. Про всех спрашивал: «А какое у него образование?» – разумея под этим: «А какое он учебное заведение окончил?»
Упомянули как-то о Сереже Булыгине. Я отозвался о нем восторженно.
– А какова его интеллигенция? – вопрошает мой профессор.
Я разозлился, потому что я понимал, что он спрашивал не о настоящей «интеллигенции», а о дипломированной, на которую в школе натаскали, и отвечаю нарочно с апломбом:
– Чрезвычайно высокая!
– Да нет… Я спрашиваю о его образовании.
– Он очень образован! Много читал.
– Да я спрашиваю не о таком образовании. Я спрашиваю об общих знаниях. Ну, что он знает?
– Он знает индусскую философию, знает Платона, Эпиктета.
– Да я не о том!.. Я спрашиваю о массе его знаний.
– Я думаю, что эта масса не меньше, чем у любого интеллигента.
– Да, но есть ли у него систематическое образование? Ну, например, знает ли он причины 30-летней войны?
– Нет, думаю, что не знает, да он ими совсем и не интересуется, и потому и не знает их.
– Ну, как так не интересуется! Ведь вы же – студент. – Венгеров тонко различал меня, бывшего студента, от окончивших университет. – Я спрашиваю вас совсем не о том, о чем вы говорите, я спрашиваю вас о том, получил ли он какое-нибудь систематическое образование?
– Того систематического образования, которое нам всем диктует какой-нибудь Кассо, он, конечно, не получил, да никогда и не стремился его получить…
Я проявил излишний задор, Венгеров – излишнюю консервативность, – сговориться с ним мы не могли. «Вот такие профессора, – думал я, – и дали повод Толстому для его нападок на официальную университетскую науку и на ученое сословие!..»
Впрочем, какое бы впечатление лично ни производил профессор С. А. Венгеров, необходимо признать, что осуществленные по его плану и под его редакцией брокгаузо-ефроновские издания классиков – Шекспир, Шиллер, Байрон, Пушкин – превосходны. Одна радость – иметь у себя такие книги. Я не видал подобных им в Западной Европе. Тем обиднее, что наступление Первой мировой войны помешало осуществлению такого же издания сочинений Льва Толстого. Для него, кстати сказать, я должен был, по заказу Венгерова, написать последнюю, заключительную часть биографии Льва Николаевича: семейная драма, завещание, уход из Ясной Поляны и смерть.
Из литераторов при мне посетил Софью Андреевну публицист, очеркист и беллетрист, «бывший священник» (как всегда прибавлялось к его фамилии) Григорий Спиридонович Петров. Я уже упоминал, что видел его на похоронах Толстого. При жизни Льва Николаевича Г Петров никогда у него не бывал. Григорий Спиридонович приехал после обеда, пил чай в большом зале, был очень почтителен с Софьей Андреевной, он понимал, что на нее возвели много напраслины, – и очень восхищался Львом Николаевичем.
Г. Петров был замечательным оратором. Он объездил всю Россию, проповедовал нравственность, бодрость, деятельность, творчество. Говорил вольно, без рукописи и даже без конспекта. Обладал видной, внушительной фигурой. И все это производило сильное впечатление в провинции, не избалованной выдающимися людьми такого типа. Например, моя мать, слышавшая Г. Петрова в Томске, была в восторге от его ораторского искусства.
После революции Г. Петров оказался в Болгарии. В 1930-х годах я случайно познакомился в Берлине с переводчиком его сочинений на болгарский язык Дмитрием Божковым и от него узнал, что Петров жил сначала в Сербии, а потом в Болгарии, причем в обеих этих странах научился их языкам и снова, как в России, занялся лекторской деятельностью: и в сербской, и в болгарской провинции он имел будто бы огромный успех. В Болгарии вышло в переводе Божкова до 15–20 книг и книжек Г. Петрова. В Болгарии же Петров и скончался, оставив в качестве наследницы какую-то девочку, – не то приемную дочку, не то племянницу, – уже не помню точно.
Ну, как не сказать, узнав все это: и талантлив же все-таки русский человек, накажи его Бог!..
Однако самым замечательным посещением в осиротелой Ясной Поляне было, несомненно, посещение человека, имя которого сразу ничего не скажет читателю. Я говорю о Василии Ивановиче Алексееве. Эт был первый по времени единомышленник Л. Н. Толстого и даже более того, человек, в известной степени повлиявший на выработку мировоззрения самого Толстого. В 70-х годах прошлого столетия он проживал в Ясной Поляне в качестве учителя старших детей Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Расставшись с Ясной Поляной в 1881 году, Алексеев с тех пор никогда не наведывался туда. Он точно воскрес из мертвых для яснополянских жителей. Естественно, что появление его особенно всех взволновало.
Вот кто с полным правом мог бы сказать о себе словами прохожего из последней комедии Л. Н. Толстого «От ней все качества»: «биография моя затруднительная». В Ясную Алексеев в те давние уже годы приехал из Америки, где – в Канзасе, кажется, – жил вместе с небезызвестным искателем-«опрощенцем» и революционером Маликовым в интеллигентной земледельческой общине. А до Америки он был русским революционером. В Ясной Поляне, а также в самарском имении Толстых вел жизнь крайнего опрощенца: шил сам себе обувь, одежду (однажды как-то скроил себе сюртук из старого пледа), чистил отхожие места. Софья Андреевна часто об этом вспоминала.
Льва Николаевича оригинальная личность учителя живо заинтересовала. Особенно трогало его стремление Алексеева все делать самому, обходиться своим трудом. Лев Николаевич завидовал знанию Алексеевым ремесел. Как-то Алексеев починил ботинки старой няне – Марье Афанасьевне: чтобы не «откупиться», подав какой-нибудь двугривенный, а желая помочь непосредственным трудом, – как объяснил мне Алексеев. Лев Николаевич узнал об этом. Поступок Алексеева произвел на него сильное впечатление. Он сам стал учиться у Алексеева сапожному ремеслу. Алексеев сообщил мне, что у него сохранилось самодельное, примитивной работы шило, при помощи которого Лев Николаевич в первый раз сшил ботинки.
В. И. Алексеев несомненно влиял в то время на Толстого, – именно в смысле демократизации, в стремлении к опрощению, к простому труду. Лев Николаевич сохранил о нем лучшие воспоминания. А. К. Черткова говорила мне, что когда Лев Николаевич привел к ней и ее мужу в первый раз Алексеева, он представил его со словами: «Это мой близкий друг, с которым мы много пережили вместе». Самый тон Льва Николаевича при этом был теплый и задушевный. В. М. Феокритова и А. Л. Толстая рассказывали мне, что при них однажды Лев Николаевич, вспомнив об Алексееве, сказал: «Душа этого человека – хрусталь чистой воды».
Как рассказал мне в январе 1911 года В. И. Алексеев, Софья Андреевна «ревновала его немножко» ко Льву Николаевичу. Он, то есть Алексеев, мягкий человек, но эта «ревность немножко» дошла до того, что однажды Софья Андреевна показала Алексееву на дверь. Это было именно в 1881 году. «Я и сам уйду», – сказал Алексеев Софье Андреевне – и уехал.
– Она считала меня разлучником, – говорил Алексеев.
Словом, еще в 1881 году произошло приблизительно то же, что позднее случилось с Чертковым, с той только разницей, что Алексеев не был таким эгоистом, как Чертков, и у него хватило самопожертвования, чтобы отойти в сторону, не становясь между мужем и женой.
Достоверно можно сказать, что Софья Андреевна не любила Алексеева, плохо относилась к нему и страшно недовольна была именно этим «опрощенским» влиянием Алексеева на Льва Николаевича. Она сама несколько раз говорила мне, что «боялась этого влияния».
Прошло 30 лет. Алексеев сделался директором Коммерческого училища в Нижнем Новгороде. Женился на аристократической барышне Загоскиной, бывшей своей ученице. Жил богато. Говорят, жена поддерживала прямо аристократический тон в доме. Такова была судьба бывшего революционера и друга Толстого. В 1916 году Алексеев открыто сознавался перед нами, что боится вообще поводов, которые могли бы открыть начальству его прошлое. «У меня – такое положение!» – говорил он важно. По этой самой причине и записки свои о Льве Николаевиче, написанные им после смерти Толстого, он при жизни своей печатать не собирался.
Было бы, однако, несправедливо не заметить, что Алексеев и в старости сохранил душу живую и совесть чуткую. Странное было его положение! Тот светильник под сосудом, о котором говорится в Евангелии.
В Ясной Поляне Алексеев осмотрел все комнаты, но довольно бегло. Казалось, ему хотелось именно относительно комнат убедиться, все ли они целы и на тех же ли местах. В моей комнате внизу, бывшем при Алексееве кабинете Льва Николаевича, он поинтересовался только посмотреть на стоящий по-прежнему в нише бюст Н. Н. Толстого, а в позднейшем кабинете Льва Николаевича рад был найти старый кожаный диван. Кроме того, справился, где находится маленькая изящная ширмочка черного дерева для старинных миниатюр. Оказывается, ширмочку эту он, Алексеев, вырезал: «А то вижу, Лев Николаевич держит их в какой-то шкатулочке…»
Софьи Андреевны не было в кабинете. Показывая место, где висел портрет Черткова с Илюшком Толстым, разорванный Софьей Андреевной в последние ужасные и бурные месяцы жизни Льва Николаевича, я спросил Алексеева, знает ли он, что происходило в Ясной Поляне в эти месяцы. – «Нет!» – Совершенно не вдаваясь в подробности, я сказал, что состояние Софьи Андреевны (с угрозами самоубийством, покушениями, истериками и т. д.) было ужасное, причем добавил, что, в сущности, она была тогда прямо психически ненормальна.
– Нет! – быстро возразил Алексеев. – Это ее черта! Я должен сказать, что это ее черта!
И еще прежде, когда мы ехали вместе из Телятинок, где я был в гостях и куда Алексеев приехал со станции, он на мой вопрос, неужели его не тянуло ко Льву Николаевичу в те долгие годы, когда он не был в Ясной Поляне, – ответил:
– Нет, как не тянуло! Всегда тянуло! Но, знаете, такое было отношение ко мне Софьи Андреевны отрицательное, и я не ехал…
Подали чай. Гостя угощали и ласкали.
Он очень трогательно рассказывал, что теперь, в старости, у него одно чувство: благодарности – благодарности за жизнь Тому, Кто ее дал.
– Моя жизнь такая была разнообразная! Мне Бог дал все испытать, всего попробовать: хочешь этого – возьми это, хочешь того – возьми то!.. Я иду по улице и вижу безногого нищего. И я спрашиваю: почему это – он, а не я? Почему меня Бог сохранил? За что мне это?!
Во время знакомства с Львом Николаевичем Алексеев был атеистом. Не знаю, усвоил ли он позже религиозное отношение к жизни, но, помнится, он говорил, что когда начинаешь приближаться к концу, то одно только становится ясным: надо жить по Его, высшей воле.
Были мы с ним на могиле Льва Николаевича (причем, по желанию Алексеева, прежде, чем вошли в дом). Алексеев припоминал яснополянские дороги, немного путал. Около могилы побыл немного, не крестился. Задумался, может быть, на один момент (судя по внешнему виду). Интересовался больше чисто внешними вещами: сверкающей издали Абрамовской березовой посадкой, насаженной при нем Львом Николаевичем и без него могуче разросшейся, видом ограды у могилы и т. д.
Прощаясь, поцеловал меня.
Приезд Алексеева, старинного друга Льва Николаевича, заметно взволновал Софью Андреевну. Помимо того, что это был живой свидетель отдаленного прошлого Ясной Поляны, я думаю, что ей совестно было вспоминать свое прежнее отношение к нему.
Через несколько минут по отъезде Алексеева Софья Андреевна спустилась ко мне вниз, взволнованная, с порозовевшим лицом, но стараясь держаться покойнее. Перебирая разные предметы на моем столе, заговорила несколько смущенно:
– Он – прекрасный человек! Главная черта его характера – это удивительное незлобие. Я никогда не видела. ну, чтобы он, например, говорил о ком-нибудь так, как я говорю о Черткове!..
Сказав еще несколько слов о незлобии Алексеева, Софья Андреевна помолчала и потом продолжала:
– Мы с ним о-очень дружно жили! – почти мечтательно протянула она). – Вы знаете. почему он ушел? Мы переехали в Москву, нужно было детей учить, Сережа поступил в университет, – ну, – и он ушел.
Добавить хочу о наружности Алексеева. Одет он был, что называется, просто, но прилично: черная пиджачная пара, крахмальное белье, за отворот пиджака задето поблескивающее темным кружком пенсне; пальто и шапка – не роскошные, но и не дешевые. Лицо – простое, не очень выразительное, не неприятное. Кожа – темная, так что у меня в голове все время вертится: «коричневый старичок». Небольшая борода, еще не совсем седая, усы белые, большие, загнутые книзу. Глаза, как я заметил, сидя с Алексеевым рядом в санях, старческие, выцветшие, голубые, серьезные, проницательностью и остротой взгляда напомнившие мне глаза Льва Николаевича.
Этот острый, колючий взгляд старых глаз, глядящих в душу! Толстой вошел этим взглядом в Алексеева и отцвел, ушел из жизни сам. Алексеев вошел тем же взглядом в меня… Глядя в эти старые, выцветшие, колючие глаза, я тогда еще ничего не думал о том моменте, когда я сам таким же, потерявшим мягкость, острым, проницательным, одновременно приветствующим и прощающимся взглядом состарившегося человека буду глядеть в прекрасные серые, карие, черные молодые глаза. перед тем, как перестать их видеть навеки, перед тем, как в подобном взгляде передать себя этому цвету земли и их детям, их внукам – потомству. Живи, расти, единая человеческая поросль! Я теперь – почти такой же старик, как Алексеев, и взгляд мой бледнеет и потухает, но душа моя принадлежит тебе.