Текст книги "От/чёт"
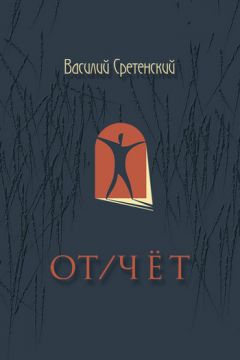
Автор книги: Василий Сретенский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Ночь со вторника на среду
– Ну что не спится, бес не дремлет?
– Какой бес?
– Тебе виднее…
– А да, конечно. Зовут его Асмодей. Он же Хромой Бес. Помниться о себе он говорил примерно так: «Я устраиваю забавные браки, соединяю старикашек с несовершеннолетними, господ со служанками, бесприданниц с нежными любовниками, у которых тоже нет гроша за душой. Это я ввел в мир роскошь, распутство, азартные игры и химию. Я изобретатель каруселей, танцев, музыки, комедии и всех новейших французских мод… Я бес сладострастия, или выражаясь почтительно, я бог Купидон».
– Я ведь не просил мне лекцию читать в… который теперь час?
– Второй.
– Во втором часу ночи. И когда я упоминал беса, то не для того, чтобы ты разъяснял мне, кто отвечает за все эти столь важные дела.
– Но тогда зачем?
– Начнем с того, что это пусть неточная, но все же цитата.
– Это я понял сразу.
– Прибегая к ней, я хотел внести нотку иронии в констатацию того факта, что ты, а следовательно и я, оба мы ворочаемся на этом старом продавленном и (я давно это собирался сказать) довольно неудобном диване с одиннадцати часов вечера.
– Это тебе удалось. Но позволь мне задать один вопрос.
– Пожалуйста, если он не уведет нас от темы.
– Диван неудобный для чего?
– Чтобы спать. Но вернемся к теме нашего разговора.
– А у него есть тема?
– Да. Мы не спим.
– Что ж. Это случается довольно часто.
– Я бы сказал, что в половине второго ночи это случается довольно редко.
– И что это значит? Лишь то, что мы с тобой не сходимся во мнениях. Что тоже случается довольно часто.
– Редко.
– Пусть так, но, кажется, наш разговор подошел к концу.
– Ничего подобного, он даже еще не начался.
– Но разве эти полчаса мы не разговаривали?
– По форме это так.
– Тогда закончим нашу беседу. Она была не очень содержательной.
– Ну, уж нет. Ты все время, причем сознательно, уходил в сторону от темы разговора, а теперь говоришь, что он не имел содержания. Это низко.
– Ну, хорошо, ты скажи, о чем мы должны говорить.
– О том, что скоро три часа, как ты не делаешь того, что должно.
– И что же это?
– Ты должен встать и пойти в соседнюю комнату.
– Я даже не буду спрашивать зачем.
– Затем, что девушка заждалась.
– Это ерунда, она спит.
– Одно другому не мешает. Заждалась и заснула. Но ты не спишь. И должен туда пойти.
– Кому я должен?
– Себе, ей, мне, всем!
– Никому я ничего не должен. По крайней мере, этой ночью. И давай прекратим этот скучный диалог. Я спать хочу.
– Ну, своим ребятам врать не будем. Ты ее хочешь.
– Отвратительное и бессмысленное высказывание. Разве она вещь? Или плод? И потом, хочешь ее что?
– Мне сказать? Я скажу. Но сначала отмечу одну логическую неувязку. Бессмысленное высказывание не может быть отвратительным, поскольку отвращение можно испытывать лишь к тому, что тебя затрагивает, а значит имеет смысл. Бессмыслица, потому и бессмыслица, что понять ее, тебе не дано. А что непонятно, отвратительным быть не может. Странным – может, страшным – еще бы, но отвратительным? Отвращает, скажу еще раз, только хорошо знакомое.
– Никаких неувязок. Моя логика стройна и жестока как древнегреческая богиня. Вот, пожалуйста. Это высказывание бессмысленно по форме и отвратительно по содержанию. Предупреждая вопрос о том, что в нем отвратительного, отвечаю: пошлость недосказанности, так уважаемая тупыми потомками невежественных пуритан, лет триста повторяющими вместо: «Я тебя люблю», свое слюнявое «I wont you babe».
– Чегой-то ты взъелся на антиподов?
– Не знаю. Я раздражен.
– Хочешь поговорить об этом?
– Ты что нарочно?
– Хорошо, тогда вернемся девушке. Насчет любви, пока повременим. Но не будешь же ты утверждать, что не способен поцеловать ее без любви?
– Нет, этого мне утверждать бы не хотелось.
– Еще бы. Я утверждаю, что ты испытываешь желание довольно сильное и определенно выраженное, скажем так, обнять девушку, поцеловать ее и затем продолжить совместные действия, которые как бы я сейчас ни обозначил, могут быть немедленно причислены к пошлости. Пошлости грубой, неприкрытой, тонкой, изощренной, православной, пуританской, исламской, корневой, авангардной… есть еще варианты? да, спасибо, совковой, новорусской, просто русской, земной.
– Естественно. Обозначить значит упростить.
– А назвать значит обругать. Не будем уходить от темы. Желание ты испытываешь. Мы испытываем, если быть совсем точным.
– Да. Но не всякое желание нужно воплощать. Многое из того, что мы желаем, не стоит того.
– Ну, тут уж…
– Согласен не тот случай. Но желаемое может приносить вред.
– Не думаешь же ты, в самом деле, что она…
– Нет.
– А потом, есть же резинки.
– Где?
– В столе, нет после уборки на той неделе, в шкафу, на второй полке слева, у стенки. Потом, на кухне, в тумбе, в глубине за пачками с молотым кофе.
– Я говорил о вреде обобщенно. Ну, там, курение, сладкое, соленое…
– Еще, в коридоре, в тумбочке, в верхнем ящике завалялась пачка. И, кажется в старом пиджаке, но не уверен…
– Я не о том!!! Я и в мыслях не имел что-то такое…
– А вот это, прости, нонсенс. Это ты в разговоре с кем-нибудь, можешь ссылаться на неимение, сиречь, бедность мысли. Или на то, что сказанное не означало подуманное. А у нас весь диалог мысленный, так что все что обозначается, то и имеется. И соответственно, наоборот: что имеется в мыслях, то и обозначается.
– Это твое замечание Памфил, я принимаю без возражений.
– А почему я Памфил?
– Нипочему. Литературная форма потребовала в этой фразе имя. Памфил. Лисий. Херей.
– Только не Херей.
– Хорошо, Пасион. Клиний. Хенид.
– Мы отвлеклись. Ты хочешь, а в данном случае, это значит и можешь. Но в силу бледных по форме и, позволь сказать, довольно дурацких по содержанию, рассуждений, откладываешь исполнение желания.
– Чьего желания?
– Твоего. Моего. Нашего.
– А как же девушка? Ее желание тебе известно?
– Ах, вот оно что! Страх быть отвергнутым. У тебя была куча возможностей узнать, чего ей хочется. Ты же млел от случайного прикосновения и пустил дело на самотек.
– Этого еще не хватало.
– Это фигура речи. Пока. Теперь давай рассуждать.
– Давай!
– Но недолго. Девушка сама подошла к тебе на лекции.
– Это так.
– Она приехала к тебе домой, надела твои вещи и весь вечер провела, рядом с человеком, который ей чуть знаком.
– И это высказывание справедливо.
– Она осталась ночевать в твоем доме.
– Что ж и это действительно так.
– Так какого ж рожна тебе надо. Встань и иди!
– Я готов. Но рассуждать, можно и иначе.
– Недолго.
– Да. Я старше ее более чем в два раза.
– Это верно.
– Статус преподавателя предполагает дистанцию, которая нарушена не была.
– Здесь есть, с чем поспорить и кому попенять (прямо в лоб, чтоб думал вовремя), но по большому счету это правда.
– Она же не пришла сюда босиком на цыпочках, в одной футболке, не забралась под одеяло с холодными лодыжками и горячими губами…
– Мне понятна твоя логика.
– Тогда должно быть понятно и следующее рассуждение. А если все то, что она сегодня делала, вызывалось одним единственным ее качеством: искренним непониманием того, что старому козлу непременно захочется на нее наскочить?
– Протест. В речи свидетеля содержатся домыслы. Свидетель ни разу не видел в зеркале козла.
– Принимается. Присяжные не будут учитывать последнюю фразу свидетеля, вынося свой вердикт. Возьмем за данность, что девушка спит.
– А что ей остается делать? Но зато, каким может быть пробужденье!
– Вот это меня и тревожит. У девушки есть возлюбленный.
– Протест. Свидетель прибегает к оценкам, вместо того, чтобы говорить о том, что он видел.
– Ну конечно я не видел… В общем, протест принимается.
– Тогда иди и увидь. В конце концов, что ты теряешь?
– А вот тут, Дамилл, мы подошли к сути нашего разговора. Не могу сказать, что я влюблен в нее, но она мне нравится. Не знаю, нравлюсь ли я ей, но да это и неважно. Некое подобие добрых чувств она ко мне видимо испытывает, иначе бы ее здесь не было. Завалившись к ней с желанием животного соединения, я рискую потерять уважение. Ее ко мне. И мое ко мне. И не то чтобы я боялся рискнуть. Мне противно так рисковать.
– Твои слова убедительны, а чувства понятны. Что ж, оставим девушку в покое. Лежи и дальше. Усни, если сможешь. Я, пожалуй, тоже лягу.
Среда
Похоже, просыпаться после десяти часов утра, с головой похожей на бомбу, любовно начиненную террористом обрезками гвоздей, становится моей новой хорошей традицией. Где-то был анальгин. Интересно, почему анальгин не рекламируют? Можно бы сделать хорошую рекламу по телевизору. (Если у меня телевизор замурован, это не значит, что я его вообще не смотрю. Я ведь хожу в гости.) Сценарий телевизионного ролика, секунд на двадцать:
Эпизод первый: царь в Думе, посреди заседания, хмурится, не слушает, страдает. Камера наплывает и проникает ему в голову, где сидит дракон и пожирает его мозги. Ну, или пышет огнем, в детском варианте. Камера выезжает из головы. Царь торжественно объявляет: полцарства и руку дочери в придачу за лекарство от боли. Рядом сидит дочка лет двадцати в кокошнике и лупает глазами. Хочет замуж.
Эпизод второй: в голове царя рыцарь в доспехах, раскрашенных в цвета Байера наезжает на дракона. Хрясь мечом и срубает ему башку, которая катится по траве с удивленным выражением морды. Царь на секунду улыбается с облегчением, потом хватается за голову (свою, не дракона). У дракона вместо одной башки появляется две, рыцарь крошит их в капусту. Появляется четыре головы, которые со вкусом поедают и рыцаря, и коня, смачно сплевывая доспехи.
Эпизод третий: восточного вида старикашка в ярком халате, обкуривает обалдевшую рептилию травами. Потом разбегается и бьет тварюгу (опять одноглавую) пяткой в прыщавый лоб. Дракон на секунду дуреет, потом делает й-а-а своей пяткой. Старик улетает, (махая? маша? размахивая?) полами халата. Царь взвивается до потолка.
Эпизод третий, Василиса Прекрасная лет двадцати пяти в белых одеждах с надписями «анальгин» подходит к дракону, и ласково гладит его бугристую слюнявую зеленую морду. Дракон сразу превращается в белого барашка. И они уходят в поля рекламных расцветок под мягкую музыку.
Эпизод четвертый и последний. Царь в умилении протягивает карту своей страны, разделенную напополам жирной красной линией Василисе Прекрасной. Та, вся затянутая в черную кожу, надменно отвергает карту и помигивает ухмыляющейся царевне.
На экране, на фоне уходящих вместе Василисы и царевны, возникает слоган (или, по Бегбергеру, титр): «Анальгин. Нет боли, есть ясность!»
Кстати о ясности, надо бы заглянуть в комнату с колокольчиками.
Еще одна традиция этого дома: гости уходят не прощаясь. Постельное белье сложено на кресле, рядом лежат джинсы и футболка. На футболке – листок с написанным губной помадой одним словом. Ну, что ж сюрпризом это для меня не стало. А настоящий сюрприз меня ждал на дне пакета для мусора, когда я выбрасывал туда пустую баночку из-под йогурта. Там лежали два серьезно так использованных тампона.
Это значит, я полночи спорил на тему идти-не-идти к девушке, которой не только не до меня, но вообще ни до кого. Смешно.
Ну ладно, анальгин я прорекламировал, жизненный тонус худо-бедно восстановил. До встречи с испанцем у меня почти шесть часов. Можно прочитать еще один эпизод из биографии моего персонажа.
[файл АПХ – IV]
ИЗ ЗАПИСОК А.П. АПРАКСИНОЙ
«… вновь обратиться к судьбе моего дяди Алексея Петровича. Он вернулся в Россию незадолго до моего рождения, в 1794 или в начале 1795 года. Жизнь, которую он вел в Париже, охваченном безумством революционной черни, не была тайною для правительства, и по прибытию в Петербург дядя был немедленно доставлен к коменданту, а вслед за тем выслан в Смоленское имение своих родителей, с запретом поступать как в военную, так и в гражданскую службу, равно как и проживать в столицах.
Воцарение Павла Петровича ничего не изменило в судьбе дяди. Крайняя степень подозрительности, отличавшая сего несчастливого императора, в особенности распространялась на тех, кого он сам считал причастными к какому-либо заговору. Так что, в отличие от тех его знакомых, кто был гоним Великой Екатериной, но был помилован ее венценосным сыном, Алексей Петрович получил категорический приказ оставаться в деревне безвыездно.
И так более пяти лет прожил он в нашем селе Сретенском, где после смерти деда, последовавшей в 1797 году, хозяйствовал мой отец.
В дела экономии дядя не вмешивался. Он привез с собой большую библиотеку, много читал, еще больше писал, вел обширную переписку с друзьями юности. И хотя большая часть его бумаг утеряна, у нас, в Сретенском до сих пор хранятся несколько бесценных реликвий: объемные письма Николая Михайловича Карамзина, в которых он, вперемежку с сообщаемыми новостями и расспросами о житье-бытье, рассуждает о литературе, философии и истории, делиться своими впечатлениями и беседах с Гете и Гердером; короткие послания баснописца Крылова, с язвительными замечаниями почти в каждом из них; два-три шуточных стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева, столь живо напоминающие его «Безделки»; полтора акта пьесы Александра Ивановича Клушина «Аптекарь или Обманутый обманщик», с пометками иавтора, а также стихотворный ответ на дядино письмо, написанный на семи страницах рукою Василия Львовича Пушкина в 1798 году. Еще одна, самая толстая пачка писем, по всей видимости, относится к философским и отчасти богословским занятиям Алексея Петровича. Письма эти, полные разного рода рассуждений и намеков, писаны, главным образом неким Александром Жеребцовым, который, сколько мне известно, какое-то время был русским консулом во Франции. Видимо там они с дядей и сошлись в части своих интересов.
Много времени Алексей Петрович уделял и нам, своим племянникам. Меня, по малости лет, он больше развлекал разными шутками и забавами, которые специально придумывал, говорил со мной по-французски и по-немецки, и в возрасте четырех лет начал учить буквам. А со старшим моим братом Петром он занимался естественной историей, географией и биологий, составлял с ним гербарии и даже проводил химические и медицинские опыты в отдельном сарае, где они оснастили свою «лабораторию».
После восшествия на престол императора Александра Павловича, обстоятельства жизни дяди переменились. Запреты были сняты и он смог, наконец, уехать в Москву, где вступил в гражданскую службу в шестое отделение Правительствующего сената. В это время он особенно сдружился с сослуживцем своим – сенатором Голенищевым-Кутузовым, и французским эмигрантом, бывшим кавалерийским офицером, Пьером Арро. Вот это последнее знакомство сыграло в судьбе дяди роль весьма значительную, если не сказать трагическую.
Дядя рассказывал мне, спустя много лет, что познакомились они в Париже, в дни ужасной якобинской диктатуры. Встретившись в Москве, старые приятели обнаружили много тем для бесед. В привычку дяди вошло проводить один-два вечера в неделю в доме Арро, ставшего, к тому времени, директором популярного частного пансиона для мальчиков, известного преподаванием большинства предметов на французском и немецком языках, и отменной выучкой пансионерских воспитанников во всем, что касается верховой езды и владения разными видами оружия.
Сам Арро приехал в Россию вдовцом, имея двух детей погодков: девочку и мальчика. В 1805 году дочери Арро исполнилось 16 лет, сыну – 17. Жан-Поль Арро получил приличное образование в пансионе отца. К тому же он, постоянно находясь в компании сверстников, говорил по-русски ничуть не менее свободно, чем на родном языке. В том году младший Арро был зачислен в лейб-гвардии Уланский полк, чему много способствовало аристократическое происхождение (предок Арро участвовал в первом крестовом походе) и ходатайства высоких покровителей.
Софи же, тоненькая и гибкая, с черными, как угли глазами и оливковой кожей, росла, что называется, дикаркой. Все предметы, преподаваемые ей учителями отцовского пансиона, она знала лучше брата, за исключением тех, что давались на русском. Подруг у нее не было, их заменили книги немецких, французских и английских авторов прошедшего века, утомительные своей многословной чувствительностью, но именно этим и способные заменить неокрепшему уму настоящую жизнь, как заменяют ее сны наяву китайским курильщикам опиума.
Отец Софи, связав свою судьбу с Россией, стремился к тому, чтобы дети его чувствовали себя более русскими, чем французами. Сын вполне оправдал ожидания. Дочь же, обещавшая со временем стать настоящей красавицей, беспокоила отца все более и более своей любовью к одиночеству, робостью в присутствии малознакомых людей, каким-то болезненным пристрастием к чтению. И тогда, зная о педагогических талантах своего давнего приятеля, а также о его знакомствах в кругах московских и петербургских литераторов, Арро обратился к дяде с просьбой дать несколько уроков русского языка и русской словесности его дочери с тем, что когда придет время ей появиться в обществе (а, пожалуй, что уже и была пора), она произведет впечатление не только своей внешностью, но и знанием России, ее обычаев, языка, характеров. Арро рассчитывал, что дочь не будет стесняться «учителя», которого знала с детских как oncle Alexsis. Кроме того, дядя, оказывая дружескую услугу, отказался брать деньги за уроки.
Расчет оправдался. Занятия, первоначально проводимые один день в неделю, очень скоро стали ежедневными, успехи Софи – замечательными, а количество книг на русском языке в ее комнате стало слегка беспокоить ее отца. Но тревожился он, как вскоре выяснилось, не о том. Примерно через полгода занятий дядя приехал к своему другу в вицмундире, прошел в кабинет, а выйдя оттуда с сумрачным видом, проследовал обратно. Оказалось, он просил руки Софи, и получил ясный и недвусмысленный отказ.
Конечно, отца Софи отчасти смутила разница в возрасте. Но не только. Дело в том, что сослуживец и приятель Жана, блестящий гвардейский офицер и богач, князь Хованский, гостивший в это время в Москве у родственников и ставший в короткое время своим человеком в доме Арро, за день до того обратился к нему с просьбой дать согласие на брак с Софи. Пьер Арро, не веря своему (и дочери, конечно) счастью, ответил немедленным согласием. Самой же Софи они пока не сказали ни слова, договорившись, что сам отец, а, в крайнем случае и брат выступят ходатаями за князя.
Сразу после ухода Алексея Петровича, Арро поднялся в комнату дочери сообщить ей, во-первых, что образование ее закончено, а во-вторых, что ее судьба (а заодно судьба ее отца и брата) определилась, и можно готовиться к свадьбе. «Новой Элоизы» он не читал, история Абеляра ему, тем более известна не была, так что слезы дочери и ее решительное нежелание выходить замуж за князя, вызвали раздражение, а затем и непритворный гнев. Попытки уговоров привели лишь к еще большим слезам, решительному «нет» и угрозе убежать из дома, и обвенчаться с Хвостининым без благословения родителя.
В отчаянии Пьер Арро явился в дом к дяде и, как говорят, стоял перед ним на коленях до тех пор, пока не получил от друга обещание, никогда больше не видеться с Софи и письмо к ней, содержание которого осталось неизвестным никому, кроме трех человек: дяди, Софи и ее отца. История эта вызвала у бедной девушки тяжелейшую горячку. Она была на самой грани между жизнью и смертью, а окончательное излечение заняло несколько месяцев. Все это время близ нее находились отец и князь Владимир Хованский. Выздоровление было не только физическим, но и нравственным. Оправившись после болезни, Софи дала согласие на брак с князем, поставив, при этом, условие, что ни она, ни князь больше никогда не будут видеться с ее отцом.
Что же касается дяди моего Алексея Петровича, то он выбрал себе иное лекарство: простившись с Москвой и статской службой, дядя вернулся в армию в свой Ахтырский гусарский полк. Вновь надев доломан и ментик с золотым позументом, он окружил себя делами и заботами о пропитании и квартирах солдат, фураже для лошадей, о смотрах и маневрах, а, вскорости принял участие в настоящих сражениях. В полку, около 1812 года, сошелся он с небезызвестным Денисом Давыдовым. Разница в возрасте не мешала возникновению дружбы искренней и прямой. Денис Васильевич посвятил дяде свои стихи, позже опубликованные в «Московском телеграфе». Каждый желающий может найти их, открыв том за 1826 год. Я же помню лишь первые две строфы:
Доставай-ка флягу с ромом
Алексей, боец седой.
Уж слышны Перуна громы
С поля битвы за горой.
Нам любезны те перуны,
Сабли востры и штыки,
Но милей гитары струны,
Чаша в круг и чубуки.
Отечественную войну Алексей Петрович встретил в чине подполковника и был в сражениях с самых первых дней. В одном из них, под Салтановкой, он получил тяжелейшую контузию: будучи ранен неприятельской шрапнелью дядя, по своему обыкновению не ушел с поля боя. Под ним была убита лошадь. Уже на земле он получил тяжелейший удар в голову. Более полугода доктора не могли поручиться за его жизнь. Осенью 1812 года он был перевезен в наше Рязанское имение, где и провел еще около двух лет под постоянным присмотром докторов и сиделок. В то время, в одном доме с ним проживали и мы с матушкой, поскольку наше Сретенское было захвачено и разграблено наступающими французами из корпуса Даву. Мы, как могли, ухаживали за ним, стараясь облегчить его участь. Там мне довелось получше узнать открытый и честный характер моего дяди, его всеохватные знания. Не раз меня удивляли его смелые и оригинальные суждения по вопросам политики, искусства, литературы и науки.
Теперь же я должна сказать о том благороднейшем поступке, который совершил дядя, как только оправился от ран, полученных в сражениях за Отечество. Но для этого мне придется описать бедственное положение, в которое попала моя семья, по окончании войны. В этих записках немало место уделялось моим братьям, Степану, Афанасию и особенно Петру, который был старше меня, всего лишь двумя годами и с которым мы были необычайно дружны. К великому моему огорчению, судьба всех троих сложилась трагически.
Многих несчастий, постигших нашу семью, можно было бы избежать, если бы не удивительно снисходительное отношение родителей к их второму сыну Афанасию, родившемуся сразу вслед за Степаном и почти на 20 лет раньше, чем я. Он рос болезненным и слабым мальчиком, ему много позволялось в детстве и, выросши, он стал настоящим проклятием для близких. Начав самостоятельную жизнь в столице службою в одном из гвардейских полков, он никогда не брал во внимание долг перед отечеством и фамилией. Кутежи и карточная игра ему заменили службу. И кончилось это тем, что он, задолжав кредитором гораздо более того, что составляло его жалование, вкупе с родительским содержанием, растратил деньги, выделенные на обмундирование солдат его роты. Осознав всю глубину своего падения, а также тот позор, который он навлек на семейство и полк, Афанасий, не дожидаясь, пока все раскроется, покончил с собой.
Долги его пали на отца. Тот, обладая слабым здоровьем, еще боле подорвал его в неусыпных стараниях поправить положение семьи.
К тому же, стремясь быстрее избавиться от позора и груза долгов, он вступил в неоправданные торговые операции, был обманут купцом, своим компаньоном и в результате потерял фабрику, построенную еще моим дедом. В конце концов, отец был вынужден заложить рязанское и одно из смоленских имений. Все эти печальные обстоятельства ускорили его кончину в 1810-м году. Запутанные хозяйственные дела стала вести наша матушка, но поправить их существенно ей не удалось.
Старший из моих братьев, Степан, воплощал в себе все истинные черты рода Хвостининых: честность, благородство, отвагу. Все эти качества очень помогли ему в военной службе. В войну 1812 года он командовал полком и мог дорасти до больших генеральских чинов, но в сражении под Малоярославцем Афанасий получил тяжелое ранение и вскоре скончался, оставив молодую вдову и трех малолетних детей. Жена его, дочь погибшего в русско-турецкой войне офицера и пансионерка Смольного института, приданого с собой не принесла. После кончины брата, она с детьми осталась совсем без средств и проживала вместе с нами в том же рязанском имении.
Все надежды семьи сосредоточились на самом младшем из моих братьев Петре Петровиче. Он учился в Московском университете и готовился, окончив курс с отличием, занять приличное место в государственной службе. Но в 1812 году Петр пошел в ополчение, проделал весь поход русской армии от Тарутина до Парижа. И во Франции внезапно перешед в католичество, он поступил в один из францисканских монастырей.
Таким образом, кроме дяди, взрослых мужчин в семье не осталось. На него, израненного в боях, легла обязанность заботиться обо мне, моей матери и семье племянника. И это при том, что смоленские имения были совершенно разорены неприятелем, рязанское заложено, а кредиторы по-прежнему не были удовлетворены.
Последствия контузии не позволяли дяде вступать в службу гражданскую или военную. Для занятий хозяйством ему недоставало практического опыта. Но дядя нашел выход и совершено неожиданный. Продав поместье, доставшееся ему, от бабушки Авдотьи Романовны Буланцевой, он заплатил долги, и снял кабалу с остальных земель. Отказавшись от своей части рязанского имения, он обеспечил меня приданым. Не могу сказать, что оно было нужно моему жениху, а ныне горячо любимому супругу. Но родители его настаивали, хотя на каком приданом, из соображений ложно понятой чести и дали согласие на наш брак лишь тогда, когда Алексей Петрович, выступивший в качестве моего опекуна, предъявил им по всем правилам заверенные документы, вводящие меня во владение шестью сотнями крепостных душ, пашнями, лесом, маслобойней и винокуренным заводом.
Село Сретенское в Смоленской губернии он закрепил за моей матерью, с условием, что после ее кончины, оно перейдет в собственность детей Степана. А пока что, на их содержание Алексей Петрович отделил больше половины своей офицерской пенсии. Сам же он поселился в Москве в тесной каморке, во флигеле особняка одного из своих друзей, забрав себе только книги, которых уже тогда было свыше тысячи томов. Жил он очень просто, почти нигде не появляясь, время от времени лишь встречаясь с друзьями молодости: Павлом Ивановичем Голенищевым-Кутузовым, полковником Петром Илларионовичем Сафоновым и Петром Ивановичем Арро, знакомство с которым он вновь возобновил, после возвращения в Москву.
И именно в этот момент, осенью или в самом конце 1815 года, князь Владимир Хованский посетил дядю в его уединении и сделал ему необычное предложение. Он сообщил, что намерен отправиться с женой и пятилетней дочерью в Европу, на довольно длительный срок, не менее полугода. Сын же Александр, по слабости здоровья, их сопровождать не может. Оставлять его на попечение тетушек и нянек князь не намерен. Наслышанный о педагогических талантах Алексея Петровича, он решил просить его стать, как он выразился, «наставником» восьмилетнего Сашенки. Князь предложил дяде жить в его московском доме в качестве хозяина, препоручив ему всю прислугу. Жалование, предложенное князем, намного превышало скромные потребности Алексея Петровича. Кроме того, отдельная сумма выделялась на покупку книг и препаратов для опытов.
Дядя, взяв несколько дней на обдумывание, согласился. Спустя полгода, князь написал, что они с Софьей Петровной предполагают задержаться во Франции еще на несколько недель, после чего, возможно, отправятся в Италию. Он предложил Александру с наставником переехать в подмосковную – село Старбеево, где можно оборудовать настоящую химическую лабораторию. Дядя, привязавшись за это время к доброму и отзывчивому мальчику, не раздумывая больше, согласился. А в дальнейшем уже и сам Александр не хотел расставаться со своим учителем более чем на один-два месяца, в течение которых он жил с отцом и матерью в Петербурге или в Москве. Князь с княгиней по-прежнему много времени проводили за границей, оставив свой московский дом и подмосковную, на попечение управляющего, которому было дано четкое указание выполнять все приказания Алексея Петровича, почитая его наравне с хозяевами.
Видя дядю в то время в Москве, я нашла его сильно постаревшим, но бодрым и большей частью в спокойном и даже веселом расположении духа. Он нашел в Александре благодарного ученика и с радостью передавал ему свои знания, полученные не систематическою учебой, но постоянным самообразованием. Сам он мне сказал как-то, что столь счастливым в своей жизни он был лишь два или три раза. Но именно эта счастливая жизнь была прервана трагическим происшествием, которое, вероятно, и стало причиной…»
На этом ксерокопированный текст заканчивался, и похоже читал я его зря, ломая глаза на всех этих завитушках, которыми графиня, без зазрения совести, украшала половину букв, другую половину делая похожими друг на друга, я так понимаю, для красоты и гладкости почерка. И при этом, старушка Апраксина не написала ничего, что бы мне могло помочь. Разве что упоминание о Жеребцове и Голенищеве… Как никак Александр Жеребцов в 1802 году создал «французскую» масонскую ложу «Соединенных друзей», а Павел Иванович Голенищев-Кутузов был в начале XIX века мастером стула ложи «Нептун». Ну, уж лучше бы я диссертацию дочитал, может быть там что полезное… Батюшки святы!!! Отзыв то я вчера из ректората не забрал! Бегом одеваться, есть еще полтора часа до встречи с Куардом.
В ректорате, вместе с заверенным отзывом, мне передали записку с просьбой зайти в деканат юридического факультета. Там, секретарша декана, строгая, а может быть просто злая на свои прыщики девушка, не глядя, сунула мне бумажку, подписанную замдекана по учебной работе. В бумажке мне предлагалось в течение недели предоставить в деканат программу моего спецкурса и понедельный план лекций, с указанием рекомендуемой литературы и вопросов к экзамену. То ли привет от Сергея Сергеевича, то ли так просто, от нечего делать, начали гайки закручивать. Плакала моя богатая идея «свободного» курса. Нет, в Испанию, в Испанию… или в альмаматерь? Черт его знает, но пока что надо машину ловить, на встречу ехать. Я позвонил Куарду, попросил прощения, и предупредил, что опоздаю минут на десять-пятнадцать.
Почему-то Куард выбрал грузинский ресторан на Остоженке. Машину, кстати можно было и не брать, на метро быстрее бы получилось, чем в новых московских пробках. Проскочив фонтан у входа и кое-как справившись с тяжелой деревянной дверью с кованой ручкой, я шел по маленьким зальчикам, оформленных обрывками старых газет, объявлениям полувековой давности и рисунками мелом, среди деревянных столов и ветвей искусственного винограда, пока не набрел на Куарда, сидящего за столиком, на каком-то деревянном балкончике.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































