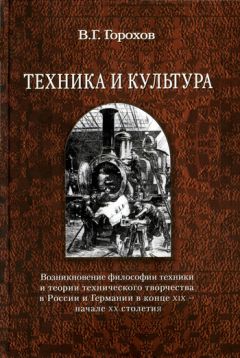
Автор книги: Виталий Горохов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
Применение замкнутого колебательного контура имело особое значение. «Для принятия электрических волн следовало использовать закрытые колебательные контуры в противоположность до сих пор используемых открытых контуров. В опытах 1913 г. в Страсбурге появляется рамочная антенна, которая сегодня наиболее распространена. Прием на рамочную антенну в отличие от приема с помощью открытого колебательного контура имеет существенные преимущества. В этом случае можно освободиться от помех, которые появляются с вполне определенных направлений, и тем самым получить большую свободу от помех. Кроме того, появляется возможность радиопеленга и т. п. Эти преимущества, сегодня всем известные, были впервые выявлены Брауном»220. Изобретение Брауном рамочной антенны было очень важным для дальнейшего развития телеграфии без проводов. «В 1890 г. впервые примененная рамочная антенна сделала возможным направленное излучение и направленный прием. При этом были подавлены атмосферные помехи и нежелательный прием других станций. Маркони перенес эту новую схему Брауна в свои приборы. В 1901 г. он осуществил радиосвязь между Европой и Америкой, в результате чего беспроволочная телеграфия смогла завоевать мир»221.
Все это было направленно на увеличение их мощности, дальности действия, удобства эксплуатации, экономичности, а также на освоение все новых диапазонов электромагнитных волн для осуществления радиопередачи и радиоприема и достижения их все более наглядного представления. Такого рода элементом была, например, электронно-лучевая трубка, или трубка Брауна. «В силу ее практически безынерционного функционирования она давала возможность исследовать временные характеристики переменных токов и напряжений весьма высокой частоты. Эта особенность трубки, ее особое место среди иных осциллографических устройств, подчеркивалась Брауном буквально в самых первых публикациях. Для отображения быстрых колебаний, которые использует радиотехника, трубка Брауна – единственное средство детального исследования временных характеристик…»222. Это был, однако, лишь прототип современного осциллографа, ставший сегодня «одним из основных измерительных приборов в электронике, который позволяет сделать видимым на экране в графической форме изменяющееся во времени напряжение (прохождение и форму сигнала), а также измерить или представить его амплитуду в зависимости от времени»223.
Браун хотел «с помощью своей электронно-лучевой трубки сделать видимым переменный ток, которым снабжался город Страсбург. Он заказал ее у наследника фирмы „Франц Мюллер Гайслер“… На связанном с его электронно-лучевой трубкой поворотном зеркале появилась синусоидальная кривая. Переменный электрический ток вновь созданной электростанции города Страсбурга стал виден на экране электронно-лучевой трубки… В последующие годы Браун и Ценнек добавили к этому дополнительные устройства, обеспечившие прежде всего горизонтальную развертку и некоторые иные улучшения… Роговский в Аахене доработал это устройство, введя в него в 1905 г. нагреваемый катод и электростатическую развертку»224. Изображение кривой тока было видно непосредственно на флуоресцирующем экране. Луч следовал непосредственно за изменениями электрического тока, Браун смог сфотографировать картину колебаний и опубликовать ее. Было очень важно уметь представлять переменные токи, измерять их и геометрически конструировать225.
Флеминг использовал уже открытый Эдисоном эффект «технически для конструкции двухэлектродной детекторной (выпрямительной) электронной лампы и в его „колебательном клапане“ в 1905 г.» получил британский и американский патенты, но «права на его изобретения находились в собственности фирмы Маркони, консультантом которой он был». Его диод, однако, так никогда и не сыграл какой-либо значащей практической роли, поскольку он явно проигрывал в качестве выпрямляющего элементы кристаллическому детектору Браунае226. Точно так же открытое ранее свойство двух находящихся в соприкосновении кристаллов пропускать ток в одном направлении послужило основой для изобретения кристаллического детектора. После ряда специальных исследований Браун и Пиккар нашли подходящие пары для кристаллических детекторов. «Уже в 1874 г. Браун пишет об открытых им явлениях следующее: если пропустить электрический ток через медный колчедан, пирит (железный колчедан), галенит (свинцовый блеск), блеклую руду и тому подобные минералы, то наблюдается тот факт, что сила тока не пропорциональна электромагнитной силе. Если же при этом электроды сделаны различным образом, тогда сила тока зависит также от направления заложенной разности потенциалов. Браун, например, обнаружил, что в случае принятой им первоначальной конфигурации опытного оборудования различия в силе тока для противоположных направлений составляют 30 %. Для более позднего способа расположения эти различия в силе тока стали существенно больше, так что можно было сказать, что ток течет в одном направлении. Это явление, которое представляет собой отклонение электропроводности от закона Ома и характерно для одно-полярной проводимости, нашло свое важное применение: на нем основываются открытые Брауном и введенные в практику телеграфии без проводов кристаллические детекторы»227.
Другой пример длительной и утомительной тяжбы между изобретателями о приоритете дает спор между американцами Армстронгом и Ли де Форестом. Эрвин Армстронг (1890–1954) был отцом принципа супергетеродина (гетеродинного приемника), а также частотной модуляции и регенеративной схемы (повышение усиления с помощью обратной связи входного сигнала с управляющей сеткой радиолампы). Но американский физик Ли де Форест (1873–1961) «оспаривал приоритет идеи обратной связи»228. Позднее появятся и другие споры по этому поводу. Поэтому Армстронг должен был «все больше и больше времени инвестировать в судебные дела»229.
Энгельмейер уделял большое внимание юридическому исследованию изобретений и имел богатую практику в этой области, а также целый ряд работ. В 1911 г. он выпускает книгу по этому вопросу «Руководство к привилегированию изобретений»230. Не касаясь практических сторон данного исследования, которые, несомненно, могут иметь историческую ценность для патентоведов, рассмотрим, что дает его теория технического творчества в этом плане. П.К. Энгельмейер формулирует критерии хорошего описания изобретения, подаваемого на привилегию. Оно должно удовлетворять, с одной стороны, требованиям закона в отношении ясности и полноты, а с другой – интересам изобретателя и всякого другого собственника изобретения, закрепляя монополию на него прочно и в наивозможно широких пределах. Неясное описание так же плохо, как и слишком скрупулезное, впадающее в частности (оно ограничивает применимость привилегии). Такие описания ведут в дальнейшем к многочисленным юридическим казусам, рассмотренным в его книге.
С юридической точки зрения изобретение представляет собой предмет (объект) права собственности. Патент на привилегию должен закрепить за изобретателем монополию на все экземпляры его изобретения (в том числе его варианты, а не только точные копии). Здесь видно существенное различие между правом на вещь (вещным правом) и правом на изобретение. «Привилегия покрывает не вещь, а некоторый разряд вещей сходных, – некоторый род»231. Поэтому описание изобретения должно давать не инвентарь вещи, а ее определение.
Во всяком изобретении предмет привилегии – техническое понятие изобретения. «Задача описания изобретения для привилегии заключается, стало быть, в том, чтобы вылущить из изобретения его техническое понятие». В описание должно быть включено только сочетание всего действительно существенного. С юридической точки зрения закон «может взять под свою защиту не вещь, а понятие вещи, вернее – ее словесное описание»232. Энгельмейер в этой книге специально и подробно рассматривает практический для всякого изобретателя вопрос «вылущения технического понятия из изобретения». Ориентиром ему здесь служит все та же трехактная теория технического творчества.
Итак, как же должно быть описано изобретение? С точки зрения закона описание изобретения должно быть таким, чтобы осуществление его по этому описанию на деле было доступно всякому среднему специалисту. «Замечательно, – пишет Энгельмейер, – как трехактная теория ясно устанавливает грань, до какой надо вести описание изобретения на предмет его привилегирования. В самом деле, по требованию закона один принцип изобретения, т. е. продукт первого акта не подлежит привилегированию, а вести описание до всех деталей конструкции тоже не требуется; паче чаяния схема, даваемая вторым актом, уже удовлетворяет требованиям закона в том отношении, что по схеме каждый специалист в состоянии выполнить вещь на деле. В изобретениях невещественного характера, т. е. в способах производства, роль схемы играет, как мы знаем, подробный план. А уж рецепты составляют принадлежность конструкции. Итак, общество в лице закона требует от изобретателя, чтобы он описал свое изобретение в стадии второго акта»233. С точки зрения интересов изобретателя описание должно давать ему право в возможно широком объеме. Поэтому он стремится закрепить за собой принцип, но сам он основывается на работах предшественников. «Принцип дает род изобретения, схема – его вид. И вот за изобретателем признается только право на вид. С другой стороны, если бы требовалось описание конструкции, то за изобретателем был бы закреплен даже не вид, а особь, чего мало изобретателю. Итак, хотя изобретение для полной выработки должно пройти целый трехакт, но для привилегирования наступает момент в конце второго акта. Описано изобретение должно быть в виде схемы или полного плана, но не в конструктивных деталях. Если же изобретатель из незнания заходит в описании слишком далеко, т. е. включает излишние подробности, то сам суживает свои права»234. Таким образом, при описании изобретения для получения привилегии надо иметь в виду, что юридическую единицу во всяком изобретении составляет технологическое понятие, которое получается в конце второго акта изобретения.
3.2. Теория технического творчества
Изобретение и открытие: П.К. Энгельмейер и Э. Мах
Энгельмейер был лично знаком с известным физиком, философом и историком науки Эрнстом Махом135. Это знакомство сослужило плохую службу для распространения философии техники Энгельмейера в России в советское время, поскольку тогда обвинение в махизме было идеологическим проклятием. С января 1894 г. до июня 1912 г. происходит интенсивный обмен письмами между ними236. В них зачастую речь идет о различных технических вещах (возможно, важных для лабораторных экспериментов Маха), но также и о философских вопросах237. Мах написал также предисловие к книге Энгельмейера238, вышедшей одновременно на немецком и русском языках, дав ей следующую краткую характеристику: «Наш автор вовсе не стремится насильственно и педантично перенести в технику чуждые и несвойственные ей мысли; мы имеем перед нами инженера, который широко осмотрелся в своей области и в мире и который нам сообщает свои богатые и беспристрастные наблюдения над возникновением изобретений»239. Энгельмейер публикует первое издание Маха на русском языке «Научно-популярные очерки. Вып. 1. Метод и цель научного исследования. Теория познания» (Москва, 1901) с предисловием Маха и введением, написанным самим Энгельмейером240. Введение – переработка его доклада и статьи «Теория познания Эрнста Маха», напечатанной в журнале «Вопросы философии и психологии» в 1897 г.241 Эту статью читал и одобрил сам Мах: «При сем посылаю Вам… рукопись моего реферата Вашей теории познания. Надеюсь, что я не допустил больших ошибок»242. В своем письме Маху от 6 апреля 1912 г. Энгельмейер утверждает, что его философия техники покоится на принципах теории познания Маха: «Мой техницизм (так Энгельмейер называет иногда свое учение о технике. – В.Г.) является не чем иным, как ответвлением и выводом из Вашей системы. Среди российских университетских профессоров, кроме Овсянико-Куликовского243, нашелся в Харькове еще один махист – Лезин244, который меня понимает…»245 В последнем письме 1912 г. он сообщает, что Философское общество в Москве получило комическое направление. «Оно является ортодоксально-позитивистским и не терпит никакой свободы мышления. Я исключен». Это же противоречит духу любой позитивной науки246.
В предисловии к книге Энгельмейера «Теория творчества» Д.Н. Овсянико-Куликовский пишет: «Существует русская школа в науке о творчестве, основанная Потебней и Веселовским. Точки зрения и выводы этой школы получили подтверждение со стороны идей Э. Маха в их применении к данным вопросам. Теперь в книге г. Энгельмейера, последователя идей Маха, мы находим, так сказать, „встречное“ течение, исходящее из изучения природы технического творчества»247. Я думаю, вряд ли Энгельмейера можно называть последователем Маха, однако их взгляды были в некоторых пунктах близки, и влияние воззрений Маха (как, впрочем, и других философов и ученых) на работы Энгельмейера несомненно. Не случайно Мах пишет в своем предисловии к сокращенному немецкому переводу «Теории творчества» Энгельмейера: «…Мы имеем перед нами инженера, который широко осмотрелся в своей области и в мире и который нам сообщает свои богатые и беспристрастные наблюдения над возникновением изобретений… Это неслучайное явление, что автор встречает в пишущем эти строки одного из своих благодарнейших читателей. Если последний часто заглядывал в область ремесла и техники для выяснения процессов образования в науке, то первый пошел по обратному пути, на котором он открывает новые соприкосновения связи и родства между такими явлениями, которые кажутся чуждыми друг другу. Почти невозможно было обоим не встретиться и не задеть друг друга. Оба, например, на том вполне сходятся, что видят разницу между открытием и изобретением только в цели. Мысленное построение, устраняющее умственное неудобство, есть открытие; если же речь идет о практической потребности, то освобождающая мысль есть изобретение. Нижеподписавшийся заканчивает лучшими пожеланиями успеха как для этой работы, так и для автора (Вена. Май, 1909)»248.
В то время существовали различные оценки учения Маха249. Для примера приведем выдержки из двух рецензий на книгу Энгельмейера «Критика научных и художественных учений гр. Л. Толстого», в которых содержатся диаметрально противоположные мнения: в одной из них несколько пренебрежительно сказано, что автор «примыкает к Авенариусу и Маху, как будто только и света, что в их окне»250; в другой, напротив, о них сказано благожелательно. «Учение Авенариуса и Маха у нас мало кто знает. Наши профессиональные философы не считают для себя обязательным знакомство с великими двумя немецкими мыслителями. Поэтому особенно отрадно видеть, что между молодыми натуралистами (думаю, что г-н Энгельмейер и молод, и натуралист) являются люди, показывающие профессиональным философам настоящую дорогу к тому ручью, из которого бьет свежая и здоровая мысль»251. В своей статье по эврологии Энгельмейер отмечает, что теория познания Маха нужна прежде всего потому, что «подводит открытие под категорию изобретения»252. Теория познания Маха, по мнению Энгельмейера, впервые устраняет это препятствие в развитии эврологии. Прежде научное открытие толковалось так, «как будто человек, делая открытие, снимает покров с чего-то, существующего там, снаружи, независимо от человека. Такой взгляд воспитан тысячелетиями. Не в такой резкой форме, но он разделяется даже Кантом, который находит, что открытие и изобретение суть две противоположности в том отношении, что открывает человек что-нибудь существовавшее и раньше, тогда как изобретает он вещь новую. В подтверждение очевидности этого положения всегда приводятся примеры: открытие Америки и изобретение компаса. В конце прошлого века взгляд этот опрокинут Махом, а с ним пала еще одна помеха к созданию единой теории творчества. Впрочем, учение Маха ложится такой основной плитой под развиваемый здесь взгляд, что им следует заняться подробнее»253. Энгельмейер отводит в этой статье для изложения взглядов Маха специальный раздел, выясняя, что же такое, по Маху, научное открытие. Это понятие обычно связывается с понятием «истина». По Маху, истинной бывает всякая мысль, согласная с опытом. Речь идет не о чем-то существующем вне или внутри нас (внешний и внутренний опыт), а о соотношении между мыслями и опытом. «При этом отпадает и взгляд на как на обнаружение чего-либо внешнего: содержанием открытия может быть только некоторая мысль, а сам термин „открытие“ означает обнаружение того, что данная мысль соответствует данному опыту. Делая открытие, ученый, стало быть, ничего другого не делает, как лишний шаг в сторону упорядочения своих мыслей: он приспособляет свои мысли к опыту». Поскольку знать – это значит приладить свои мысли к опыту, то научное открытие – всякий успех в этом направлении. «Мышление и его упорядоченная форма – наука – являются средством, а отдельные умственные построения – инструментами». «Теперь расчищен путь для эврологии. Она вся группируется вокруг понятия изобретения. Изобретает художник, техник, делец, законодатель и пр. Но изобретает и ученый, делая открытие. Он изобретает умственные инструменты и приемы для своего труда»254.
1 марта 1897 г. Энгельмейер выступил на очередном заседании Психологического общества в Москве с докладом по теории познания Маха255. В том же году его доклад был опубликован в журнале «Вопросы философии и психологии»256. Эту статью Энгельмейер заключает тезисами, дающими общую характеристику теории познания Маха (кроме того, по свидетельству самого Петра Климентьевича, они были напечатаны по-французски в отделе библиографии Revue philosophique в том же 1897 г.). «Этих тезисов нигде у Маха нет, – отмечает П.К. Энгельмейер, – но когда они ему были предъявлены в немецком переводе, то он уведомил письмом пишущего эти строки, что тезисы верно передают его воззрения» 257.
Приведем эти тезисы полностью.
«1. Конечная цель всякого мышления есть предсказание опыта.
2. Мышление есть умственный эксперимент, производимый над умственными частичными отражениями опыта.
3. Научное мышление отличается от житейского только большею экономиею мысли, т. е. большею производительностью умственного труда.
4. Таким образом, принцип науки есть экономия мысли.
5. То, что привычно, представляется нам естественным, простым, понятным и необходимым.
6. Объяснить – значит непривычному ряду опыта подыскать параллельный ряд привычных мыслей.
7. Покуда данному ряду опыта параллелен ряд мыслей, мы говорим, что такое-то явление совершается по такому-то закону.
8. Как только расширяющийся опыт нарушает эту параллельность, сейчас же в ряд мыслей вносится наименьшее из возможных видоизменений, но такое, которое необходимо и достаточно для параллелизации.
9. Этот процесс параллелизации основан на принципе сплошности, т. е. на том допущении, что если данная мысль соответствует данному факту, то небольшому изменению в факте должно соответствовать небольшое же изменение в мысли.
10. Только тогда, когда частичное изменение недостаточно для параллелизации, вся мысль (понятие, закон) отбрасывается и заменяется новою.
11. Всякая наука увеличивает производительность умственной работы двояким путем: во-первых, предоставляя к нашим услугам испытанные методы мышления и, во-вторых, давая нам в руки объединяющие категории и данные опыта, т. е. согласуя как форму, так и содержание мысли с широким и все расширяющимся опытом.
12. Аналогия есть основная функция всякого мышления.
13. Такое сознание, которому было бы доступно явление во всей его сложности, не видело бы никакой другой причинности, кроме последовательности.
14. Точно так же в природе нет никакой другой зависимости, кроме сосуществования и последовательности, а потому законы, устанавливаемые наукой, не могут быть ничем больше, как возможно краткими описаниями.
15. То, что называется причиною и следствием, суть только отдельные частности, выделяемые из общего комплекса (явлений) для того, чтобы легче воспроизводить в мыслях комплекс. Здесь все зависит от привычки мысли (Denkgewohnheit), и с изменением последней изменяются в наших глазах причины и следствия в данном явлении.
16. Прогресс в науке есть постепенное приспособление мысли к возрастающему опыту, и эволюция науки есть только часть общей эволюции животного мира».
Последний тезис следует пояснить особо. Мах понимал прогресс науки эволюционно, как никогда не завершаемый процесс перестройки и приспособления мысли. В этом смысле наука всегда не закончена и изменяема, причем для Маха она всегда была не личным делом, а социальным предприятием. Эта критичность по отношению к научным достижениям и есть главная заслуга Маха, который раскачал господствующий в течение XVIII и XIX столетий догматизм в основаниях физики258.
Свою статью о Махе Энгельмейер начинает словами: «Одной из особенностей нашего времени является воссоединение философии с естествознанием»259. Этому способствует преодоление изолированности отдельных отраслей естествознания, невозможное без философского мышления, благодаря основополагающим открытиям Мейером принципа единства всех сил природы и Дарвином принципа эволюции. Особое место в этом движении, по мнению Энгельмейера, принадлежит Маху, который с первых лет своей научной деятельности обратился к пограничной области между физикой и психофизиологией. Однако мысли общего характера не сведены у него в один труд, а разбросаны среди массы чисто специальных рассуждений. Вот что отмечает по этому поводу сам Мах в предисловии260 к русскому переводу ряда его статей, изданных под редакцией Энгельмейера: «Свои взгляды на теорию познания я высказал в ряде отдельных сообщений, пользуясь представлявшимися случаями. По этим причинам взгляды эти развивались рядом с тем материалом, из которого они почерпнуты. При этом отдельные мотивы научного мышления трактовались особо, хотя их взаимная связь, разумеется, очевидна… Эта форма изложения представляет некоторые преимущества перед систематическим отвлеченным изложением. Поэтому я ее и сохранил. (Вена, октябрь 1900 г.)»261.
В основе концепции Маха, как отмечает Энгельмейер, лежат следующие утверждения. Во-первых, Мах считает, что «научное мышление ничем существенным не отличается от житейского: первое только сгу-щеннее второго, или, его словами, научное мышление приспособлено к более обширному опыту, нежели житейское. К этому же приспособлению сводится и прогресс науки»262. Во-вторых, Мах обнаруживает существенные черты сходства эволюции науки с эволюцией животного мира. В-третьих, основной принцип науки – принцип экономии мышления.
Первый тезис поясним словами самого Маха: «Мышление ученого отличается от мышления житейского более широким кругом интересов безличных или же сверхличных, далее – тесным примыканием к тому, что в другом месте и в другое время передумано, и наконец – постоянной самопроверкой. Но в своей сущности мышление ученого не больше отличается от мышления простого человека, чем проза Паскаля или Дидро от бессознательной прозы г-на Журдена»263.
С точки зрения Маха, вся деятельность человека направлена на самосохранение. Этой же цели служит и вся умственная деятельность. Мышление – это то оружие в арсенале человека, благодаря которому он занял господствующее положение на Земле. Мышление, следовательно, – средство к достижению жизненных целей, оно необходимо для того, чтобы предсказывать явления. «Перенося на эволюцию науки взгляды Дарвина, Мах говорит, что мысли, как живые существа, как отдельные органы последних, стремятся к самосохранению и борются за существование, и выживают из них те, которые наиболее приспособлены к опыту, в его постоянном изменении, под влиянием жизни человека и человечества»264. Этот взгляд на эволюцию науки с точки зрения дарвиновской теории эволюции вполне созвучен тем идеям о дарвинизме в области изобретений, которые Энгельмейер развил в своих книгах «Технический итог XIX века» и «Теория творчества».
Теперь о принципе экономии мысли, который Мах впервые высказал перед Венской академией наук в 1882 г.265 «Всякое суждение есть умственный эксперимент (мы сейчас сказали бы „мысленный эксперимент“. – В.Г.) над отражениями фактов… Надо предсказывать. Для этого необходимо думать. Но эту работу, как и всякую другую, хочется сберечь, и все эти цели зараз достигаются путем увеличения производительности мыслительного труда». Когда мы смотрим на новую область явлений, она сначала поражает массой частностей. Стремясь найти в этой мозаике единство, мы выделяем повторяющиеся частности. Отвлекаясь от несходств, сходства берем за образ и сущность явления. «Эта умственная схематизация фактов и есть то, что в логике называется отвлечением». Мысль без труда отслеживает и воспроизводит те явления, которые привычны. Объяснить явление – это и значит свести непривычный ряд явлений к привычному ряду мыслей. «Основанием здесь служит невольно коренящееся в уме убеждение, что если данный ряд мыслей параллелен данному ряду фактов, то небольшому уклонению фактов должно соответствовать небольшое же видоизменение мыслей. Видя в этом допущении один из принципов, сказавшихся на эволюции науки, Мах называет его принципом сплошности (Continuitat)»266. Перед всякой новой областью фактов ум, чтобы охватить ее, следует самым экономным путем.
Итак, всякое познание стремится к экономии мысли, но до высшей степени она доведена в математике. Математика дает нам испытанные методы и результаты чужой мыслительной деятельности, проходившей целые века, умственные инструменты, которые заключают в себе огромное количество совершенной ранее работы. Конечно, наука, по мнению Маха, не дает ничего такого, что нельзя было бы сделать без нее, но за достаточно продолжительное время: «Каждую математическую задачу можно решить и непосредственным „считанием“, – цитирует Энгельмейер слова Маха, – но только дело в том, что при помощи математики иная счетная операция производится в несколько минут, между тем как при отсутствии метода на нее не хватило бы и целой жизни человека»267. Речь также дает огромную экономию мысли. Преподавание тоже служит этой цели – сбережению чужого опыта и чужой мыслительной работы. Мышление – это «работа, которую надо тратить. Всякая работа только тогда целесообразна и разумна, когда она по возможности сберегается, т. е. когда либо цель достигается с меньшей затратой работы, либо данная работа дает больший результат. Таким образом, в мышлении принцип разумности и принцип экономии268 совпадают, а потому прогресс в мышлении измеряется критерием экономности его. И наука есть не что иное, как наиболее упорядоченная мысль»269.
Вероятно, именно Мах рекомендовал включить выступления Энгельмейера в программу IV Философского конгресса (Болонья, 1911)270. Насколько взгляды Маха действительно повлияли на философию техники и теорию творчества П.К. Энгельмейера – предмет особого исследования. И можно ли считать его учеником Маха, как он себя назвал в одном из писем, – вопрос открытый.
Верную оценку роли размышлений Маха в истории российской философии очень трудно установить, поскольку после убийственной и несправедливой критики его Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1905), особенно в советское время, эта тема становится табу для всякого объективного исследования. Ярлык «махист» стало в это время ругательным словом, применение которого приводило к ликвидации идеологических врагов. К счастью для самого Энгельмейера, он был уже в те времена стар и неинтересен для идеологической борьбы с ним. Все же долгое время эта идеологическая этикетка остается препятствием для сколько-нибудь объективного исследования философии техники Энгельмейера.
Но в России имела место и иная оценка роли Маха. Известный российский философ Павел Флоренский в своей работе «Наука как символическая форма» (впервые опубликована в 1922 г.) пишет: «В 1872 г. Эрнст Мах, тогда еще только вступавший на поприще мысли, определил физическую теорию как абстрактное и обобщенное описание явлений природы271. Рассуждая историко-философски, это событие не было ни великим, ни значительным. Оно не подарило философии ни новых методов, ни новых мыслей, но общественно, в мировоззрении широких кругов, образующих собой философскую атмосферу, и больших мыслителей, этот 1872 г. можно считать поворотным: в напыщенной стройности материалистической метафизики, всесильно и нетерпимо диктаторствовавшей над сердцами, тут что-то хрястнуло. Где-то прошел смешок. И хотя по провинциям мысли и доныне встретишь иногда запоздалого мародера, твердящего о добрых старых временах „научного“ миропонимания, однако тогда, именно тогда, начал осыпаться этот бутафорский дворец». Флоренский имеет в виду «бутафорский дворец» механистической мифологии, которая, по мнению Маха, в сущности, не далеко ушла от анимистической мифологии древних религий. И та, и другая содержат неправильное и фантастическое преувеличение неполного восприятия. «Направление к более полному представлению может быть результатом долгого и кропотливого исследования. „Предсказывать этот результат или даже пытаться ввести его в какое-нибудь современное научное исследование будет мифологией, а не наукой“. Таково беспристрастное суждение Э. Маха». В истинной науке важнейшую роль должна играть не застывшая логическая структура («Рабство науки – в ее схемостроительстве из себя…»), а критический метод, не слепая вера в истину (которая определяется мнением научного кружка, сословия, касты), а вечно юное удивление. Поэтому символична для развития философии и науки именно фигура апостола Фомы: «Из Фомина удивления родилось и Фомино уверение… более значило нам для веры неверие Фомы, нежели вера доверчивых учеников»272.
В своих работах Мах подверг обстоятельному анализу и критике основополагающие понятия ньютоновской механики (массы, времени, пространства и т. п.) и попытался дать свои собственные формулировки. Критикуя формулировку основных законов механики Ньютоном, Мах отмечает тавтологичность его представлений, тем самым посягнув на «священный текст» признанного авторитета науки. «Например, легко заметить, – отмечает Мах, – первый и второй законы ньютоновской механики уже заданы в предварительно введенном им определении силы. Без силы нет ускорения и поэтому возможны лишь покой и равномерное прямолинейное движение. Все остальное – ненужная тавтология». «Это, впрочем, – продолжает Мах далее, – вполне объяснимо психологически, если представить себе исследователя, который формулирует законы динамики, исходя из хорошо ему известных статических представлений». Именно Мах заложил методологические основы той новой научно-исследовательской парадигмы, которая получила название неклассической научной программы. Следует иметь в виду, что «неудача всех попыток значительных физиков (таких, как Максвелл и Герц) свести электродинамику к одной механической модели и привела в конечном счете к крушению механистической модели мира в целом», т. е. в той области, где Мах не имел прямого влияния. Но критика Махом механистической картины мира, учитывая огромный личный престиж ее автора, способствовала развитию антимеханистических воззрений у молодого Эйнштейна, который окончательно разрушил своей теорией относительности эту классическую картину мира. «Эйнштейн перенял у Маха в дифференцированной форме тему антимеханицизма, и переработка этой темы в теорию относительности была для Маха ясно опознаваемой, а для его друзей и врагов понятой как уничтожающий удар против механистической картины мира»273.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































