Текст книги "Чучело-2, или Игра мотыльков"
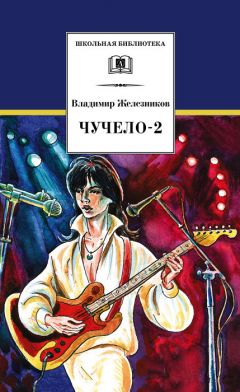
Автор книги: Владимир Железников
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Так вот, – продолжает Попугай, – ваш Самурай… подзалетел!
Когда он это сказал, меня сразу как ножом по сердцу полоснуло, но молчу, жду продолжения.
А он смотрит на меня:
– Чего это ты так покраснела?… Или в курсе?
– Покраснела? – переспрашиваю, а сама чувствую: в жар кидает. – Может, на солнце перегрелась. – И спокойно продолжаю: – А что он такое натворил?
Попугай с грустью отвечает:
– А то, – говорит, – машину угнал, раскурочил, а потом еще и поджег.
Тут я на самом деле пугаюсь: думаю, раз знает Попугай, то скоро узнают все. Что делать?… Голова кругом. На всякий случай надеваю очки. Начинаю прикидываться – ненатурально хохочу, выкрикиваю:
– Ой, не могу! И разбил, и угнал, и поджег!.. И еще обчистил!.. – Захлебываюсь от смеха, потом обрываю и говорю: – За кого вы его принимаете? Он что, бандит? Он музыкант, композитор, поэт, а не вор. Ясно? – Мне понравилось, как я отбрила Попугая, у самой на душе стало легче, и я спокойно завершаю нашу беседу: – Интересно, кто вам наплел эту чепуху? Откуда такие печальные новости?
– Оттуда, – отвечает. – От верблюда. Он плюнул, я поймал. – Смотрит на меня, изучает. – Есть такая персона, давно мне знакомая, называется Судаков. Не слыхала?
Лепечу что-то несуразное, мотаю головой: нет, мол, а сама соображаю, что нужно рвать к Глазастой, чтобы обо всем ей рассказать. Может быть, она что-нибудь придумает.
А Попугай свое:
– Ну повстречались мы с Судаковым. Зашли в пивбар. Сидим. Пьем пиво. То да се. Он мне жалуется, что попал под суд, что главный свидетель по делу Зотиков, что он его надежда и опора, что если бы не он, его бы упекли куда следует за милую душу, вообще всю историю выкладывает с подробностями, да ты ее знаешь, думаю, не хуже моего. – И снова сверлит меня глазами, не хуже капитана Куприянова.
Хорошо, что я в очках, а то по моим глазам он бы сразу догадался, что я в отключке от страха. Спокойно отвечаю. Медленно тяну слова, стараюсь изо всех сил, чтобы не выдать себя:
– Конечно, знаю. Мне Самурай рассказывал. Еще зимой… Он был пассажиром в той машине… и все! А вы плетете! Ну, вы прямо писатель, вам бы в газету сочинять.
– Если бы… – Попугай печально вздыхает, обдавая меня винно-водочным перегаром.
Чтобы осадить его, нарочно отмахиваюсь ладошкой, говорю:
– Кажется, я захмелела.
– Извини, – отвечает, – позволил себе на каникулах. – Глазки опускает, вот-вот заплачет, так ему, бедному, жалко Самурая. – Каюсь, тут не без моей вины. Когда Судаков назвал Зотикова своей «надеждой и опорой», то я, признаться, сплоховал. Стал Самурая хвалить: отличный парень, прирожденный водитель. Судаков так и присел от моей информации. В глазах помутнение, челюсть отвисла. «Он же не водит машину?» А я качусь по наклонной: «Как не водит, когда я его сам обучил. Он у меня автогонщик, ас». Вот тут Судаков сразу обо всем догадался.
Плыву, улыбаюсь идиотской улыбочкой, только слюни не пускаю. Пришла расплата! Ноги и руки дрожат, думаю: пропал Костя, его теперь загребут в зону. А он же слабый, не выдержит, ему же конец! И так мне стало страшно, хоть криком кричи! Выдавливаю:
– Что-то я не поняла… о чем догадался Судаков?
– О том, – говорит Попугай, – что Самурай и есть тот самый угонщик, которого ищет милиция.
– А-а, – говорю, – вот интересно! Самураю все передам, вместе посмеемся.
Сматываюсь, чтобы последнее слово осталось за мной, в спешке запутываюсь в собственных ногах и падаю. Очки слетают с носа – разбиваются. Плачу и ругаюсь последними словами: «Ну, Попугай, дерьмо, вонючка тухлая, достал меня!» Очки жалко…
Встаю. Попугай поднимает мои очки, протягивает:
– Не расстраивайся, Смирнова. Очки – дело поправимое… – И нашептывает мне в ухо: – Рекомендую наладить связь с Судаковым. Он парень понятливый. Действуйте через меня.
Отталкиваю его – убегаю. Бегу домой, твержу: «Пропал Костя, пропал!» Вспоминаю свой сон. Он мне приснился перед тем, как мы угнали эту проклятую машину. Вещий сон, натуральный. Сижу будто я в машине, а она катится в пропасть, и меня швыряет от стенки к стенке, а машина летит вниз. Потом цепляется за дерево и висит. Страшно было висеть над пропастью!
Прибегаю домой, звоню Глазастой, а той нет дома, и мамаша ее как-то чудно разговаривает: мол, позвони ей туда, сама знаешь куда. Как в сказке для детей. Она там.
– А где «там»? – спрашиваю. – Скажите номер телефона.
– Ах, ты не знаешь, где она? – Голос у нее дрожит, чувствую, пугается, словно проговорилась о запрещенном. – Тогда позвони вечером.
Пристаю:
– Она мне очень нужна. – Пугаю ее: – Потом поздно будет.
– Извини, – говорит. – У меня ребенок плачет. – И быстро бросает трубку.
Странная у Глазастой мамаша: какого-то ребенка придумала, когда всем известно, что у Глазастой нет ни брата, ни сестры.
Накручиваю Ромашке. Да разве ту схватишь дома?
Остается Каланча, а она без телефона, а меня страх съедает, не могу оставаться с ним одна. Бегу к Каланче. И вот тут-то все совсем запутывается!
Лечу, значит, не разбирая дороги и встречных лиц, вбегаю в квартиру Каланчи – у них все нараспашку, замок сломанный, дверь еле держится на петлях. Подскакиваю к их комнате, хочу ворваться, но слышу мужской голос и останавливаюсь. Может, хахаль ее мамаши, думаю, тогда от ворот поворот. Они всегда у нее злые, пьяные, пристают. И сама она стерва отпетая. Обзывается. А голос у мужчины – знакомый, хриплый басок.
– В тюрягу захотела, кретинка? – кричит.
Ответ – молчание.
Начинаю смеяться: это же телик, киношку крутит. Дергаю дверь, а она на запоре. Каланча любит киношку. Она теперь по видеотекам ошивается. Один раз меня затянула, там такое показывали – обалдеешь! Я сбежала. Каланча надо мной хохотала, подлянку мне подкинула, все девчонкам рассказала. Ромашка ухмыльнулась, говорит про меня: «Она у нас непорченая!» А Глазастая, как ни странно, скривила губы и промолчала.
И тут раздается натуральный грохот, словно кто-то падает. Потом прорезается плачущий голос Каланчи:
– Дяденька, не бейте! Я все-все скажу!
Меня ошпаривает – вот тебе и телик! Офигенно!
Каланчу избивают! Слышу ответ:
– Да разве я тебя бью?… Ты же сама упала. Ноги тебя не держат от страха… Вот в зоне тебя пришьют. Там девчонки знаешь какие боевые? И салазки тебе устроят, и что-нибудь еще похлеще. Они придумают, они веселые.
– Дяденька, я все-все скажу! – хнычет перепуганная Каланча.
Тут меня осеняет: это его голос, Куприянова! Еще не соображаю, что к чему, а уже догадываюсь, что он у нее выпытывает про нас. Ух, пугаюсь! Хочу броситься наутек, но шагу ступить не могу! Вот говорят: вижу свою смерть, а отступить в сторону, чтобы не столкнуться с нею, не хватает сил. И у меня так. Голос Куприянова меня завораживает. Вжимаюсь в угол. От страха грызу ногти. Что-то я сейчас узнаю! Лучше бы убежать, лучше бы заткнуть уши, чтобы больше ничего не узнавать, а то неизвестно, что делать. Но я не убегаю, стою.
За дверью тишина. Куприянов покашливает. Каланча всхлипывает. Дымком тянет.
– Подымить хочешь? – спрашивает.
– Я не курю, – врет Каланча, – что вы.
Слышу:
– В зоне закуришь.
Каланча жалобно подвывает.
– Ну ладно, не реви. Протокол допроса я составлю, а ты подпишешь. Будешь меня слушать, я тебя прикрою…
Страшно. Про себя думаю: «Пропал Самурай, пропал, обложили со всех сторон». Плачу. Слезы сами собою текут. Жалко Костю. Вижу рыжего таракана, он не торопясь ползет по стене. Жирный, отполированный. Отворачиваюсь, а то меня стошнит.
Слышу:
– Значит, кто первый заметил машину с ключом?
– Глазастая, – выдавливает Каланча.
Стою, грызу ногти.
– Фамилия ее, имя? – слышу. – Что ты суешь клички. У меня протокол! Ты не увиливай – со мной не пройдет!
Не знаю, что он там с нею делает, может, сигаретой руку прижигает, потому что все еще тянет дымком, но она вскрикивает:
– Дяденька, больно!.. Я скажу, скажу!.. Забыла… как ее фамилия… Честно.
– Ты что, олигофрен? – спрашивает.
– А что это такое?
– Ну, дебилка, недоразвитая.
– Нет, я не дебилка, – отвечает Каланча. – Я нормальная, у нас Зойка дебилка.
Стою, почему-то опять плачу. Себя, наверное, жалко. Слышу:
– Зойка тоже из вашей команды?
– Да. Зойку зовут… Смирновой.
– Запишем…
Тишина. Понимаю: он записывает про меня. Нисколько не пугаюсь. Радуюсь. Значит, Самурай будет мучиться и я с ним. Легчает вроде, сердце успокаивается…
– Ромашка у нас еще – Сонька Вяткина. – Вдруг: – А Глазастая, значит, Сумарокова. – Смеется: рада, что вспоминает. Стучит, выходит, и еще радуется; вот, думаю, подлюга-расподлюга. Она же преступница!
– Сумарокова? – переспрашивает Куприянов. – А ты ее отца не встречала?
– Не встречала. Живет на улице Фигнера.
– В новом шикарном доме?
– Ага. У них там внизу дядька сидит, никого не пускает.
– Охранник называется, – почему-то смеется Куприянов. – Неплохо складывается. Сумарокова… Опять же судья под именем Глебов. Ух, закрутился винт, да схватит его гайка. – Голос по-прежнему едкий, но теперь не такой злой. – А когда Зотиков сбивает стариков, то вы все убегаете? А почему он вернулся?
– Сакс забыл, – отвечает Каланча.
Тишина. Слышно, как на кухне разговаривают женщины про мужиков, ругают их, про детей – тоже ругают. Слышу:
– Подпиши вот здесь… Фамилию выводи разборчиво, аккуратно… А то потом откажешься, скажешь – не ты.
Тишина. Видно, Каланча подписывает.
– Ну молодец! Законная подпись! – Голос у Куприянова довольный. – Да ты не дрожи. Что дрожать – дело сделано. Не ты первая, не ты последняя. Не думай про то, что ты раскололась, думай – себя спасла! Государству опять же помогла. У тебя одна жизнь, другой не будет, так что надо ее прожить, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. А по-нашему, спасай свою шкуру до последнего вздоха. Вот какая наука. Ты мне еще спасибо скажешь. И держи язык за зубами. Никому я этого не покажу, если его мамаша, Лизок, себя по-умному будет вести. Тебе сколько?
– Четырнадцать, – отвечает Каланча.
– Давай дружить. – Он что-то там сделал, Каланча громко рассмеялась.
Слышу, Куприянов двигает стулом, понимаю: собирается уходить. Значит, надо мотать отсюда. Осторожно, чтобы ни шороха, ни звука. Сталкиваюсь в коридоре с какой-то женщиной. Она шарахается от меня, провожает взглядом, но ничего не спрашивает.
Узелок туго затягивается, дыхалку перекрывает. Сначала Попугай, теперь Куприянов. Что же будет с Костей – неужели сядет?! На улице остановилась около мотоцикла Куприянова, собираю слюну во рту и выплевываю на сиденье. Запоминаю номер мотоцикла, чтобы подстеречь его в другой раз и проколоть колеса.
Холодно. Колотит. Оглядываюсь – оказывается, я сижу на откосе. С Волги ветер. Уносит гарь и дым из города. Легче дышать. Легче думать. Думаю, как расправиться с Каланчой – убить ее мало. Зверею. «Убью ее, – твержу, – убью подлянку! А что это Куприянов, – думаю, – про Лизу говорил, намекал на какие-то совместные дела?» Вдруг меня обжигает как огнем: действовать надо, надо к Ромашке и к Глазастой, может, они что-нибудь придумают. У Глазастой голова, она соображает.
Бросаюсь домой. Выбегаю из лифта, на ходу выхватываю ключи… и вдруг замечаю – у Лизы дверь приоткрытая. Пугаюсь: что еще случилось? А если вернулся Костя? Вот ужас! Дверь как-то подозрительно не закрыта, вроде бы прикрыта, щель маленькая, а не захлопнута. Тихонько открываю, вхожу… Дверь оставляю нараспашку, чтобы легче было убегать, если что не так. Заглядываю в кухню. Вижу, сидит ко мне спиной Лизок.
– Теть Лиз? – окликаю.
Она резко поворачивается, от моего неожиданного появления лицо у нее совсем незащищенное, как бывает у человека, когда он один, сам с собою. В последнее время она здорово выхудилась: мордочка с кулачок и глаза торчат.
– А-а, – говорит, – это ты, входи. – А сама жует черствую горбушку хлеба.
– Что это у вас дверь не заперта? – спрашиваю.
– Не заперта? – совсем не удивляется. – Не знаю. Забыла захлопнуть. – А сама, не двигаясь, продолжает жевать хлеб.
– Теть Лиз, – спрашиваю, – что это вы хлеб всухомятку?
Молчит, не отвечает; посмотрела на хлеб и снова жует.
– Пойдемте, я вас супом накормлю.
Она опять не отвечает: не слышит. И тут я, дурочка, не выдерживаю, срываюсь и вдруг как закричу:
– Теть Лиз!
Она смотрит на меня с большим удивлением, словно впервые замечает. Ждет.
– Теть Лиз, – говорю, – я была у Каланчи… Ну, знаете, из нашей команды… самая длинная. Я вам про нее рассказывала. Помните?
Она смотрит, но я по глазам вижу – не включается. Добавляю тихо:
– А там у нее… Куприянов. Тот самый. Ментяра. Он на нее орал, угрожал, и она ему… все-все рассказала.
Включается:
– Что… рассказала?
– Что… Костя угнал машину. – Шепотом произношу. Мы с ней раньше никогда об этом не говорили, но она не удивляется, что я в курсе. Думаю, сейчас взорвется после моих слов, а она молчит.
Продолжаю:
– Протокол он составил, и Каланча подписала.
– Знаю, – отвечает. – Он только что звонил.
– Ну и что же делать? – спрашиваю в отчаянии.
– Ничего. Куприянов нам поможет. Он мне обещал. – Криво улыбается. – С ним все просто.
А у самой вид перевернутый, точно она стоит на краю пропасти и вот-вот сорвется – и насмерть!
– А еще раньше я встретила на улице Попугая! – кричу. Думаю: надо остановиться, надо остановиться, пока не поздно, а не могу. – Наш учитель по автоделу, Попугай – прозвище. Так вот он мне говорит, что Судаков, шофер, тоже знает про Костю.
– И про это слышала, – отвечает тем же чужим голосом.
Теперь молчу я. Ничему она, выходит, не удивляется, но это почему-то не успокаивает. Наоборот, беспокоит. Думала, я ей скажу – сразу станет ясно, что делать. А тут все окончательно запутывается.
– А ты никому ни полслова! – предупреждает. – Поняла?
Киваю, что поняла.
Звонит телефон. Лизок уходит в комнату. Плетусь следом. Она снимает трубку. Вдруг вижу: слегка преображается. Милая улыбка появляется на лице. Молчит, слушает, что ей говорят, сияет. Преображается, ее узнать нельзя. Смеется!
Догадываюсь, кто звонит, – конечно, судья. Удаляюсь.
Прихожу домой, сразу звоню Глазастой. Она снимает трубку, как всегда, мрачная. Тут я вдруг думаю, что ни разу не видела, как Глазастая улыбается.
– Это ты с матерью разговаривала? – спрашивает.
– Я, – отвечаю.
Она молчит. В другое время я бы пошутила про ребеночка, который у них откуда-то появился, спросила бы, не она ли его тайно родила или что-нибудь в этом духе. Но сегодня мне не до этого, я продолжаю:
– Приходи, надо поговорить. Степаныч во второй. Так что я – одна. Ромашку захвати.
Она ничего не расспрашивает, говорит:
– Освобожусь через два часа и приду. – Вешает трубку.
Опять я одна. Жду из последних сил. Достаю пылесос, начинаю убирать квартиру. Шурую, а из головы не выходят наши дела. Когда звонят в дверь, бросаюсь открывать со всех ног, думаю: наконец-то увижу девчонок. Открываю дверь, а они не вдвоем, а втроем – с Каланчой.
Застываю. Раньше думала, сразу брошусь ее убивать, а тут застываю – стою в проходе онемевшая. «Вот, – думаю, – наглая! Всех заложила и приперлась!»
– Войти можно? – спрашивает Ромашка и отодвигает меня в сторону.
Они проходят в комнату, рассаживаются. Плетусь за ними, что делать с Каланчой, не знаю.
– Курево есть? – нахально спрашивает Каланча.
– Ах ты, падло, курево тебе надо?! – Мне кажется, я кричу, потом понимаю, что губы у меня еле шевелятся и никто никаких моих слов не слышит.
Почему-то иду в комнату к Степанычу, достаю пачку «Беломора», бросаю Каланче.
– Фу, гадость! – говорит. – А сигарет нету?
– Нету, – отвечаю, – обойдешься, курильщица.
А сама думаю: сейчас все криком выложить или подождать? Вдруг она сама расколется? Надо же ей дать шанс. Одно дело – я скажу, тогда девчонки ее растопчут; другое дело – она сама. Смотрю на нее, как она «беломорину» раскуривает, руки у нее подрагивают. Значит, про это думает, глаз не поднимает. А я стою жду!
– Так что там у тебя случилось? – цедит Глазастая.
– Откуда ты знаешь, что случилось? – пугаюсь.
– По твоей улыбочке прочла… Для этого большого ума не требуется.
Хихикаю не к месту. Они смотрят на меня, удивляются. Думают, видно, вот идиотка! Сбиваюсь, тороплюсь, выкладываю им в красках про Попугая и Судакова, сама от страха чуть не воплю.
Они долго молчат. А что тут скажешь? Они же давно про это перестали вспоминать, думали, все позади, кроме Каланчи, конечно. А тут вдруг!
– Ну, трепло проклятое, Попугай! – возмущается Ромашка. – Надо же!
– Попугай сказал, – говорю, – что с Судаковым можно договориться.
Слежу за Каланчой. Она спокойна: ей-то это на руку.
– Может, пойдем в милицию? – нахально предлагает Каланча. – Теперь все равно всех выловят.
– А Самурай как же? – спрашиваю.
– А что Самурай? Каждый сам за себя.
– Молчи, тварь! – Бросаюсь на нее, колочу по голове, по лицу, не разбирая. Первый раз в жизни бью человека! Ору: – Его же посадят!
Глазастая и Ромашка оттаскивают меня от Каланчи.
– Психичка ненормальная! – выкрикивает Каланча. – За что ты меня? Кошка вздрюченная!..
Снова бросаюсь на Каланчу, но Глазастая перехватывает меня, обвивает руками и прижимает к себе. Колочусь у нее в руках, потом почему-то успокаиваюсь. Чувствую тепло ее тела, чувствую, что я не одна.
– Продолжай, Каланча, – ухмыляясь, говорит Глазастая. – У тебя очень интересный ход мыслей.
– Ну, поставят нас на учет в милиции, – поддается на покупку Каланча. Волнуется, краснеет, глаза бегают, но свое продолжает: – Ну что нам сделают? Скажут, сами пришли, значит, осознали. Полагается снисхождение. Мы, что ли, разбили машину? Самурай разбил, пусть отвечает.
– Как по писаному читает, – говорит Ромашка, – точно заранее выучила.
– А что? – огрызается Каланча. – Мне своя шкура дорога, я в тюрягу не хочу.
– Ты все пролепетала? – с угрозой в голосе спрашивает Глазастая. – Хочешь меня иудой сделать? Я ведь должна не Самурая заложить, а Христа в себе продать… Вижу, ты про них, несчастная, ничего не знаешь. Да я под пыткой никого не выдам, а не то что сама побегу сознаваться. И тебе, Каланча, советую поступать так же!
А я сама в ту пору ничего ни про Иуду не знала, ни про Христа. Я и в церкви ни разу не была.
Мы все были антихристы. Вот что я скажу. И долго будем за это расплачиваться.
Вижу, Каланча насмерть пугается. Теперь ясно после слов Глазастой: она ни в жизнь сама не сознается.
Думаю, значит, все-таки придется мне.
Приближаюсь к ней, смотрю в упор – она почти лежит в кресле, ногу на ногу закидывает и верхней так дрыгает, что до моего подбородка достает. «Сейчас ты у меня подрыгаешь!» – думаю, а сама дрожу. По-прежнему смотрю на нее в упор.
Она старается спрятаться от моих глаз.
– Ты что на меня уставилась? – спрашивает. – Совсем чокнулась, кошка драная?
Ишь какая хитрющая, все сворачивает на мою любовь! Хватаю ее за дрыгающую ногу. Она вырывается.
– Еще раз бросишься, разукрашу – родной папа не узнает!
– И брошусь! – отвечаю. А у самой в голове шумит, во рту пересохло.
– Ну попробуй! – говорит.
– И попробую, – отвечаю. – Вставай! Я сидячих не бью!
Сама думаю: она не встанет, а она встает, хотя вижу: боится. Ее лицо ко мне приближается, на верхней губе у нее выступают мелкие капли пота, как росинки на траве; потом вижу: на носу веснушки. Раньше я их никогда не замечала. «Сейчас я ее уничтожу, – думаю, – пусть получит свое. Что заработала, то и получай!»
Кровь бросается мне в голову, руки сжимаются в кулаки, я готова заорать про нее всю правду и уничтожить! Но вдруг меня как током прошивает, пробивает насквозь как молнией. Что Каланча, когда я сама виновата больше ее – вот в чем дело. Если бы я не испугалась Куприянова и сразу ворвалась, она бы ничего ему не сказала! А я стояла в коридоре, дрожала, подслушивала, а не входила, не спасла ее от предательства!
И тут меня насквозь второй раз как током прошивает – какая же я подлянка! – да так прошивает, что я вскрикиваю от боли.
– Ты что? – спрашивает Глазастая.
– Ничего, – вру. – Ногу подвернула. – Наклоняюсь, щупаю ногу. Голова у меня кружится, и я падаю на пол.
Глазастая поднимает меня, смотрит, словно что-то понимает.
Вдруг, как из темноты, прорезается Ромашка:
– Революционному трибуналу все ясно… Надо дать этому шоферюге на лапу. Чтобы молчал.
– Ты думаешь, он возьмет? – спрашивает Глазастая.
Ромашка смеется:
– Посмотри вокруг, слепая подруга, открой глазки! Весь мир продается и покупается, всем нужна монета, а какой-то бедняк шоферюга откажется? Не такой он дурак… Вот дождемся Самурая и скажем ему: пусть действует, если не хочет загреметь.
– Ему и так плохо, – замечает Глазастая. – Нечего его совсем загонять в угол. Деньги надо достать самим и отдать Судакову.
«Ну, Глазастая, – думаю, – вот человек!» И тут же предлагаю:
– Я могу у Степаныча перехватить. Он поможет.
– А сколько надо? – спрашивает Каланча.
– Это вопрос, – замечает Глазастая. – Спросим у него.
– Держи карман шире! – возмущается Ромашка. – Он знаешь сколько заломит!.. Так дела не делаются. Назовем свою сумму… и поторгуемся. Надо ему кинуть куска три… Машина ведь вдребезги.
– В жизни не видела столько денег, – сознается Каланча. – Где их взять-то?
– Можно потрясти моих родителей, – спокойно предлагает Ромашка.
Мы очумело смотрим на нее.
– И они дадут? – радуюсь я.
– Ну ты дура! – хохочет Ромашка. – Они удавятся. Сами возьмем.
– А если твой папаша побежит в милицию? – спрашивает Каланча. – На нас еще и это повесят.
– Не побежит. Он всего боится! – ухмыляется Ромашка. – И потом, надо же нам как-то выкручиваться, раз влипли. Я, например, так же, как и Каланча, в тюрягу не хочу и даже на постоянную прописку в милицию не желаю. С какой стати мне светиться – у меня вся жизнь впереди.
– Значит, заметано? – спрашивает Глазастая.
– Заметано, – отвечает Ромашка.
Радуюсь: вдруг правда мы поможем Косте?…
А Каланча впадает в истерику, выскакивает из кресла, руками размахивает, тонким чужим голосом твердит:
– Не, не, не… без меня, – и хочет вообще слинять, отступает к двери, вот-вот бросится бежать. – Я не пойду ни в жизнь!
– Пойдешь, – твердо произносит Глазастая. – Все пойдем. Вместе машину брали, вместе и пойдем. Тут все поровну виноваты.
Каланча сникает, сгибается, стоя у стены, ломается пополам, руки болтаются ниже колен, глаза побитой бездомной собаки, голову втягивает в плечи, словно ждет, что ее ударят. Понимаю ее: она боится мента Куприянова, она же у него на крючке, и нас боится, особенно Глазастую. Подхожу, обнимаю как подругу, говорю:
– Да ладно тебе пугаться. Пойдем вместе. Никто не узнает.
– Завтра родители уезжают на дачу. И меня волокут. Так, часов в двенадцать, – горячо шепчет Ромашка. – Сегодня я уведу у матери ключи, пусть они думают, что это все из-за нее случилось, а ты, Глазастая, приходи за ними.
– Так быстро? – вырывается у меня, но я тут же замолкаю, чтобы не подумали, что я тоже пугаюсь.
– А что тянуть? – спрашивает Ромашка. – Только надо, чтобы вы наследили, ну, чтобы был настоящий грабеж. Деньги лежат в шкафу, в нижнем ящике, под бельем, в железной коробке.
13
Смотрю на часы: уже два, летит время, когда не надо. Костя в дороге, катит домой, считает себя счастливым, а я шурую с обедом, чтобы заглушить страх и тоску. Впереди – суд! Судаков пока помалкивает. А мент Куприянов держит Лизка за горло. Этот мент офигел: сторожит ее около работы, вылавливает утром, совсем как судья, только у того получается благородно, а у этого нет. Всякому ясно: он своего добьется или Костя сядет. Я подумала: сходить к жене Куприянова и все ей рассказать, но боюсь навредить Косте. Подумаешь обо всем – жить страшно! Да, голова кругом. Когда мы «брали» квартиру Ромашки, я сильно испугалась. По дороге думала все время о Косте, и было хорошо, радовалась, что мы без него все сделаем и он никогда об этом не узнает. Приятно было его спасать. А в квартире у Ромашки испугалась. Чужие вещи подействовали. Старый тяжелый буфет следил за мной разноцветными стеклами. Они были как живые глаза.
– Глазастая, – выдавливаю с трудом, – взяли и пошли.
Глазастая не отвечает, шарит в ящиках шкафа. А Каланча замечает за стеклами в буфете вино, глазами вращает, тоже боится, но тянется к бутылке, шепчет:
– Какая пузатенькая, я такой никогда не видела.
– Это ликер, – громко и отчетливо произносит Глазастая. – Он сладкий.
От громкого голоса Глазастой мы с Каланчой замираем. Я втягиваю голову в плечи, жду чего-то невероятного. Но прихожу в себя от обыкновенных слов Каланчи:
– Надо попробовать.
Открываю глаза, вижу, Каланча берет пузатенькую. Я вцепилась и не даю.
– Отстань! – кричит она. – Ромашка велела наследить! Вот я и слежу! – Вырывает бутылку, выпивает большой глоток. Улыбается: – Вкусно! – Облизывает губы. – Девчонки, пробуйте!
Мы с Глазастой не хотим. Я не двигаюсь с места, а Глазастой не до того: она нервно шурует в шкафу.

Вижу ее руки, пальцы тонкие, с маникюром, на одном колечко горит с маленьким камушком, а когда она поднимает руки вверх, то пальцы у нее заметно дрожат.
Перехватываю ее взгляд, чувствую, на губах появляется моя улыбочка, спрашиваю неизвестно зачем:
– Тебе страшно?
Она режет в ответ, сердится на меня:
– Не страшно… Противно. Суки, перепрятали, что ли, деньги?
– Ты не там ищешь, – вспоминаю. – Ромашка же сказала: в нижнем ящике.
Глазастая чертыхается. Теперь окончательно ясно, что она тоже боится, только делает вид.
– Дуры, что не хотите выпить, – говорит Каланча.
Она напивается, хохочет. Выливает вино на ковер, а он у них красивый – картинка, белый с синими разводами, и вино растекается бурым пятном. Тут я кричу, сама не знаю почему:
– Что ты наделала?
А она хохочет, кричит:
– Круши буржуев! – И как грохнет об пол вазу с цветами.
Мне плохо, голова кружится.
– Тихо! – командует Глазастая. Достает из-под белья железную коробку, обмотанную клейкой лентой. Коробка старая, на ней нарисована девушка в кружевном платье до полу и в чепце. И что-то иностранными буквами написано. Глазастая срывает ленту с коробки, открывает ее – а там денег доверху, одними сотенными.
Балдеем. Переглядываемся.
– Тут много, – говорю. – Давай отсчитаем три тысячи, а остальные обратно.
– Тогда они сразу узнают про Ромашку, – срезает Глазастая.
– Так ведь больше лучше, чем меньше, – шепчет Каланча. – Глаза у нее вспыхивают, огоньки внутри загораются. Смеется. – Три шоферу, остальные нам!
Глазастая не отвечает, молча снимает рюкзак – запасливая какая, с рюкзаком приходит, – набивает туда деньги, закидывает за спину и говорит:
– Я выхожу первая. Ты, Каланча, за мной. И перестань хихикать! – Берет ее за плечи и встряхивает. – А ты, Зойка, последняя. Ключи пусть так и лежат на видном месте.
Смотрю: ключи лежат на столе – один длинный и два коротких. «На три замка запираются сразу, – думаю, – а все равно не убереглись. Родная дочь подставляет», – мелькает в голове.
– Зойка, тебе говорят! Ты что не слушаешь? – дергает меня Глазастая.
Подымаю глаза на нее в упор. Она почему-то резко отворачивается, цедит: «Двери не запирай – прикрой, и все. Встретимся завтра. Сегодня меня не ищите». Поворачивается и уходит, поддергивая рюкзак, набитый деньгами.
Рюкзачок смешной, на нем аппликация медведя, я его еще по школе помню. Вспоминаю это и чуть не плачу.
Потом выходит Каланча. Пьяная она, надралась сладенького, цепляется за что-то в коридоре, чуть не падает. Слышу, еще лифт, стерва, вызывает.
А я как во сне плаваю, будто я где-то далеко, а тело мое тут. Приседаю на край стула, забываю, что надо отсюда мотать. Сижу, застывшая, и сижу. Слышу, кто-то входит, а не пугаюсь. Спокойно так думаю: милиция или соседи, пусть меня схватят, и делу конец. Загремим на пару с Костей. А девчонок я все равно не выдам, возьму всю вину на себя. Поворачиваю голову к двери – и жду.
Вырастает Каланча. Удивленно смотрит, спрашивает:
– Ты что уселась?… Совсем чокнулась.
Хочу ей ответить, но язык не слушается. Она хватает меня за руку и вытягивает из квартиры.
На следующий день продолжение. Ждем Глазастую.
– У нас дома бедлам, – весело сообщает Ромашка. – Отец мамашу стукнул. Та ревет. Не понимает, кто у нее ключи свистнул. Всю ночь они не спали, что-то там перекладывали, пересчитывали. А сегодня новые замки ставят. Мать говорит: «Я тебя давно просила: поставь квартиру под охрану милиции». А он: «Нашла придурка. На милицию ставить – все равно что голову в петлю сунуть».
– А ты чего радуешься? – спрашиваю Ромашку.
Она молчит, потом отвечает:
– Мое личное дело.
Сидим ждем Глазастую, а ее все нет и нет.
– А может, она взяла деньги – и с концами? – спрашивает Каланча.
Тут как раз раздается звонок, мы все трое, не сговариваясь, бросаемся к двери.
Глазастая спокойная, красивая, даже больше, чем всегда. Разодетая в пух и прах, в широкой кожаной куртке с плечами, в длинной юбке, с подмазанными глазами. Картинка!
– А деньги где? – нетерпеливо спрашивает Ромашка.
– Деньги… в одном месте, – отвечает Глазастая. – Не буду же я их с собой таскать?
Мы с Каланчой при сем присутствуем, в разговор не влезаем.
– А сколько там всего, пересчитала? – небрежно роняет Ромашка, словно проверяет Глазастую.
– Пересчитала, – говорит Глазастая и, как нарочно, замолкает.
– Ну?! – не выдерживает Ромашка.
– Десять тысяч, – произносит наконец Глазастая.
Ромашка облегченно вздыхает, и я вдруг понимаю почему: все в норме. Глазастая ее не обманула.
– Десять?! – балдеет Каланча. Она застывает с открытым ртом вроде меня.
– Каланча, закрой варежку! – хохочу. – А то плюну!
– Иди ты! – Она отмахивается, я ей мешаю.
– А почему ты их не принесла? – спрашивает Ромашка. – Шоферские могла оставить, а остальные надо было принести.
– Вот именно! – подхватывает Каланча. – Не зря же мы их брали.
Глазастая молчит. Ромашке это не нравится.
– Они ведь не твои, а мои! – с вызовом говорит Ромашка. – Так что поехали за ними! – Встает. – Я бы их поделила между нами.
Каланча тоже нетерпеливо вскакивает, предложение Ромашки ей очень нравится.
– Не поделишь! – отрезает Глазастая. – Не твои это деньги, и не мечтай!
Тут я качаюсь, чуть не падаю – ничего себе пирожки!
– А чьи же, позвольте узнать? – ехидничает Ромашка, но сама как-то уже не в себе.
– Трудно ответить. – Все стоят вокруг Глазастой, но она продолжает сидеть. – Вроде бы ничьи… Пока. Их можно приспособить… Например, отдать в детский дом, где счастливые радостные дети, окруженные заботой своих воспитателей, ни разу не ели досыта! И устроить им обжираловку! Представляете, сколько детей можно накормить за семь тысяч?
– Чего-чего?! – Ромашка бледнеет. Глаза от злости узкие, неприятные. – С какой стати?! Пусть на них государство жертвует! Ишь ты, добренькая за чужой счет! Кради у своего папаши и жертвуй! Девчонки, как вам это нравится? – Она ищет у нас поддержки.
– Мне лично не нравится! – кричит Каланча.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































