Текст книги "Чучело-2, или Игра мотыльков"
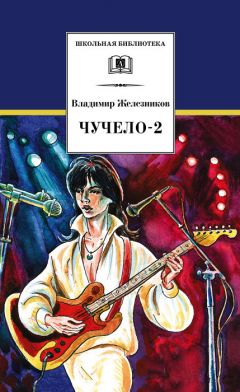
Автор книги: Владимир Железников
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
А я молчу: я на стороне Глазастой.
– Пошли! – требует Ромашка. Хватает Глазастую за рукав куртки и тянет в неистовстве на себя.
– Вещички не рвать! – цедит Глазастая и отталкивает Ромашку ногой.
Та отлетает в угол. Вскакивает, вопит:
– Отдай, стерва, мои деньги! – Захлебывается в словах. Конечно, ей обидно. – Скажи спасибо, что я вам три куска отвалила за ваши вонючие шкуры! Мне спасаться не надо, не я соучастница угона, а ты! Ты увидела тачку с ключом! Ты!.. И сказала Самураю!
«Вот как она поет! – думаю я. – Вроде Каланчи!» Мне бы тоже закричать на Ромашку, заорать: «Что ты, подлюга, из-за денег давишься?!» – А я молчу. Смотрю на Глазастую, как на спасительницу, а сама молчу и дрожу.
Ромашка подступает к Глазастой – вот-вот кинется на нее, но в последний момент останавливается, драться не решается. Глазастая сильная, гимнастикой занимается.
– Ты мои деньги выложишь! – с угрозой говорит Ромашка. – Выложишь… или подавишься ими! Я тебя заложу, себя не пожалею!
– Забудь, подруга! Денег ты не получишь, – спокойно отвечает Глазастая. Ее не одолеешь, она невозмутимая, сбою не дает. – А заложишь – тебе же хуже.
Ромашка поворачивается и убегает. Хлопает дверью изо всех сил. А что ей остается делать?
Наступает тишина. Ее нарушает Каланча.
– Пойти, что ли, за Ромашкой? – спрашивает.
– Иди, – соглашается Глазастая. – Ее не надо оставлять одну.
Каланча быстро уходит. Ей, видно, охота к Ромашке, чтобы все обсудить.
– Ромашку я не боюсь, как ты понимаешь. Никого она не заложит. Себя сильно любит. Каланчу я нарочно отправила, чтобы не отсвечивала. А деньги при мне. – Глазастая скидывает куртку, а под нею рюкзачок с деньгами. – Теперь вопрос: как передать их Судакову? А потом решим, что делать с остальными.
– А как же насчет детдома? Ты же говорила, отдадим детдомовцам.
– Говорила… А вдруг отец Ромашки их не украл, а вдруг они честно заработанные?
– Но Ромашка же сама рассказывала про отца.
– Ромашка что хочешь наплетет, если ей выгодно. Она же заранее знала, что там десять, а не три.
Значит, заранее придумала, чтобы мы их взяли. Спрашивается – для чего? Для себя, конечно. Смотрю на нее в ужасе, говорю:
– А если они честно заработанные, значит, мы – воры!
Глазастая не отвечает, сама, видно, про это думает.
– Поживем – увидим, а пока я предлагаю написать Судакову письмо. Текст я придумала. Слушай… – И произносит с выражением: – «Вот тебе дармовые деньги, халява, и молчи на суде, а то тебе хана!..»
Глазастая ждет моего ответа. Она смотрит на меня, а я молчу.
– Ты не грызи ногти – отвечай! – требует Глазастая.
А я не знаю, что ей ответить. У меня наступает предел: как я узнала, что мы воры, так и рухнула – ничего не соображаю.
– Если передать ему из рук в руки, – продолжает она, – он увидит нас, перестанет бояться, подумает – девчонки. А его надо запугать, чтобы понял: положение у него безвыходное. С этой шушерой, со стариками, по-другому нельзя. Они привыкли бояться. Пусть дрожит за свою шкуру, тогда нас не заложит. Ты пойми, лягушонок, – она обнимает меня, чувствую ее теплую руку на плече, – мы в этом мире одни, не спасем сами себя – никто нам не поможет.
Вижу, она крепко сжимает зубы, под кожей у нее обозначаются скулы, лицо делается каменным. Берет рюкзак, открывает, отсчитывает три тысячи.
– А остальное, – говорит, – спрячь. – И отдает мне рюкзак с деньгами.
Совсем пугаюсь.
– А куда же я его спрячу?
– Ну хоть в шкаф. Они же у вас никому не нужны.
Беру рюкзак, засовываю его в шкаф под постельное белье.
– Пойдешь со мной на это дело? – спрашивает Глазастая.
– Пойду, – отвечаю.
– Ну и хорошо. Не откладываем в долгий ящик. Завтра все сообразим. Он выходит на работу в восемь. Я проследила.
– Кто – он? – не соображаю.
– Судаков… Ну шофер, – спокойно объясняет Глазастая. – Приходи в половину… Жди меня на углу Песчаной. – Улыбается. – И рванем.
Киваю. Она надевает куртку, набивает карманы деньгами, неожиданно обнимает меня и целует. Потом уходит. А я долго стою у окна, смотрю, как она идет по двору, и пальцами держу то место на щеке, которое она поцеловала.
Думаю: «Никто меня не целовал лет десять».
Утром стою на углу Песчаной. Прихожу раньше времени. Всю ночь не спала, боялась: вдруг деньги из шкафа исчезнут. Ночью встаю, кладу рюкзак с деньгами себе под подушку. Жестко стало, не сплю, в голове: воры мы, воры!
Трясет и тошнит – от страха перед встречей с Судаковым, от ужаса наших дел, от сырого тяжелого воздуха, в котором перемешался туман и заводская грязь. Вдруг солнце прорвалось, муть заиграла – и стало красиво. «Может, жить можно, – думаю, – может, еще не все пропало?»
Жду. Вдруг какой-то мотоциклист пролетает мимо меня, разворачивается и останавливается рядом. Вот, думаю, нелегкая принесла. Смотрю – ну и страшилище. На черном шлеме вокруг глаз сделаны широкие зеленые обводки, а вокруг рта – красные. Топчусь на месте – скорее бы Глазастая пришла. Прохожу чуть вперед, чтобы оторваться от него, слышу, катит за мной. Снова оглядываюсь, чтобы крикнуть ему: «Не приставай и вали своей дорогой!» А он зелеными глазами вращает, чувствую: гипнотизирует. Отхожу еще дальше, ноги у меня уже заплетаются. Слышу: «Зойка-а!» Оглядываюсь: мотоциклист снимает шлем, а это – Глазастая! Смеюсь, отлегает от сердца: любимая подруга на месте.
– Испугалась? – спрашивает, сама улыбается, я ее такой веселой никогда не видела. Киваю. – Я эти обводки сама нарисовала, чтобы ему страшнее было.
Ему – это Судакову.
– Ну ты даешь! – говорю. – Я и не знала, что у тебя мотоцикл.
– У знакомого напрокат взяла, – отвечает. – Вот тебе шлем. – Снимает с пояса второй шлем, он тоже разрисован. – Под ним тебя никто не узнает.
Я подставляю ей голову, мне весело с подругой, забываю, зачем мы сюда пришли. Она надевает мне на голову шлем, застегивает ремешок, пальцы у нее ледяные, когда она дотрагивается до моего горла. Хихикаю. Но мне приятно, что она за мной ухаживает.
– Теперь садись сзади, – приказывает и протягивает тугой сверток. – Здесь все… Письмо и… – Недоговаривает. Нам обеим все понятно, а осторожность не мешает, потому что мимо нас то туда, то сюда снуют прохожие. – Работаем так… Видим, он выходит из дома. Дом его на той стороне. Летим на скорости по нашей стороне, сравниваемся с ним, пересекаем дорогу, влетаем ему на тротуар, он видит нас, балдеет, ты ему суешь сверток. Без слов, молча. И мы исчезаем! На всякий случай я замазала номер на мотоцикле грязью, чтобы он его не запомнил. Только сверток не вырони.
– Не выроню. – Прижимаю сверток изо всех сил к себе.
– Если засыпемся, – привычно цедит Глазастая, – ты ничего не знаешь, я тебя попросила помочь, а что и зачем – ты не в курсе.
Смотрю на нее как дура, киваю.
– Видишь его дом? – показывает рукой. – Номер семь. Трехэтажный с одним подъездом. Видишь?
– Вижу, – отвечаю, хотя ничего не вижу: у меня козырек шлема все время сползает на лоб. Шлем мне велик, но я боюсь об этом сказать Глазастой, а то сорву операцию.
Сидим ждем, я на боевой изготовке: правой рукой держу сверток, левой – козырек шлема, чтобы он не сползал. Думаю: «По улице ходят люди, а мы должны влететь на тротуар… А если собьем кого-нибудь? Или пойдет встречный транспорт, когда мы будем пересекать улицу?» Думаю про себя, чтобы не пугать Глазастую. Опускаю левую руку, козырек падает – улица исчезает, слышу только ее шум. Снова держу козырек, рука тяжелеет, затекает. Время идет медленно, хочу посмотреть на часы, отрываю руку от козырька, он падает, время разглядеть не успеваю. Шепчу в спину Глазастой:
– Сколько осталось?
Та отвечает, не поворачивая головы, сквозь зубы:
– Минута… Приготовились!
Чувствую, как напрягается ее спина. Она включает мотор. Начинается. Мотоцикл дрожит. Глазастая еще подгазовывает, дрожь передается всему телу. Хватаюсь за Глазастую левой рукой, козырек падает, ничего не вижу.
– Черт! – слышу Глазастую. – Он не один!
Лихорадочно поднимаю козырек, вижу Судакова с двумя мальчишками. Вспоминаю: у него же два сына! Каждый держит его за руку. Пугаюсь: как же я буду отдавать ему сверток, когда у него обе руки заняты? Хочу сказать об этом Глазастой, но наш мотоцикл отчаянно ревет и летит вперед. Я резко заваливаюсь набок, хватаюсь обеими руками за Глазастую, чтобы удержаться на сиденье – козырек падает, теперь я опять ничего не вижу, но, хотя я и ослепшая, соображаю, что выронила сверток!
– Стой! Стой! – ору, стучу по спине Глазастой. Она тормозит. – Сверток! – ору, спрыгиваю на дорогу и бросаюсь обратно.
Вижу, какой-то мальчишка вырывается от матери, подхватывает сверток и несет мне. Подбегает, видит мой разрисованный шлем, бросает сверток – и наутек. Поднимаю сверток, бегу обратно к Глазастой. А Судаков маячит впереди, приближается к трамвайной остановке. Понимаю: надо торопиться. Сажусь, хватаюсь за Глазастую, козырек падает, еду как в танке. Мотоцикл ревет, срываясь с места, летит почти по воздуху. Совсем ничего не соображаю, думаю: «Главное, не упасть и не выронить сверток!»
Мотоцикл словно одолевает препятствие и резко останавливается. Глазастая бьет меня локтем в бок, выхватывает у меня сверток. Какое-то время, еще не понимая, что происходит, я пытаюсь удержать сверток и не отдаю ей. Но она все же вырывает. Поднимаю козырек. Вижу: мы стоим на тротуаре перед растерянным Судаковым, его сыновья что-то орут и тыкают в нас пальцами, а он сам держит наш сверток.

В следующую секунду мотоцикл снова рвет с места, и снова весь мир для меня пропадает, я держусь за Глазастую двумя руками, чтобы не упасть.
Глазастая останавливается около моего дома, снимает с меня шлем, вешает его себе на пояс. Я стою, низко опустив голову. «Ну, – думаю, – сейчас она мне врежет!»
– Завтра в три, – говорит, – у тебя. Передай Каланче и Ромашке.
– Думаешь, Ромашка придет после вчерашнего?
– Придет. А куда она денется? Деньги-то у нас. – Погазовала, махнула рукой и уехала.
И ни слова о том, как я чуть все не испортила. На следующий день сижу жду девчонок. Настроение получше: все-таки отдали деньги Судаку, Костику это на пользу. У меня теперь из-за Костиных дел напряженка, я взвинченная, моторная. И девчонок жду с тяжелым сердцем. Ромашка опять будет собачиться из-за денег – дались они ей! Господи, когда это все кончится?
Звонок в дверь, бросаюсь открывать, от нервности никак не могу отпереть замок. Воплю: «Девчонки, счас!» Толкаю дверь, а передо мной, вместо Каланчи и Ромашки, – Попугай собственной персоной. Балдею. Он улыбается, а я нет. Думаю: «Что еще случилось?» Этот неспроста пожаловал.
– Не ожидала? – спрашивает. – В комнату можно пройти?
– Проходите, – отвечаю. Наперед знаю, что он от Судакова, но спрашиваю: – Что случилось?
Про себя думаю: «Если будет еще требовать денег, не дам».
Он усаживается, оглядывается:
– Ты одна?
– Одна, – отвечаю.
– Ну, тогда можно к делу.
Лезет в карман и достает оттуда наш сверток, тот самый, который мы вчера утром с Глазастой отдали Судакову.
«Ну, – думаю, – дела!» А сама смотрю на сверток, точно вижу его впервые. Делаю круглые глаза.
– Узнаёшь? – спрашивает.
– Что – узнаю? – продолжаю прикидываться.
– Вижу, что узнаёшь… Поэтому буду краток. – Он разворачивает сверток, передо мной рассыпаются сотенные бумажки. – Судаков возвращает вам деньги. Сказал, что и без денег не собирается выдавать Самурая. Так что принимай деньги обратно и дай мне в этом расписку.
– Какие деньги, какую расписку? Не понимаю. – И отталкиваю деньги от себя. В голове путаница, не знаю, как поступить, помню только, что Глазастая велела мне от всего отказываться.
– Ну, если деньги не твои, – говорит Попугай, – то адью! – Сгребает сотенные и встает.
– Нет, – говорю, – не уходите. Может, деньги и не мои, но я знаю чьи.
– А чьи? – спрашивает.
– Чьи – не скажу! Но передать их хозяину могу.
– А расписку напишешь?
– Напишу, – говорю. Про себя думаю: «Господи, хоть бы девчонки пришли!» – Только я никогда расписок не писала.
– Это дело поправимое, – говорит, – тащи бумагу и ручку.
Притаскиваю тетрадь, сажусь, жду. Он диктует:
– «Я, Смирнова, подтверждаю настоящим заявлением…» Ты пиши, пиши, – торопит он.
– А я пишу, – отвечаю, а сама медленно вывожу буквы и все думаю: «Где же они?»
Он продолжает диктовать:
– «…что Федоров Петр Егорович вернул мне три тысячи рублей по поручению гражданина Судакова. В чем и расписываюсь – 3. Смирнова».
Он вырывает листок, читает его, потом заставляет меня расписаться и прячет мою расписку в карман. Я начинаю собирать деньги, но он меня останавливает.
– Подожди, – говорит, – я пересчитаю их на твоих глазах. Деньги любят счет.
Попугай пересчитывает деньги медленно, а я его не тороплю. «Пусть, – думаю, – считает». Отсчитывает одну тысячу, я тоже с ним вместе считаю, подвигает ко мне, потом так же вторую, а третью пересчитывает и прячет себе в карман.
– Вы что?! – ору. – Берете чужие деньги?!
– За тяжелую работу, – говорит. – И за молчание. По вашей вине я стал соучастником. Вот за это я и беру. Скажи спасибо, что мало. Нынче что это за деньги? А я своей репутацией рискую.
– А расписку?! – ору. – Я вам дала расписку на три тысячи! Верните, – говорю, – мою расписку.
– Так я же тебе принес три тысячи, – нахально отвечает. – А тысячу ты мне отдала за работу. Вот так. – И идет к двери.
Я цепляюсь за него, падаю, волочусь по полу, кричу:
– Подождите, так нельзя! Деньги чужие! Мы же не воры!
А он отрывается, отпихивается, пинает меня ногой, открывает дверь и исчезает.
Плюхаюсь на пол около двери, совсем очумелая. Заткнуть бы уши, завязать глаза и спрятаться под кровать, чтобы никто не нашел. Плачу. Потом вдруг думаю: «А чего я плачу?…» Забываю, что произошло, помню, что-то случилось, а что – не вспоминается. Голова тяжелая, еле ее удерживаю, и спать охота. Тут раздается звонок. Встаю, открываю – передо мной Глазастая, да не одна, а с Джимми. Он прыгает на меня, визжит от радости, тыкается в щеку холодным носом и облизывает. Язык у него влажный, мягкий. Хохочу, обнимаю его. И вдруг меня прошибает, вспоминаю все.
– Глазастая! – ору в ужасе.
– Что случилось?!
Язык у меня заплетается, буквы наскакивают одна на другую, получается абракадабра.
– Попуукрты…
Глазастая пялится на меня, ни черта не просекает.
– Тихо, тихо, – просит ласково. – Говори медленно… По слогам. Ты же у меня умная, хорошая.
Смотрю на нее, но не могу выдавить ни слова.
– Ну давай. – Глазастая обнимает меня. – Ну давай, ты же умеешь по слогам.
– По-пу-гай… у-крал… у нас… ты-ся-чу рублей! – Эти слова доходят до меня, и я продолжаю по слогам, все рассказываю Глазастой.
Она молчит, смотрит куда-то в сторону и молчит.
– Ты почему не удивляешься? – спрашиваю.
– А я готова к любой подлости, – отвечает. – Меня не удивишь. – Потом цедит: – Подонок отпетый! Козел пьяный!.. – Обрыв. Она снова замолкает. Губы крепко сжаты, глаза колючие, приказывает: – Джимми!
И мы вылетаем. Улица у нас тупиковая, дом стоит последним, так что Попугая нам легко догнать. Бежим втроем – Глазастая первая, за нею Джимми, потом я. От бега мне делается жарко, и я снова становлюсь нормальной, как все. Мне не страшно, я прикрыта Глазастой, плевать я хотела на Попугая. «Попугай – мразь, подонок! – шепчу. – Козел двуногий!» Чувствую, что зверею, готова на драку.
Скоро мы его замечаем. Идет, между прочим, не спеша, вразвалочку. Совесть, видно, не беспокоит. Не знаю, что там Глазастая придумала, но только, когда я рву вперед, чтобы налететь на Попугая, перехватывает меня – потише, мол.
– А почему? – не понимаю.
– Народу много, – отвечает. – Надо переждать.
Правда, народу вокруг полно, а я и не подумала об этом.
Попугай по-прежнему маячит впереди. Он доволен собой, по спине видно – упивается. Наверняка о выпивке мечтает на чужие денежки, гад! Идем, идем… По одной улице, по другой… Жмемся к стене, дышать боимся, чтобы не засветиться.
Попугай сворачивает в сквер. И мы туда. Оглядываюсь – пусто. Ни одной фигуры не видно. Ну, думаю, пора действовать.
– Глазастая, – говорю шепотом, – рвем?…
Она не отвечает, неожиданно приказывает:
– Джимми, ко мне! – Берет его за ошейник. А потом как закричит чужим, страшным голосом: – Фас, Джимми! Взять! – И толкает его на Попугая.
Все происходит в одну секунду, я даже ни о чем подумать не успеваю. Джимми мелькает у меня перед глазами, взвивается в воздух и тяжелой тушей обрушивается на спину Попугая. Тот падает на живот, видит страшный оскал Джимми, закрывает голову руками. Он не кричит – видно, от страха теряет голос, а только как-то жалобно стонет.

Глазастая оттаскивает собаку. Та упирается, приседает на задние лапы, рычит, скалит пасть.
Попугай садится, нас он не узнает, не понимает, кто мы, кричит:
– Я в милицию заявлю! Я с вас три шкуры спущу! Вашу собаку прирежу, на шапки, в розницу!
– Хватит придуриваться! – обрывает его Глазастая. – Ослеп, что ли?
Попугай пялится на нас, выкатывает глаза, но, видно, плохо соображает.
– Не узнаёшь? – Глазастая улыбается. – Это Сумарокова.
Попугай приходит в себя:
– Сумарокова? – Переводит взгляд на меня. – И Смирнова.
– Вот именно! – цедит Глазастая. – Гони монету!
Попугай молча встает, отряхивается, стоит к нам спиной, потом резко поворачивается к нам и показывает фигу.
– Монету им отдай, чего захотели! – Его худая долговязая фигура изгибается в нашу сторону. – На-ка, выкуси, выкуси! Вот вам, в морду, в морду! – Он тыкает в нас фигой, медленно отступает и ругается матерными словами, обзывая нас: – Курвы-ы! На человека зверя натравливать! Как в концлагере! Фашистки!..
– Это ты человек? – обрывает Глазастая. – Сейчас я захлебнусь от восторга.
Джимми оглушительно лает, вырываясь.
– Даю минуту на раздумье, – говорит Глазастая, – и спускаю собаку.
У меня начинают дрожать ноги, и я шепчу Глазастой, чтобы Попугай не услышал:
– Глазастая, не надо! Глазастая, не надо! Вдруг Джимми загрызет Попугая.
Вижу, Попугай озирается кругом: позвать на помощь некого, и все-таки он в отчаянии бросается наутек. Бегать он не умеет, но бежит – так ему неохота отдавать деньги.
– Глазастая, не надо! – кричу я.
Но она меня не слышит и спускает Джимми.
Джимми бросается вперед, сбивает Попугая, и они начинают кататься по земле, и Попугай вопит: «А-а-а!» Я как ненормальная лечу следом, подскакиваю к ним, хватаю Джимми за шею и хочу его оттянуть от Попугая и не могу, ору: «Глазастая!» – хотя она уже рядом и мы вместе держим Джимми, а Попугай отползает чуть в сторону.
– Ну?! – подстегивает Глазастая Попугая.
– На! – вопит он. – Подавитесь, б… ди! – И швыряет нам деньги.
Они рассыпаются по траве.
– Стой! Не уходи! – приказывает ему Глазастая. – Зойка, пересчитай деньги.
Ползаю по траве, собираю эти проклятые деньги, я их теперь ненавижу, пересчитываю, сбиваюсь со счету, смотрю в растерянности на Глазастую, почему-то реву.
– Не реви, – орет, – пересчитай еще раз!
Снова пересчитываю, все в норме, свертываю деньги, рассовываю по карманам.
Мы поворачиваемся и уходим. Он что-то бешеное кричит нам вслед, но мы уже не разбираем слов. До дома идем молча. Джимми тоже устал, понуро трусит рядом. Еще издали вижу Каланчу. Ее голова торчит над всеми прохожими. Потом замечаю и Ромашку. Значит, пришла, несмотря на вчерашний скандал. Они ждут нас, ничего не ведая. Мы не виделись всего один день, а сколько произошло.
Подходим в напряженке. Джимми радостно бросается к девчонкам, но Ромашка отпихивает его. Губы у нее накрашены помадой, в ушах сережки с камушками, дорогие, материны. Солнце в них играет желтыми и синими огоньками. Она смотрит мимо нас, ни ответа нам, ни привета. Вот, мол, я такая гордая, знайте: ничего я не прощаю.
А Каланча машет нам ручкой:
– Мяу!
«Тоже мне, кошка! – думаю. – Научилась у Ромашки!»
Глазастая проходит вперед, мы молча идем за нею. Чувствую: Ромашка ненавидит ее, вцепилась бы ей в шею своими острыми зубками и укусила бы до крови, если бы решилась. От нее веет холодом и злостью.
Входим в квартиру. Располагаемся. Глазастая говорит:
– Зойка!.. Расскажи по порядку! Чтобы им все было понятно, как в азбуке, от «А» до «Я»! – Смотрит на них и улыбается.
Вот, думаю, выдержка. Следую ее примеру, спокойно рассказываю про мотоцикл, про то, как мы отдавали деньги Судакову и как я сверток с деньгами уронила.
– Ну ты шляпа! – вздыхает Каланча. – Их же могли увести… Любой прохожий…
– Не увели, – обрываю, вспоминаю про ее штучки с Куприяновым, вставляю ей фитиль: – Тебя же там не было.
Она нисколько не обижается, хохочет:
– Я бы не прозевала, я бы у тебя их из-под носа увела!
Злюсь, но не обращаю на нее внимания, продолжаю клеить в красках про Попугая. Они в отпаде – от Попугая никто такой прыти не ожидал. Потом выгребаю тысячу из карманов и бросаю на стол.
– А остальные? – спрашивает Ромашка, не глядя на Глазастую.
– Все тут, – говорит Глазастая. – Зойка, верни всю монету хозяйке! Мы же не воры. Взяли для общего дела. Не нужны – возвращаем.
Каланча и Ромашка молчат. Лица у них настороженные, ждут подвоха. Кажется, будет драчка. Иду за деньгами. Интересно, что Глазастая будет делать. Неужели отдаст всю монету Ромашке? Приношу ее рюкзак с семью тысячами и сверток Судакова с двумя. Смотрю на деньги. Думаю: «Может, правда, лучше их отдать Ромашке и забыть про все? А дальше ее дела».
Глазастая открывает рюкзак, мы следим за нею, всовывает туда остальные деньги, задраивает его, протягивает Ромашке. И вдруг говорит:
– Вернешь родителям!
Ее слова – как взрыв бомбы, а потом тишина. Каланча сидит с открытым ртом. Ромашка балдеет, по лицу красные пятна идут. Ну а я радуюсь, я в отпаде, это новый поворот, Глазастая – умница!
– Ну дела-а! – хохочет Ромашка. – А что я им скажу?
– Да, что она им скажет? – подхватывает подпевала Каланча.
– Отец прибьет, – мрачно добавляет Ромашка.
– Не прибьет, – успокаивает ее Глазастая. – Ты же говорила, он тебя обожает.
– Обожает? – нервно переспрашивает Ромашка. Крашеные губки расползаются в ухмылке. – Может быть, только очень индивидуально, по-своему: сначала деньги, потом меня. Он из-за них кого хочешь удушит.
– А я верила, – признается Глазастая, – думала, ты у него на голове сидишь.
Ромашка не отвечает, глаза сухие, но слова произнести не может – видно, боится сорваться.
– Ну а мать? – спрашивает Глазастая.
– А-а, она всегда за него… Курица.
Теперь уже и Глазастая молчит. И я тоже молчу – а что тут скажешь, если такая неожиданность.
– Родители… – вздыхает Каланча. – С ними не заскучаешь. Всяк по-своему хорош. Моя, например, вчера хотела подложить меня под своего хахаля… Коньячком угощали… А я коньячок выпила, а им крутанула динамо.
– Как – подложить? – не понимаю. Мутит почему-то…
– Замолчи, Каланча! – цедит Глазастая.
Вскакиваю, убегаю. Пью воду, зубы стучат о стакан. Слышу:
– Берите по куску, – предлагает Ромашка. – Остальное – мое дело.
– Деньги надо вернуть, – отвечает Глазастая. Спокойно так отвечает, без нерва. – Ты на меня не сердись, но так лучше будет.
– Катись ты в задницу! – срывается Ромашка. – Надоело!.. Пошли, Каланча!
Слышу: из комнаты доносится шум, двигают стулья, раздаются торопливые шаги.
– Уйди с дороги, Глазастая! – говорит Ромашка.
После этого наступает тишина. Прислушиваюсь, но все молчат. Потом голос Глазастой – медленный, тянучий, неохотный:
– Отдай деньги и вали на все четыре!
– Уйди! – В голосе Ромашки угроза. – По-хорошему прошу. В последний раз…
И снова тянет Глазастая, точно она слова произносит через силу:
– Ты же знаешь меня, Ромашка, я не отступлю.
– Бей ее, Каланча! – вдруг орет Ромашка.
Что-то там падает, кто-то вопит, и сквозь весь этот шум прорывается безумный голос Глазастой.
Она наконец-то просыпается:
– Фас, Джимми! Возьми их!
Пугаюсь, думаю: «Джимми порвет девчонок!» Не помня себя, врываюсь как сумасшедшая.
Все молчат, стоят как завороженные. И я теперь их различаю и догадываюсь, почему Ромашка и Каланча такие застывшие, – они боятся Джимми! Ищу его глазами: вижу – лежит в углу, морда между лапами, весь пришибленный, виноватый, бьет хвостом по полу. Смеюсь, понимаю: он и не собирается выполнять приказ своей хозяйки. Смотрю на Глазастую, и тут мне делается страшно, тут я понимаю, почему Ромашка и Каланча такие застывшие. В вытянутой руке Глазастой финка!
Смотрю на финку, оторваться не могу. Красивая финка, автомат, лезвие длинное, узкое, кончик ножа тонкий, как игла. Иду к Глазастой, финка меня притягивает, оказываюсь между нею и девчонками. Те пользуются этим, рвут к выходу.
Глазастая отшвыривает меня и снова встает у них на дороге, рука с финкой упирается в Ромашкину грудь.
Ромашка ухмыляется: хватит, мол, дурака валять. У меня тоже губы сами собой растягиваются в улыбку. Вот-вот мы все начнем хохотать.
Но Глазастая отступает, проводит лезвием по своей ладони, делает ладонь лодочкой, и сразу вся эта лодочка наполняется кровью.
– Ты что?! – ору.
– Себя не жалею, – говорит Глазастая. Она вытирает окровавленную ладонь о джинсы, оставляя на них темный след. – И тебя, Ромашка, не пожалею.
– Бешеная стерва! – выдавливает Ромашка. – На, подавись! – Швыряет Глазастой рюкзак с деньгами. – Умыла ты меня!
После этого Глазастая отступает в сторону, не пряча финки, и Ромашка с Каланчой уходят.
Нож щелкает, лезвие скользит внутрь рукоятки.
Хватаю Глазастую за руку:
– Покажи!
Она нехотя открывает ладонь. Разрез у нее глубокий, пересекает ладонь надвое.
– Что же ты наделала, дуреха? – вырывается у меня. Тут же пугаюсь, что обозвала Глазастую «дурехой», думаю: «Сейчас она мне врежет!»
Но она ничего, смотрит печально, цедит:
– Чепуха.
Бегу на кухню, хватаю йод и бинт, лечу в комнату, выливаю йод на рану. Глазастая ревет благим матом, прыгает от боли чуть ли не до потолка. Потом я ей туго перебинтовываю руку.
– Порядок, – говорит. – Пошли. У нас нет времени. – Закидывает рюкзачок с деньгами на плечо.
Мы идем на дело – отдавать деньги. Джимми вроде меня плетется понуро. Ему, как и мне, неохота идти. Но Глазастая решила, а я ей подчиняюсь. С другой стороны, не бросишь ведь ее одну? Мы идем к Ромашкиному отцу на работу.
– Проще было бы зайти к ним домой, – говорю.
– Ничего не проще, – отвечает Глазастая. – Дома никого постороннего, а в магазине люди.
Глазастая звонит. Мы с Джимми стоим рядом, слушаем.
– Лев Максимович? – Голос спокойный. – Мне надо вас срочно увидеть… Подруга вашей дочери. Около магазина… Нет, лучше вы выходите. Вы меня узнаете по собаке.
Стоим. Ждем. Начинается сильный дождь, и мы все трое втискиваемся в будку телефона-автомата. Я трушу. Глазастой по-прежнему хоть бы хны. Она садится верхом на Джимми, смеется, изображает из себя ковбоя. Понимаю: это она для меня, чтобы я успокоилась.
Дождь усиливается. Мимо нашей будки несутся потоки грязи. Черная каша поворачивается, как в кипящем котле, булькает и пенится чем-то гадким и вонючим.
Из магазина выскакивает Вяткин. Небольшого роста и толстый. Одет как фраер, в хорошем костюме и с галстуком. Я его сразу усекаю, Ромашка – его копия, толкаю Глазастую в бок. Она машет ему перевязанной рукой, улыбается, словно рада. Он останавливается на пороге: ему неохота выходить под дождь, и зовет нас. Прыгая между потоками, мы подбегаем, запросто так, точно у нас это обычное дело.
– Идите за мной, – говорит он. – Вот только собака…
– Я ее оставить не могу, – решительно отвечает Глазастая.
Вяткин не слушает ее ответа, быстро уходит. Мы спешим за ним, перед Джимми все расступаются, и мы идем, как по пустому коридору, хотя в магазине много народу. Сворачиваем куда-то и оказываемся в комнате с письменным столом.
– Ну, в чем дело? – спрашивает Вяткин, не глядя на нас, усаживается в кресле и тут же начинает кому-то звонить.
– Вот вам. – Глазастая без долгих разговоров протягивает ему рюкзак с этими разнесчастными деньгами.
– Мне? – удивляется Вяткин. Он вешает трубку телефона и неуверенно берет рюкзак.
– Вам, – отвечает Глазастая. – Откройте. – А сама отходит ко мне и берет зачем-то Джимми за ошейник.

Пугаюсь еще больше: зачем она берет Джимми за ошейник? «Ну, сейчас начнется битва!» – думаю. Оглядываюсь: если что не так, можно смыться – дверь открыта настежь. Слежу за Вяткиным, стою, каждая жилка во мне дрожит, готова в любую секунду схватить за руку Глазастую – и в дверь! Смотрю, Вяткин подтягивает к себе рюкзак, открывает на нем молнию. Он все делает медленно… Заглядывает внутрь рюкзака… и откидывается назад. Не ожидал! Вижу – балдеет. Глаза круглые и бесцветные, точно два металлических шарика, рот открывается… Неожиданно хихикаю. Понимаю: не вовремя. Глазастая на меня косится – прикрываю рот ладошкой. Ну и видик у него – обхохочешься! Я даже про страх забываю.
Вяткин быстро задергивает молнию, бросается к двери, закрывает ее, подходит к нам и шипит:
– Что это… значит?
– Мы у вас их взяли, – отвечает Глазастая. – А теперь возвращаем. Они нам оказались не нужны.
– То есть как взяли?! Вы… вы… украли! – Он хватает Глазастую за плечо.
Джимми угрожающе рычит, шерсть на нем встает дыбом.
Вяткин пугливо отскакивает.
– Сидеть, Джимми! – приказывает Глазастая.
– Ну, ты у меня заплатишь! – кричит Вяткин. – Я милицию вызову! – Хватает трубку телефона и начинает крутить диск.
– Не надо звонить, – говорит Глазастая. – Вы же не хотите посадить свою дочь в тюрьму?
– Ах, вот в чем дело! Значит, это ее работа! Ну, я с нее три шкуры спущу!
– Только попробуйте ее хоть пальцем тронуть, – угрожает Глазастая, – пожалеете! Мы выходим.
– Дряни! – кричит нам вслед Вяткин. – Чудовища!
14
Костя неслышно открыл дверь, в узкую щель просунул руку с саксофоном, затем проскользнул сам и втащил чемодан. Тихо опустил на пол. Все удалось как нельзя лучше: он не произвел ни шороха, ни звука. Ему хотелось поразить Лизу своим неожиданным возвращением.
Прислушался: в квартире было тихо. Он пересек коридор, сдерживая дрожь ожидания, и заглянул в комнату. Там было пусто. Лиза куда-то испарилась, оставив в доме жуткий кавардак. На тахте валялись ее платья, – видно, она второпях выбирала, в чем покрасоваться. Костя стал звонить Глебову, заранее улыбаясь в ожидании его голоса. Но и того не оказалось дома. Тоже куда-то слинял. Костя совсем сник, почувствовал себя обиженным – эффект неожиданного появления не произошел.
«Ну ладно, что делать, в конце концов, сам виноват, приехал без предупреждения», – успокаивал он себя. Открыл чемодан и вытащил оттуда небольшой сверток – подарок Лизе. Кофточку с кружевным воротничком. Развернул, расправил и положил на видное место – на ломберный столик. Полюбовался: кофточка ему нравилась. «По-моему, отпад, – подумал он. – Мать будет в восторге. Подставит плечи – и порядок». Потом достал из пакета широкополую серую шляпу – для Глебова. Примерил перед зеркалом. Покрасовался, решил: обалденная шляпа, таких в городе днем с огнем не сыщешь, пятидесятые годы, ретро, единственная в своем роде. Если отец не решится ее носить, возьмет себе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































