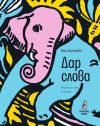Читать книгу "Сахалин. Каторга"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Легким, широким шагом, позванивая на ходу железным посошком, идет по дороге Галактионов.
Зажиточный поселенец, он одет, как прасол, в пиджаке, в длинных сапогах. Длинные светлые волосы падают на плечи. Белокурая бородка. Взгляд голубых глаз ясный и открытый. На лице вдохновенная дума.
Может быть, в эту минуту стихи сочиняет.
У Галактионова около 200 стихотворений. И стихи он любит сочинять «жалостные».
– Чтоб петь можно было.
Для примера приведу одно:
Я ошибкой роковою
Как-то в каторгу попал,
Уже сколько, я не скрою,
Наказанья я принял:
Розги, плети, даже кнут
Часто рвали мою плоть, –
Уж душа ли – что на свете? –
Позабыл меня Господь.
Остальные стихотворения в том же роде.
Галактионову лет под сорок. Но он старый сектант – в третьем, быть может, в четвертом поколении. Как попали его прадеды в Томскую губернию, он не знает, но деды его в 1819 году были сосланы из Томской губернии «от Туруханска по Енисею за 400 верст». Родители три раза судились за духоборство.
Галактионов родился «неспроста, а для большого дела». Пророк Григорьюшка Шведов за три года предсказал его рожденье и объявил, что будет жить в нем. Когда пришла смерть, Григорьюшка собрал всех, встал, поклонился:
– Ну, теперь до свиданья все!
И умер.
– С тех пор я начал жить.
– А помнишь ты, Галактионов, как Григорьюшкой Шведовым на свете жил?
– Для чего не помнить! Все помню.
И Галактионов начинает рассказывать то, что он, вероятно, слышал в детстве от старших о пророке, но относительно чего уверовал, что это было все с ним.
Предназначенный с детства для большого дела, он жил, погруженный в изучение Писания, которое надо знать.
– Вот как вы табель умножения знаете. Ночью вас спросить: «Пятью пять, сколько?» – вы ответите. Так и я всякое место Писания знать должен.
Сектантское увлечение довело Галактионова до галлюцинаций. При встрече с духовными лицами он видел их в образе дьявола. Отсюда оскорбления и – ссылки.
У Галактионова была своя заимка, небольшие золотые прииски, – его их лишили и сослали в Камчатку. Из Камчатки сослали, с лишением всех прав, на поселение на Сахалин, как значится в статейном списке, «за порицание православной веры и Церкви».
На Сахалине Галактионова сразу невзлюбили все.
– Если б я сказал: «Пойдем и обворуем», меня бы полюбили все!
А Галактионов занимался тем, что садился на завалинку, всякого прохожего останавливал и поучал текстами.
Предназначенный от рождения к большому делу, он на Сахалине, среди населения порочного и падшего, превратился в обличителя.
– Передо мною живой человек, словно рыба, вынутая на песок, трепыхается и бьется, а я его текстами, текстами!
Отправляясь на завалинку, Галактионов говорил себе:
– Возьму кинжал, повешу его на бедро. Сегодня я должен убить несколько человек.
– Тут и так-то человеку дышать нечем. А я его текстом режу.
– На букве я как на троне сидел и буквой как мечом убивал! – говорил про себя Галактионов.
– И гнал я человека, аки Савл!
– Люди и так в потемках бродили, а я им своими толкованиями тьму еще темнее делал. Это все равно, что пришел бы к человеку болящему доктор ученый и рассказал бы ему подробно, что за болезнь и что от болезни будет. И, духу лишивши, хладно бы отвернулся и спокойно бы ушел.
Недовольство обличителем все росло и росло. И в это самое время до Галактионова стали доходить слухи о живущем в селении Рыковском ссыльнопоселенце Тихоне Белоножкине, который всем помогает и никого не осуждает.
Отношение Тихона Белоножкина к преступникам действительно преудивительное.
Два года тому назад грозой Сахалина был беглый тачечник Широколобов. Убийца-изверг, привезенный на Сахалин из Забайкалья прикованным к мачте парохода. Когда Широколобов бежал, весь Сахалин только и думал: «Хоть бы его убили!»
Широколобова боялись и ненавидели все, а Тихон Белоножкин – сам ему у себя приют предложил. Широколобов даже диву дался:
– Мне?
– Дела твои я осудил, а не тебя. Дела твои дурные, а кто в том повинен, что ты их делал, – про то нам неизвестно.
И целую ночь, по словам Галактионова, Широколобов провозился да просопел в подполье.
– Заснуть не мог, себя было жаль. Сам потом говорил, что так думал: «должен я теперь бечь и убивать и грабить, – а что мне иначе-то делать?» А утром ушел и никого не тронул, с Тихоном как с братом простился.
Такое отношение к преступлению и преступникам Тихона Белоножкина производило сильное впечатление, и вести о Белоножкине дошли до Галактионова как раз в то время, когда озлобление окружающих против обличителя достигло крайних пределов.
– Начал я в те поры колебаться. Проповедую, а вижу: озлобление мною в мир входит.
И заинтересовал Галактионова Тихон. Пошел.
– До трех раз к нему ходил. До ворот дворца доходил, а во дворец не заходил. Раздумывал. «Как, мол, так, с детства все Писание знаю и все, что говорю, – по текстам. Чему ж меня может мужик сиволапый научить?» И ворочался.
А в третий раз зашел.
– Застал четверых. И сразу, никогда не видавши, его узнал. Поклонился, говорю: «Здравствуйте». А он мне: «Я тебя ждал. Видели мы все звезду яркую, подошедшую к солнцу». – «А сколько, – спрашиваю, – раз звезда к солнцу подходила?» – «До трех раз». Тут я и затрясся. «Три раза, – говорю, – я к тебе ходил». А Тихон смеется так радостно. «И это, – говорит, – я знаю». Тут я ему про свои колебания и начал. И пошел и пошел.
А он все смотрит, радостно смеется. «Писанье, – говорит, – что о Христе писано, все знаешь. Чего ж теперь-то тебе нужно?» – «Христа, – говорю, – ищу». – «Ну и ищи. Найдешь». Тут я ему в ноги пал: «Помилуй».
Лежу, а надо мной голос, да такой милый: «Раньше ходил ты, Савл, по букве разящей, а теперь будешь ходить, Павел, по букве животворящей».
Заплакал я, бьюсь как рыба у ног, а он меня поднимает да целует, целует. Заглянул я к нему в очи. Очи – как окна, заглянул в горницу, а там так мило. И увидал я, как в горнице у него мило, скудость-то я своей горницы познал – что украшал ее гробами великолепными. А у него-то в горнице все живое. – «Горницей» Галактионов называет, конечно, душу. – И увидев, что у него-то в горнице все живое, а у меня гробы великолепные, заплакал я. А он-то все меня целует: «Не плачь! Теперь ты человек живой». Говорит: «не плачь» – а сам в три ручья плачет. Я и спрашиваю: «Как же ты мне велишь радоваться, а сам плачешь?» «Это ничего, – говорит, – я за всех должен плакать, а ты не плачь». Тут-то я и понял вконец.
– Что понял?
– Кто есть Тихон Белоножкин.
– Кто же?
– Иисус.
– Ну, слушай, Галактионов, ведь ты же человек ученый…
– Премудрость! – с улыбкой перебил Галактионов.
– Ты же знаешь, что Иисус Христос жил земной жизнью 18 сот лет тому назад.
– И теперь живет.
– Как так?
– А разве может когда без Христа быть? Тогда Христос за грехи людские пострадал. А новые всё накапливаются. За них-то кто же страдать будет? Посмотрите кругом. Один убил, бедность да нищета довела, другого злость человеческая заставила. Всё не они виноваты. Кто же за это страдать должен?
– Так что, всегда Христос живет в мире?
– Всегда. Один отстрадает. Другой страдать идет.
– Ну а за что Тихон на Сахалин сослан?
– За убийство! – не мигнув, отвечает Галактионов. – Двух человек он убил.
– Как же так помирить?
– Воронежский он. Из зажиточных. У его отца еще с арендатором соседским вражда была. Дальше да больше. Едут раз из города вместе. Арендатор-то и думает: «Нас много». Напали на Тихона. А Тихон-то взял оглоблю, да во зле арендатора по башке – цоп! А потом арендаторша подвернулась – он и ее цоп. Так злоба вековечная убийством и кончилась.
– Он же убил! Он убийца!
– Не он убил, злоба убила. Злоба копилась-копилась в двух семьях и вырвалась. Он за эту злобу каторгу и перенес.
Преступники и преступления
1– Чувствуют ли они раскаяние?
Все лица, близко соприкасающиеся с каторгой, к которым я обращался с этим вопросом, отвечали – кто со злобой, кто с искренним сожалением – всегда одно и то же:
– Нет!
– За все время, пока я здесь, изо всех виденных мною преступников – а я их видел тысячи, – встретил я одного, который действительно чувствовал раскаяние в совершенном, желание отстрадать содеянный грех. Да и тот вряд ли был преступником! – говорил мне заведующий медицинской частью доктор Поддубский.
Это был старик, сосланный за холерные беспорядки.
Доктор записал его при освидетельствовании «слабосильным».
– Стой, дядя! – остановил его старик. – Ты этого не делай! А когда ж я свой грех-то отработаю?
– Да в чем твой грех-то?
– Доктора мы каменьями убили. Каменьями швыряли. И я камень бросил.
– Да ты попал ли?
– Этого уж не знаю, не видел, куда камень упал. А только все-таки бросил.
Сказать, однако, чтоб раскаяния они не чувствовали, – рискованно.
Они его не выражают. Это – да.
Каторжник, как и многие страдающие люди, прежде всего горд. Всякое выражение раскаяния, сожаления о случившемся он считал бы слабостью, которой не простил бы потом себе, которой, главное, никогда не простила бы ему каторга.
А разве и мы не считаемся с взглядами и мнениями того общества, среди которого приходится жить?
Юноша Негель, совершивший гнусное преступление, убийца-зверь, которого мне рекомендовали как самого отчаянного негодяя во всей каторге, этот убийца рыдал, плакал как дитя, рассказывая мне один на один что его довело до преступления. И мне пришлось утешать его, как ребенка, подавать ему воду, гладить по голове, называть ласковыми именами.
Помню изумленное лицо одного из служащих, случайно вошедшего на эту сцену.
Помню, как он растерялся.
– Что вы сделали нашему Негелю? – спрашивал он меня потом с изумлением.
Надо было посмотреть на лицо Негеля в те несколько секунд, которые пробыл в комнате служащий. Как он глотал слезы, какие делал усилия, чтобы подавить рыдания.
– Вы никому не говорите об «этом», – просил он меня на прощанье, – а то в каторге узнают, смеяться будут, суки!
Вот часто причина этого «холодного, спокойного отношения» к преступлению.
Не всегда, где нет трагических жестов, – там нет и трагедии. Темна душа преступника, и нелегко заглянуть: что там таится на дне?
В квартире одного интеллигентного убийцы я обратил внимание на большую картину работы хозяина, висевшую на самом видном месте.
Картина изображала мрачный северный пейзаж. Хмурые нависшие ели. Посредине – три камня, навороченные друг на друга.
– Что это за мрачный вид? – спросил я.
– Это пейзаж, который врезался мне в память! На этом месте случилось одно трагическое происшествие.
Это был вид того самого места, где хозяин дома, вместе с товарищем, убили и разрубили на части свою жертву.
Что это? Рисовка? Или болезненное желание – вечно, каждую минуту, без конца бередить ноющую душевную рану, не давать ей зажить?
Рисовка или казнь, выдуманная для себя преступником, – эта всегда на виду висящая картина?
Не знаю, как раскаяние, но ужас, отчаяние от совершенного преступления живут в душе преступника.
Не верьте даже им самим, чтоб они относились к преступлению спокойно.
Василий Васильев, убивший в бегах своего товарища и питавшийся его мясом, слывет одним из наиболее спокойных и равнодушных.
– Вы послушайте только, как он рассказывает! Как он вырезал куски мяса и варил из них суп с молодой крапивкой, которую клал для вкусу.
– Если б только моря я не боялся! – с отчаянием восклицал он, рассказывая и мне про «крапивку» и суп из человеческого мяса. – Если б моря не боялся, убег бы на край света! Моря боюсь… Ушел бы, чтоб и не видел меня никто! От себя ушел бы!
И какой ужас пред совершенным звучал в тоне этого страшного человека! Недаром после преступления он сходил с ума.
Не верьте веселым рассказам о преступлении. Часто это только неуменье спрашивать. Да, конечно, если вы спросите так, «с наскока»:
– А ну-ка, братец, расскажи, как ты убил?
Тогда вы услышите рассказ, полный и похвальбы и рисовки.
О Полуляхове, убийце семьи Арцимовичей в Луганске, мне говорили, что он необыкновенно охотно и необыкновенно нагло рассказывает о своем преступлении. С издевательством над жертвами, говоря о них всегда во множественном числе:
– Господин Арцимович спали вот так, а госпожа Арцимович вот так. Я сначала их убил, а потом пошел госпожу Арцимович с младенцем ихним убивать. «Сударыня!» – говорю… и т. д.
Я беседовал с Полуляховым два дня, правда, с отдыхом в несколько суток: нервы бы не выдержали, так «тяжел» этот человек. Я спрашивал его внимательно обо всей его жизни, терпеливо выслушивал все мельчайшие подробности его детства и юности, интересные и дорогие только ему, я входил в каждую мелочь его жизни.
И когда после этого он дошел в рассказе до своего зверского преступления, в его повествовании не было ни «господина», ни этого иронического «множественного числа», ни бахвальства, ни рисовки.
Я никогда не забуду этого вечера.
Мы сидели вдвоем, близко наклонившись друг к другу; он говорил тихо, словно боясь, что кто-то еще слушает эту страшную повесть, – и ему вовсе не легко давался этот рассказ. О некоторых подробностях даже ему тяжело было говорить. О них он всегда умалчивает в своих веселых рассказах о преступлении.
Правда, и подробности же!
Я чувствовал, что все плывет у меня в глазах. Что еще момент – и я упаду в обморок. И только нежелание показать свою слабость пред каторжником удерживало меня крикнуть: «Воды!» Ведь мне нужно было мнение каторги: я явился ее изучать.
Помню, как я, после одной из таких подробностей, откинулся, почти упал, на спинку кресла, как у меня перехватило дыхание, – и вздох, вероятно, похожий скорее на стон, невольно вырвался из груди.
– Вот, видите, барин, – и вам даже слушать нехорошо! – сказал Полуляхов.
Я взглянул на него: на нем самом лица не было.
Бывают рассказы циничные по своей откровенности – спокойных рассказов нет.
Нет!
Я много слышал исповедей, не рассказов, а именно исповедей, когда преступники рассказывали мне все, часто с краской на лице отвечали на самые щекотливые вопросы, которые и задавать-то было неловко; мне много пришлось слышать этих исповедей с глазу на глаз, при затворенных дверях, часто говорившихся вполголоса, чтобы кто не услыхал тайн каторги, которые мне рассказывали.
Преступники всегда старались казаться спокойными. Но только старались.
Не надо было быть особенным физиономистом, чтобы видеть, как их волнуют эти воспоминания, как они стараются подавить, скрыть это волнение.
Обычная поза преступника, когда он рассказывает подробности преступления, такая. Он сидит к вам боком, смотрит в сторону, куда-нибудь в угол, бессознательно вертит что-нибудь в руках. На его губах играет деланная, принужденная улыбка, глаза горят нехорошим, лихорадочным каким-то огнем.
У многих часто меняется цвет лица, подергиваются мускулы щек, меняется и сдавленно звучит голос.
Почти всякий после 10 минут этого рассказа кажется усталым, утомленным, часто разбитым.
А я слыхал рассказы и видал преступников, пред которыми и Полуляхов только еще начинающий. Мне Лесников рассказывал, как он вырезал две семьи: из 5 и 6 человек. Прохоров-Мыльников рассказывал, как резал детей. Мне рассказывали, как разрывали могилы. Передавали свои впечатления люди, приговоренные к повешению, стоявшие на западне и услышавшие помилование только тогда, когда около лица болталась петля.
Разговоры между собой о своих преступлениях – обычное занятие каторги.
– Просто ужас! – говорили мне интеллигентные люди, бывавшие в экспедициях для исследования острова. – Лежишь вечером и прислушиваешься, о чем говорят между собой каторжные, мои носильщики и проводники. Только и слышишь: «Я так-то убил, а я так-то…»
Но о чем же в каторге больше и говорить? В настоящем ничего, речь идет о прошлом.
Когда появляется новый арестант, его никто не спросит, за что. Это не принято. Всякий соблюдает свое достоинство. Никто не хочет показать слабости – любопытства.
Разговор об «этом» заводится несколько дней спустя, исподволь: спрашивающий сначала сам расскажет «кстати, к случаю», за что пришел, и в разговоре будто бы нехотя, даже нечаянно, спросит:
– А ты за что?
Непременно таким тоном, в котором звучит: «Хочешь, мол, говори, а не хочешь – не больно интересно».
И тогда рассказ вновь прибывшего выслушивается с большим вниманием. Надо же ведь знать, что за человек пришел в семью, на что он способен, может ли быть хорошим товарищем на случай побега или преступления.
С бахвальством, с рисовкой, с гордостью рассказывают о своих преступлениях только иваны.
Мне вспоминается, например, Школкин, преступник-рецидивист, изо всех сил старающийся прослыть за ивана.
Он убил уже на Сахалине денщика капельмейстера. Убил нагло, зверски, среди белого дня. Узнав о том, что у капельмейстера должны быть деньги, он явился к нему на квартиру в его отсутствии, оглушил ударом кистеня денщика, стащил его в подполье и начал резать.
Тонкий, сильно сточенный кухонный нож гнулся и не входил в тело.
Тогда Школкин перевернул свою жертву лицом вниз, приподнял грубую, солдатского холста рубаху, прорезал небольшую ранку и тихо, медленно ввел нож, заколотив его по рукоять.
В это время к капельмейстеру вошел еще кто-то, услышал возню в подполье, догадался, что дело не ладно, – выбежал, поднял крик. Как раз в это время проезжал мимо губернатор, он и отдал приказ об аресте убийцы.
Школкин очень гордится своим преступлением, тем, что его «арестовал сам губернатор», тем, что его, по мнению всей каторги, «ожидала веревка», – гордится своим спокойствием.
Я несколько раз заводил с ним разговор на эту тему, будто бы забывая то ту то другую подробность, и каждый раз, охотно рассказывая о преступлении, Школкин добавлял одну и ту же неизменную фразу:
– Я вышел на крыльцо с улыбкою.
Эта улыбка, с которой он вышел на крыльцо к толпе народа из подполья, где он только что дорезал человека, – его гордость.
Часто, однако, за этим бахвальством кроется нечто другое. Часто это только желание заглушить душевные муки, желание нагнать на себя куражу. Желание смехом подавить страх.
Так дети, по вечерам боящиеся оставаться в темной комнате, днем хвалятся своей храбростью, смеются над всеми привидениями в мире:
– Пусть придут, пусть!
– Работал я в сапожной мастерской, – рассказывал мне один интеллигентный преступник, убийца, – вместе с нами работал некто Смирнов, рецидивист, совершивший много преступлений, молодой человек. Ужас, бывало, берет слушать его разговоры. Не было у него и темы другой, кроме рассказов о своих убийствах. Он вспоминал о них с удовольствием, со смехом. Как он издевался над памятью своих жертв. В каком комическом виде представлял их предсмертные муки, мольбы, с каким цинизмом высмеивал их слова, их просьбы о пощаде. Просто, бывало, иногда работа падает из рук!
Ужас меня брал при одном звуке голоса этого человека. А тут еще мое место на нарах как раз рядом с ним.
Он спал с краю, я около. Просыпаюсь как-то от сильного толчка, гляжу – лампа была как раз около наших мест, – стоит Смирнов около нар. Лицо белое, словно мелом вымазано, глаза страшные, широко раскрытые. Ужас на лице написан.
«Не подходи… – говорит, – не подходи… убью… не подходи…» Дрожит весь, голос такой – жуть берет слушать. Испугался я.
«Смирнов, – говорю, – что с тобою? С кем ты разговариваешь?»
«Вон он, – говорит, – вон он… весь в крови… из горла-то, из горла как кровь хлещет… идет, идет… сюда идет… не подходи!»
Ухватился за меня, держится, руки холодные как лед. И у него зубы стучат, и меня лихорадка бьет.
«Господь с тобой! Кого ты видишь?»
«Он, он, последний мой», – шепчет.
«Да успокойся ты, дай я тебе воды принесу!»
«Нет, нет, не уходи… не уходи… А то он… он»…
Так и пришлось вместе с ним до кадушки с водой идти. Он за меня держится, кругом дико озирается, боится на шаг отстать. Отпоил я его водой – пришел в себя. Просил пустить его на место – с краю лежать боялся, – я лег к нему поближе.
«Страшно мне», – говорит.
«Да зачем же ты днем-то над ними смеешься?» – спрашиваю.
«Потому и смеюсь, что страшно. Ходят они ко мне по ночам. Вот днем-то и стараюсь храбрости набраться, и куражусь».
Бахвальство преступлением – это часто только крик, отчаянный вопль, которым хотят заглушить голос совести.
Душа преступника – это море, где никогда не бывает штиля. Здесь когда-то разыгрывался страшный шторм. Теперь колышется зыбь. А очень крупную зыбь так легко с первого взгляда принять за полный штиль.
Преступление оставляет неизгладимый след, глубокую борозду в душе.
Мне говорил один каторжник, жалуясь на то, что их заперли в кандальной за отказ от работ и две недели держали взаперти:
– Что они? Убить нас, что ли, хотят? Задавить, как насекомую какую? Да нешто человека возможно убить? Я вон как уж: кажется, убил! Сам слышал, как кости затрещали, когда топором по затылку хватил. «Нет, – думаю, – отдышится». Взял да еще голову отрубил прочь. Откатилась голова… А он все живет. Тут вот со мною и живет. Ни шагу не отходит. Меня в сушилку [карцер] посадят. Думают одного – а он тут со мною, мой-то! «Не убивал бы, мол, не сидел бы теперь во тьме кромешной». На кобылу ложусь, а он тут рядом с палачом стоит, зубы скалит: «Не убивал бы, на кобыле не лежал бы». Везде со мной, как тень, идет. Живет – и покуда я жив, жив будет, в могилу за мной, под безыменный крест пойдет. Человека совсем убить – невозможно!