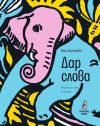Читать книгу "Сахалин. Каторга"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ландсберг
Двадцать семь лет тому назад в Петербурге произошла трагедия, имевшая огромное значение для Сахалина. Блестящий гвардейский офицер-сапер Ландсберг накануне женитьбы на богатой и знатной невесте, накануне большой и блестящей карьеры зарезал с целью грабежа ростовщика Власова и его служанку.
Это событие произвело неописуемую сенсацию, и имя Ландсберга прогремело на всю Россию. Еще больший ужас этому убийству придавало одно трагическое недоразумение.
Ландсберг был карьеристом. Он был человеком очень небогатым, тянулся изо всех сил и служил в гвардии, чтоб быть на виду и сделать карьеру. Старый чиновник, занимавшийся ростовщичеством, Власов, с большой симпатией относился к небогатому офицеру, старавшемуся выйти на «дорогу», и ссужал его деньгами. У Власова было много векселей Ландсберга. Когда карьера была почти уж сделана и Ландсберг был объявлен женихом богатой и знатной невесты, Власов начал повторять ему:
– Вот я тебе к свадьбе сюрприз устрою! Такой сюрприз, какого и не ожидаешь.
Ландсберг испугался, что Власов предъявит к взысканию его векселя, выставит его запутавшимся бедняком, желающим жениться для поправки обстоятельств, сорвет всю карьеру, и решил достать векселя. Он явился к Власову, услав старуху служанку за квасом, зарезал бритвой старого ростовщика, затем, когда служанка вернулась, покончил и с ней и похитил свои векселя, лежавшие отдельной, приготовленной уже пачечкой.
Среди бумаг покойного нашли заготовленное им к Ландсбергу письмо. В этом письме Власов желал всякого счастья своему протеже и в виде подарка на свадьбу посылал «прилагаемые при сем» все векселя. Это и был «сюрприз», которым с улыбкой «грозил» старичок. Кроме того, в духовном завещании, составленном на всякий случай, Власов завещал все свое состояние… Ландсбергу.
Весь этот ужас произошел потому, что Ландсберг не понял Власова, по старческой привычке любившего выражаться несколько иносказательно:
– Хе-хе!.. Сюрпризец.
Из блестящего офицера с огромной карьерой впереди Ландсберг превратился в каторжника с бритой головой и долгими годами тюрьмы в перспективе.
Когда Ландсберга арестовали, его предупреждали:
– В комнате, где вы сейчас останетесь один, на столе лежит револьвер. Он заряжен… Того… Будьте поосторожнее.
Ландсберг холодно ответил:
– Не беспокойтесь. Я не застрелюсь.
И пошел в каторгу.
Двадцать семь лет тому назад сахалинская колония еще только начиналась. Кучка забайкальцев, невежественных, беспомощных, ютились в Дуэ, единственном тогда поселении на Сахалине – в маленьком ущелье, в трещине между скалами, в, быть может, самой скверной дыре, какая только существует на земном шаре, и с ужасом смотрели на непроходимую тайгу, которую им поручено было превратить в «цветущую колонию». Эта кучка забайкальцев стояла перед Сахалином, как ребенок перед ощетинившимся медведем. Как подступиться? Для колонии прежде всего нужны дороги, а эти люди, родившиеся и выросшие в Забайкалье, никогда в глаза не видели даже шоссейных дорог и решительно не знали, как «все это делается».
Каждый их шаг немедленно же терпел крушение. Они своим умом строили пристань – пристань сносил первый же маленький шторм. Они своим умом начали рыть сквозь гору Жонкьер печально знаменитый тоннель, когда две роющие партии в горе все же не встретились… Ступив шаг в тайгу, забайкальцы сейчас же завязли и с ужасом должны были отступить назад. Они не знали даже, что дороги нужно окапывать канавами, и не окопанные канавами таежные дороги заплывали, превращались в болото.
В эту-то критическую минуту каторжный пароход и привез на Сахалин сапера.
Все, что сделано на Сахалине дельного и путного в смысле дорог, устройства поселений – сделано Ландсбергом. И Бог весть, какая бы судьба постигла сахалинскую колонию, если бы в Петербурге не разыгралось трагическое недоразумение с «угрозой» ростовщика.
Если сейчас смотритель тюрьмы, взобравшись на гору, хвастливо вынимает из кармана маленький барометр и с видом ученого начинает по давлению воздуха определять высоту горы, даже и эти сведения занес на Сахалин Ландсберг. Кругом все его ученики. Все знания, которые необходимы были для борьбы с непроходимой тайгой, занес сюда он. Ученики иногда не слушались своего учителя из ссыльнокаторжных, делали по-своему – и немедленно же вязли. Памятниками этого управления по-своему остались покинутые, утонувшие в болоте поселья, просеки, брошенные за ненадобностью, дороги, по которым надо восемь верст ехать три с половиной часа.
Все, что делалось «по-своему», приходилось бросать и возвращаться к планам Ландсберга. Те работы, которые предпринимал на Сахалине Ландсберг, показывают в нем ум недюжинный, знания большие и человека талантливого.
Ландсберг на Сахалине с первого же момента обратил на себя особое внимание. Даже туда проникла весть о «знаменитом процессе», и забайкальцы не могли не заинтересоваться «вчерашним блестящим петербургским офицером, вращавшимся в высшем обществе».
Светский, образованный, на редкость умный, ловкий карьерист по натуре, Ландсберг сразу выделился среди всего окружающего.
– Знаете, – рассказывают моряки, в те времена плававшие на Сахалин, – подходишь, бывало, к Дуэ. На пристани, натурально, стоят все тамошние служащие. И сразу, с первого взгляда, самый порядочный из них Ландсберг. Видна птица по полету.
Но самое главное – это, конечно, то, что он был сапер. Он построил им пристань, которая не рушилась; он кое-как, но все-таки поправил злосчастный тоннель, и они имели возможность отправить в Петербург телеграмму об открытии кривого тоннеля, по которому никто не ездит, в котором только беглым удобно сидеть, который никому не нужен: «Тоннель прорыт». Дорога нужна – Ландсберг показывал, как это сделать.
Ландсберг сразу стал на Сахалине барином, сразу получил от каторги эту кличку. Он распоряжался работами, командовал партиями рабочих, фактически был начальником, жил не в тюрьме, и ему говорили «вы», почесть на Сахалине редкая.
Но это положение, которое Ландсберг сразу занял, было и трудным положением. Безграмотные всегда ненавидят грамотных. И сахалинских служащих глубоко возмущало привилегированное положение ссыльнокаторжного.
– Словно ровня.
Не знаю, какие наказания приходилось переносить Ландсбергу, об этом с ним разговор поднимать было, конечно, неловко, но ему приходилось переживать трудные минуты. Вот один из случаев. Сахалинский служащий К. особенно возмущался привилегированностью Ландсберга.
– Я ему покажу привилегированность! – это превратилось в пункт помешательства К.
Однажды он застал Ландсберга в кабинете одного из служащих. Сидели и разговаривали. Этого только К. и нужно было:
– Что?! Как?! Сидеть в присутствии начальства?! Каторжнику?! Заковать в кандалы! Посадить на неделю в карцер!
И Ландсберг в кандалах высидел неделю на хлебе и на воде, в темном карцере, а К. гордился:
– Каково я самому Ландсбергу задал!
С другой стороны, и каторгу возмущала несправедливость:
– За то же сослан, что и мы. Может, еще хуже!
Каторга ненавидела «барина», «белоручку», «подлипалу», самозванное начальство, и Ландсбергу надо было держаться очень и очень настороже. При малейшем подозрении, что он держит руку начальства, каторга его бы убила.
Тут уж ему помогла, быть может, светская ловкость. Он умел поддерживать отношения и с нашими, и с вашими. И начальство было довольно, и для каторги он оставался товарищем, подчиняющимся ее законам. Ловкость, хитрость и изворотливость все время были в ходу и пускались в дело все долгое время каторги.
Известен, например, случай, когда Ландсберг спас жизнь одному из служащих. Каторга ненавидела этого служащего, решила его убить на дорожных работах, и Ландсбергу было приказано привести его в засаду. Привести – рисковать головой. Ослушаться каторги – тоже рисковать головой. Ландсберг придумал какую-то хитрую механику. Он повез служащего в засаду, но по дороге, еще далеко от засады, экипаж «вдруг» сломался, и Ландсберг убедил начальство: пешком все равно на работы опоздаем. Вернемся лучше обратно в пост.

Дорожные работы на Сахалине
И служащий был спасен, и приказание каторги не нарушено: вез человека, да не довез, не по своей воле. А на следующий день Ландсберг раскассировал зачинщиков по разным работам, разъединил, и о засаде больше не могло быть и речи.
Кончив каторгу и выйдя на поселение, Ландсберг завел лавочку, в которой продается все: дуги и гармоники, ситцы и деготь, кнутовища и конфеты. Это какое-то уменье найтись всегда и во всех положениях. Превратившись в мелкого лавочника, блестящий гвардейский офицер сразу оказался великолепным мелким лавочником. Он повел дело отлично. Его лавочка росла и росла, он заводил связи с торговыми фирмами.
И когда я два года тому назад поехал к Карлу Христофоровичу Ландсбергу, на мачте, около его хорошенького, чистенького домика, развевался флаг пароходного общества: он – представитель крупного страховой компании, он агент пароходной компании, у него контора транспортного общества.

Ландсберг и его жена
Лавочка у него осталась – целый магазин! – но в ней торгуют приказчики, а он только наблюдает хозяйским оком.
За сигарой он беседовал со мной о компании каменноугольных копей и о компании по эксплуатации рыбных промыслов – двух крупных компаниях, которые он затевает.
Ландсберг кончил поселенчество-крестьянство. Теперь он мещанин города Владивостока, ездит от времени до времени за границу, в Японию, мог бы, если бы захотел, вернуться в Россию, но живет на Сахалине, в комфортабельном доме, из окон которого открывается вид на кандальную тюрьму.
Ландсберг женат на очень милой женщине, акушерке, приехавшей служить на Сахалин. И трудно отыскать более нежную пару. Бог весть, нашел бы он в России такое же семейное счастье, какое отыскал на Сахалине.
Так странно смотреть на этих двух людей!.. Словно крепко охватившие друг друга, спасшиеся после кораблекрушения.
* * *
В кают-компании парохода «Ярославль» было шумно и накурено. Пароход пришел в ночь, и теперь, ранним утром, кают-компания была полна служащими, явившимися принимать привезенных арестантов. Целая коллекция гоголевских типов! Капитан по очереди знакомил меня со всеми. И когда очередь дошла до сидевшего за столом, что-то очень весело и оживленно рассказывавшего человека, сказал:
– Карл Христофорович Ландсберг.
В поданной мне руке я почувствовал согнутый мизинец. И это прикосновение подействовало на меня как электрический ток. Этот мизинец был одной из улик против Ландсберга. Он порезал его, когда резал Власова.
– Я очень рад с вами познакомиться. Губернатор говорил мне, что вы прислали ему телеграмму.
Он говорил очень приятным голосом, в котором звучала любезность.
Высокий, красивый, представительный господин в усах, с сединой в волосах, но моложавый. Ландсбергу теперь, вероятно, под пятьдесят, но на вид гораздо меньше. Он сохранил моложавое лицо и почти юношески стройную фигуру. Он – сама предупредительность. Быть может, он даже слишком предупредителен – никогда не говорит иначе как с любезнейшей улыбкой.
Но когда, пожимая друг другу руки, мы встретились глазами, мне показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали. Смеется он или рассказывает что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нет, – у него играет только лицо. Серые, светлые глаза остаются одними и теми же – холодными, спокойными, стальными. И вы никак не отделаетесь от мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.
– Тяжелые глаза! – замечали и служащие всякий раз, как разговор заходил о Ландсберге.
– Вы на глаза-то посмотрите! – со злобой говорили не любящие Ландсберга каторжане и поселенцы. – Смотрит на тебя, и словно ты для него не человек.
Пароход привез Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсберг, обмениваясь любезными шуточками со служащими, очень ловко на пристани укладывал этот воздушный товар, словно подарки вез на именины. Такое странное впечатление производил этот торговец с красивыми, элегантными движениями!..
Попрощавшись со всеми, он сел в собственный экипаж и приказал кучеру:
– Пошел!
– Куда прикажете, барин? – спросил кучер из поселенцев.
– Домой!
Ландсберг еще раз с любезнейшей улыбкой раскланялся со всеми, крикнул начальнику округа:
– Так я вас жду сегодня вечерком! Новые ноты с пароходом пришли. Жена нам на пианино сыграет.
И экипаж поскакал.
– А кучер-то у него, как и он, за убийство с целью грабежа прислан! – сказал мне начальник округа. – У нас, батенька, тут много удивительных вещей увидите!
Ландсберг сохранил свой великолепный французский язык и давится, как все сахалинцы, на слове «каторга». «Когда я был еще… рабочим!» – говорит он, слегка краснеет и опускает глаза.
Мы с ним никогда не называли Сахалин по имени, а говорили «этот остров».
Ландсберг через 27 лет тюрьмы и каторги пронес невредимыми свои изящные «гостиные» манеры, но есть нечто поселенческое в той торопливости, с которой он сдергивает с головы шляпу, если неожиданно слышит «Здравствуйте!». И по этой манере вы видите, что нелегко досталась Ландсбергу каторга. Бывали-таки, значит, столкновения.
Этому человеку, из окон которого открывается вид на тюрьму, тяжело всякое воспоминание о своем «рабочем» времени. Когда он касается этого времени, он волнуется, тяжело дышит и на лице его написана злость.
А когда он говорит о каторжанах, вы чувствуете в его тоне такое презрение, такую ненависть! Он говорит о них словно о скоте: «С этими негодяями не так следует обращаться. Их распустили теперь. Гуманничают».
И каторга, в свою очередь, презирает и ненавидит Ландсберга и выдумывает на его счет всякие страшные и гнусные легенды.
Служащие водят с ним знакомство, он один из интереснейших, богатейших, а благодаря добрым знакомствам, влиятельнейших людей на Сахалине; но в разговорах о Ландсберге они возмущаются:
– Пусть так! Пусть Ландсберг действительно единственный человек, которого Сахалин возродил к честной трудовой жизни. Но ведь нельзя же все-таки так! Такое уж спокойствие. Чувствует себя великолепно – словно не он, а другой кто-то сделал!
Так ли это? Один раз мне показалось, что зазвучало «нечто» в словах этого человека, не помнящего прошлого.
Все стены уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга увешаны портретами его детей, умерших от дифтерита. О них и шла речь.
– И ведь никогда здесь, на этом острове, дифтерита не было… Вольноследующие занесли. Дети заболели и все умерли. Все. Словно наказание.
И, сказав это слово, Ландсберг остановился, лицо его стало багровым, он наклонил голову, и несколько минут длилось молчание. Это были самые тяжелые минуты, которые мне приходилось провести в жизни.
– Что же это я забыл?! Идем чай пить! – овладев собой, сказал Ландсберг, и мы пошли в столовую, где лакей из поселенцев, во фраке и перчатках, подавал нам чай.
Это был один-единственный раз, когда «нечто» словно поднялось со дна души. А часто Ландсберг ставит собеседника прямо в неловкое положение. Это когда он говорит о «распущенности… рабочих»:
– Здесь, на этом острове Бог знает что делается. Убийства с целью грабежа каждый день. Убийства с целью грабежа! И с такими господами еще церемонничают.
Иногда Ландсберг действительно приводит в недоумение.
– Не собираетесь в Россию? – спросил я его как-то.
– Хочется съездить, матушка-старушка у меня есть. Хочет меня перед смертью еще раз повидать. А совсем переезжать – нет. Тут займусь еще. Должен же я с этого острова что-нибудь взять. Недаром же я здесь столько лет пробыл.
Словно человек действительно по делам сюда приехал, а «сделал» не он, а кто-то другой.
– Вот на что следует обратить внимание! – говорил мне Ландсберг в другой раз, и таким взволнованным я его никогда не видал. – Вот на что – на пожизненность наказания. Наказывайте человека как хотите, но когда-нибудь конец этому должен же быть. Оттерпел человек все, что ему приходится, и покончите с этим, верните все, что он имел. Не лишайте человека на всю жизнь всех прав. Неужели взрослый, пожилой мужчина должен терпеть за то, что сделал когда-то мальчишка!
И в его тоне слышалось такое презрение к «сделавшему» когда-то «мальчишке»!
Я смотрел на страшно взволнованного Ландсберга и думал: «Вот, значит, кто этот „другой“, который „сделал“».
Таков этот знаменитый человек.
Не случись 27 лет тому назад трагического qui pro quo, кто знает, чем был бы теперь Карл Христофорович Ландсберг, если человек даже на Сахалине сумел выйти в люди.
Дедушка русской каторги
Милый, добрый, славный дедушка, спишь ты теперь в Рачковой заимке, на каторжном кладбище поста Александровского, под безыменным крестом, спишь тихим, вечным сном. Что грезится тебе там после твоей многострадальной жизни?
Матвей Васильевич Соколов – «дедушка русской каторги».
Старше него в каторге не было никого. Он отбыл «пятьдесят лет чистой каторги». Да предстояло еще.
– Мне, брат, три века жить надобно, – улыбаясь беззубым ртом, говорил Матвей Васильевич, – у меня, брат, три вечных приговора.
Человек, трижды приговоренный к бессрочной каторге. Другого такого не было во всей каторге.
По закону такого страшного преступника должны в течение всей жизни держать в кандальной тюрьме, и, если он куда идет, отправлять не иначе, как в сопровождении часового с ружьем.
А Матвею Васильевичу Соколову разрешили жить себе в столярной мастерской безо всякого надзора.
Он спал на верстаке, зиму и лето кутаясь в старый полушубок, дрожа своим старческим телом.

«Дедушка русской каторги» Матвей Васильевич Соколов
– Только водкой и дышу! Проснешься поутру – ни рук ни ног нет, грудь заложит, дышать нечем. Выпьешь чайную чашечку водки – и опять человек! Я, ваше высокоблагородие, пьяница природный.
– Матвей Васильевич потому и работать не могут, что они лак пьют! – подшучивали другие каторжане, работавшие в столярной.
– Как так – лак?
– А это я, когда водчонки нет! – улыбался дедушка. – Лак отстоится, снизу-то муть, а сверху чистый спирт. Я его водицей разбавлю и пью. Чисто водка. Так по жилкам и побежит, и побежит огонечком этаким. В руках, ногах тепло сделается. В себя прихожу.
В богадельню Матвей Васильевич ни за что не хотел:
– Какой я богадельщик! Я человек мастеровой, я в мастерской буду работать!
Работать он, по старости лет, не мог. Так только «ковырялся». Но столяр он был тонкий, превосходный. За это его во всех тюрьмах все смотрители любили. Но за это же ему и больнее доставалось, когда он бегал. Этакий столяр сбежал – поневоле злость возьмет.
В то время, как я его знал, он жил в мастерской уж на покое, его все величали не иначе, как «дедушкой», или по имени и отчеству, к нему все относились с каким-то невольным почтением: уж очень много выстрадал этот человек.
Всему, что он знал – мастерству, грамоте, – он выучился в каторге. Он ничего в жизни не видел, кроме каторги. И самое время для него делилось на два периода: «до эшафотов» и «после эшафотов». Иначе он не умел определять время.
В каторгу он попал при крепостном праве.
– До эшафотов?
– Куда! Когда еще кнутом наказывали.
Это тоже для него «эра».
– Клейма уж потом ввели!
Это тоже определение времени.
Он был крепостным, из богатой торговой семьи, жившей в Ельце на оброке. В каторгу он был осужден за убийство девушки.
– Афимьей девушку-то звали. Красивая была Афимья. Да и я парень был хоть куда. – И Матвей Васильевич улыбался, вспоминая, какой он был смолоду. – Видный был парень, пьяница я был, дурак был, озорник. У-ух! Мы и спутались. «Афимья, – говорю, – хошь за меня замуж?» – «Хочу!» – говорит. Потому ей лестно: и ндравился, и из семьи из богатой. Ну и спутались. По нашим местам это бывало: жених с невестой путаются.
– Да ты-то, дедушка, ее любил?
– Говорю, страсть как любил! Так любил, известно, дурак был. Попутались – надоть венчаться. Тут батюшка с матушкой на дыбы. Потому у меня старшой брат женатый был тоже, как я. Он с женой со своей сначала путался, а потом женился. Батюшка с матушкой: «Ни за что! Что ж это? Второй сын на покрытке женится! Срам! Все сыновья на полюбовницах женятся! Ни за что!» Семья была богатая, гордая. Ни за что да ни за что. Я и так и сяк, а мне: «Не сметь!»
Тут она видит, что свадьбе не быть, и меня от себя гнать зачала: «Больно, мол, ты мне нужен!» И зачала с другими гулять. Мне, стало быть, назло. Пущай, мол, все видят! Потому наши-то семейные ее ославили: «С Матвеем, мол, путалась! А теперь, шкура, к нам в родню лезет!» Так, нате, мол, вам, как мне ваш Матвей нужен!
А я-то на стену, я-то на стену! Пью – с того и пить начал. Об масленой дело-то было. По нашим местам парни с девками с гор катаются. Прихожу на гору, смотрю: она с другим с горы – порзь, да порзь! Хмельной я был. Думаю: убью его и ничего мне за это не будет! Ведь этакий дурак был! Этакое вдруг вздумал: человека убью и ничего мне за это не будет! – И Матвей Васильевич качал головой и посмеивался над молодым человеком, удумавшим такую глупость. – Пошел домой, взял ружье со стенки, прихожу, приложился вот этак, – Матвей Васильевич показывал, как он приложился, – «пу-у!», Афимья-то не своим голосом закричала да и упала. Упала да и умерла. Думал-то в него, а попал в нее. Не разобрал с пьяных-то глаз.
Тут мне лопатки и скрутили. Тут-то от меня все и отступились. И батюшка с матушкой – царство им небесное, – и братья, и все родные. Семья-то была богатая, гордая семья, и этакий вдруг срам на всех нагнал. А? Острожник! Оно бы, может, дать – так полегче бы было, да они и руками и ногами: «Знать, – говорят, – острожника не хотим. Осрамил он нас на всю жизнь». Меня и присудили: кнутом десять ударов и в каторгу. В Москве уж наказывали.
Тут я только Москву и видел, как на Конную везли. Хороший, должно быть, город, только мне в те поры не до того было. Посадили меня на телегу, спиной к лошади, и повезли. А кругом-то народу, народу-то кругом! Мальчишки за телегой бегут, глядят, пальцами показывают. Не знаешь, куда и глядеть. Купцы из лавок выходят, смотрят. Деньги в телегу кидают. Палач со мной ехал в телеге, собирает. «Тебе, – говорит, – это!» Я кланяюсь. Так и привезли на Конную. День базарный, народищу труба. Тогда еще эшафотов не было. Это уж потом эшафоты пошли, срамить начали. А тогда не срамили – просто положат и отдерут. Положили меня, да как кнутом палач по голой спине стегнет! Много меня пороли; драли и плетьми, и палками, и розгами, и комлями – а больнее кнута ничего не было!
И этот человек, принявший на своем веку тысячи плетей и палок и розог без числа и счета, – через 50 лет содрогался, вспоминая десять ударов кнута. Что ж это было за наказанье!
– Думал, не жить! Чисто год пороли. А народ-то все деньги сыплет, сыплет. Сняли меня с кобылы, в гошпиталь положили, а потом вылежался, и в каторгу поэтапным порядком послали. Муторно мне в те поры пришлось. Водки бы. Да где ж ее достанешь? Мастерства не знал, заработать негде. Товарищ мне и говорит: «Хочешь, деньги будут? Какие хочешь, большие. Сами делать будем!» А мне только водки. Угощает он меня, мы деньги и делаем. Поймали нас – да к палкам. Его-то, как зачинщика, без помощи врача, а меня с помощью.
– Как так – без помощи врача?
– А так в те поры было. Ставят в два ряда солдат с палками, привяжут к такой тележечке и везут. А они-то палками по спине рраз, рраз! И возят, покеда все, к чему сужден, не получишь. Он уж мертвый лежит, а его все рраз, рраз! Потому без помощи врача. А ежели с помощью – так доктор рядом идет. Видит, что человек в беспамятство приходить стал, скажет: «Стойте!» – спирту даст понюхать, и потом опять начнут. За руку возьмет, на часы посмотрит: «Можно, – скажет, – еще сотню!» А как увидит, что человек совсем плох, сейчас все приостанавливает, и человека в гошпиталь. Отлежится там человек, выздоровеет, его опять на наказанье поведут. Так до тех пор, пока всего своего не получит. Товарищ, царство ему небесное, тот сразу без помощи врача кончился. А меня, почитай, целый год драли, пока всего не выдали. Так год в гошпитале все и вылеживался. Вылежусь, опять дадут!
Палок, плетей и розог Матвей Васильевич получил неисчислимое количество.
– На траву я все ходил! – улыбаясь, говорил он.
– Как – на траву?
– А так, зиму ничего, маячу в тюрьме. А придет весна, на траву и потянет. И бегу. Так кое-где лето шляюсь, в работниках служу. А осень придет, опять по тюрьме скучать стану. К товарищам иду. Сейчас мне и плети, и палки, с прибавлением сроку.
Так этими отлучками «на траву» Матвей Васильевич и набил себе три бессрочных каторги.
– А по манифестам тебе сбавки не было?
– Какие ж мне манифесты? У меня три бессрочных.
Все, что происходило в мире, неслось мимо этого человека, знавшего только тюрьму, плети, розги. Так он и жил, весной тоскуя по воле, осенью возвращаясь в тюрьму: «Все-таки кормят!»
Кроме бесчисленных побегов, за Матвеем Васильевичем никаких других преступлений не было. Человек он был честнейший: сами же служащие давали ему деньги – и иногда по многу – на покупку материалов, и никогда он не пользовался ни копейкой.
– А бегать – бегал. И окромя весны. И все через водку! Тверезый – ничего, а напьюсь – сейчас у меня первое: бежать. Сбегу, напьюсь, попадусь! Пьяница я, ваше высокоблагородие!
Через водку мы с Матвеем Васильевичем и поссорились.
Друзья мы с ним были большие. Сколько раз, изнуренный сахалинской оголтелостью, сахалинской отчаянностью, спрашивая себя: «да есть ли мера человеческому страданию и человеческому падению?», боясь сойти с ума от ужасов, которые творились вокруг, я приходил к этому старику и отходил душой под его неторопливую старческую речь. Он все пережил, все перестрадал и, старый старик, смотрел на все, вспоминал обо всем с добродушной улыбкой. Сколько раз, глядя на эту милую, кроткую улыбку человека, душа и тело которого половину столетия так мучились, я спрашивал себя: «Есть ли мера благости, и кротости, и доброте души человеческой?»
Эта дружба поддерживалась маленькими услугами: каждое утро Матвей Васильевич ходил ко мне на кухню, и кухарка должна была поднести ему чайную чашку – непременно чашку, это была его мера – водки.
Спрашиваю как-то:
– Был дедушка?
– Никак нет-с, – отвечает кухарка, – он уж несколько дней как не ходит!
Пошел справиться: уж не заболел ли. Матвей Васильевич нехотя и сухо со мной поздоровался.
– Да что с тобой, Матвей Васильевич? За что ты на меня сердишься?
– Что уж… Ничего уж…
– Да скажи, в чем дело?
– Что уж там! Ежели ты для меня, для старика, чайной чашечки водки пожалел, что уж…
Оказывается, кухарка, глупая и злая баба, почему-то вдруг, вместо обычной «чашки водки», поднесла Матвею Васильевичу рюмку:
– Все пьют из рюмки, а ты что за принц такой! Много вас тут найдется чашками водку хлебать!
Матвей Васильевич отказался и ушел:
– Я всю жизнь чашечкой пил!
И решил, что это мне для него водки стало жаль.
– Матвей Васильевич, Богом тебе клянусь, что я не знал даже об этом! Да приходи ты, четверть тебе поставлю, стаканами хоть пей – на здоровье!
– Нет, что уж… Пожалел… Чашечку водки пожалел… А я из-за нее, из-за водки, всю жизнь в каторге маюсь… А ты мне чашечку пожалел…
И на глазах у старика были слезы. Он и смотреть на меня не хотел.
Почувствовав приближение смерти, Матвей Васильевич явился в Александрийский лазарет и спросил главного врача, Поддубского.
– Умирать к тебе пришел. Ты мне того… и глаза сам закрой, Леонид Васильевич!
– И полно тебе, старина! Ты еще на траву в этом году пойдешь!
– Нет, брат, на траву я больше не пойду.
– Да что ж у тебя болит, что? А?
– Нет, болеть ничего не болит. А только чувствую, смерть подходит. Ты уж меня того, положи к себе… И глаза сам закрой, Леонид Васильевич!
Желание старика исполнилось. Окруженный попечениями, пролежав в лазарете два дня, он тихо и безболезненно скончался, словно заснул, от старческой дряхлости. И при последних минутах его был и «глаза ему закрыл» доктор Поддубский.
Так умер «дедушка русской каторги».
Однажды доктор Лобас дал Матвею Васильевичу бумаги, чернил, перьев:
– Дедушка, ты сколько помнишь. Что бы тебе в свободное время сесть да и записать, что припомнишь. Свое жизнеописание.
– А что ж! С удовольствием! – согласился Матвей Васильевич и на следующий день принес назад бумагу, перья, чернила и четвертушку бумаги, с одной стороны которой было написано.
– Вот. Написал.
– Что?
– Жизнеописание.
И он подал четвертушку:
«Жизнеописание ссыльнокаторжного Матвея Васильевича Соколова. Приговорен к трем бессрочным каторгам. Чистой каторги отбыл 50 лет. Получил:
Кнута – 10 ударов.
Плетей – столько-то тысяч.
Палок – столько-то тысяч.
Розог – не припомню сколько.
Ссыльнокаторжный Матвей Соколов».
– Все жизнеописание?
– Все.