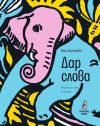Читать книгу "Сахалин. Каторга"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Плебей
Если Пазульский – аристократ каторги, то Антонов по прозвищу Балдоха – презреннейший из ее плебеев. Вся кандальная относится к нему с обидным пренебрежением. И не то, чтоб он сделал что-нибудь, с точки зрения каторги предосудительное, а так, просто:
– Что это за человек! Ни Богу свеча, ни черту кочерга! Одно слово – Балдоха!
Специальность Балдохи была – душить.
Он передушил на своем веку…
– Постой! Сколько? – спрашивает сам себя Балдоха, загибает корявые пальцы и всегда сбивается в счете. – Душ одиннадцать!
И никогда не видал денег больше 10 рублей.
Антону Балдохе 54 года, на вид под 40, по уму – немного. Фигура у него удивительно нескладная, лицо корявое, и вид нелепый. Он родился в Москве, на Хитровке. Ни отца, ни матери не знал. Вырос в ночлежном доме. Высшая радость жизни для него – портерная.
– А что, Балдоха, здорово бы теперь тебе в Москву?
– На Грачевку бы! В портерную! – улыбается во все лицо Балдоха. – Ах, город хороший! Сколько там портерных!
Когда он хочет рассказать что-нибудь необыкновенно величественное из своей прошлой жизни, он говорит:
– И спросил я себе, братцы вы мои, пива полдюжины! Говорит он на своем особом языке: смеси Хитровки, каторги, языка нищих и языка арестантов.
Человек для него – пассажир. Он не просит, а по пассажиру стреляет. Не душит, а баки заколачивает. Маленький воровский ломик у него – гитара. Часы – или луковица, или подсолнух, – глядя по тому, серебряные или золотые.
– Звездануть пассажира гитарой по становой жиле да подсолнух слямзить. Куда как хорошо!
– Дозвольте вас, ваше высокое благородие, подстрелить! – говорит он, прося гривенник.
Он, случалось, брал и подсолнухи, и бриллианты, но всю жизнь свою проходил в опорках: взяв хорошую вещь, шел к скупщику краденого, и ему давали за вещь, стоящую сотни рублей, «рупь, много два!». Он сейчас же пропивал и на утро просыпался опять голодный, холодный, раздетый.
Он не то чтобы был пьяницей. Но он не привык к тому, чтобы у него была какая-нибудь собственность, и когда товарищи для работы справляли ему чуйку синего сукна, сапоги с набором, картуз, он сейчас же по окончании дела сбывал это и возвращался в первобытное состояние.
Московские старожилы помнят еще знаменитую, свирепствовавшую когда-то в Замоскворечье шайку «замоскворецких башибузуков», как их прозвали. Шайка держала москвичей в страхе и трепете. С прохожих по вечерам, в глухих переулках, срывали шапки, отрывали воротники у шуб, стаскивали часы. Обыкновенно прохожего в глухой местности настигал лихач, с лихача соскакивали двое, грабили прохожего, вскакивали в сани, лихач ударял по лошади, и – поминай как звали.
Кроме этих наглых, открытых грабежей, беспрестанно случались убийства. Душили богатых одиноких людей, исключительно старообрядцев.
– Почему староверов? – спросил я у Балдохи, героя всех этих похождений.
– Столоверов-то? Потому подводчик портерщик-столовер был. Он своих всех и знал.
В шайке этих башибузуков Балдоха был специалистом-душителем. По большей части он нанимался сдельно: задушит – платье справят и десять рублей.
– Почему ж это так? Ремесло это твое, что ли?
– Известно, ремесло.
– Что ж, ты учился ему, что ли?
– Известно, учился. Без науки ничего нельзя.
– Где ж ты учился?
– А по портерным. Сидит какой выпивший около стенки – сейчас его за машину и об стену головой.
– Насмерть?
– Зачем насмерть! Я не во всю. А так только, чтоб пассажира взять, чтоб и не пикнул. Не успел то есть.
– А другие-то, что же, без тебя этого сделать не умели, что ли?
– Умели. Да с другими страшно. А со мной ничего. Говорю: пикнуть не успеет. Вы, может, слышали, в Орле такое дело было, бриллиантщика обобрали и мастера задушили. Мое было дело. Меня в Орел нарочно возили. На всякий случай был взят. Думали днем сделать дело, а вышло вечером. Забрались в магазин они, а я за дверью стою, за задней, караулю. Только идет вдруг мастер. Он при магазине жил. И ведь как! Перегородка, а за перегородкой другая квартира, а там белошвейки сидят, песни играют. Все от слова до слова слышно. Дохнет – услышат. Тут нужна рука! Отпер это он дверь, отворил только, а я его за машинку взял и наземь положил. Хоть бы дохнул! Я его на пол сложил, а за перегородкой песни играют. Так ничего и не слыхали!
Говоря о своем умении, Балдоха удивительно воодушевлялся и однажды, показывая мне, как это надо проделывать, как-то моментально подставил мне сзади ногу, одной рукой обхватил за талию, а другую поднес к горлу. Я не успел, действительно, мигнуть, как очутился, совершенно беспомощный, у него на руках.
Балдоха побледнел как полотно, весь затрясся, поставил меня на ноги и отскочил:
– Ваше высокоблагородие!.. Простите!.. Ей-Богу, я вас не хотел… Так, в разговоре…
Он хотел броситься в ноги. Мне долго пришлось его успокаивать.
Он положительно любит свое дело. Да, впрочем, это ведь единственное дело, которое он и знает. Единственный его ресурс. Когда его уж очень изведет каторга, у него есть только одно средство обороняться:
– Возьму за машинку, однова не дохнешь!
Кроме этого «своего дела», Балдоха знает еще грамоту – выучился в исправительном приюте.
– Она-то меня и сгубила!
Башибузуки были открыты благодаря Балдохе.
С товарищем он явился к одному одинокому старому старообрядцу-леснику будто бы покупать дрова. Среди разговора Балдоха задушил старика, потом они обыскали труп, переломали все в квартире, но ничего не нашли.
На следующий день читая в портерной газету, он прочел и про это убийство: «Деньги, что-то около 30 тысяч, были спрятаны за голенищами у покойного и остались нетронуты».
Балдоха расхохотался.
– Чего хохочешь? – спросил портерщик.
– Да как же! Столовера какие-то вчерась в Сокольниках убили, везде денег шарили, а деньги-то за голенищем у него были!
Убийство в Сокольниках наделало страшного шума в Москве. Полиция была поставлена на ноги. От портерщика узнали про подозрительный смех Балдохи, забрали его, уличили.
– Но неужели ты так спокойно ходил на такие дела?
– А то еще как же? Так-то, известно, оно нескладно. Так я всегда перед делом стакан водки пил. Для полировки крови.
Как сносит он каторгу?
Как-то я спросил его что-то про тюрьму.
– Тюрьма? Ничаво тюрьма! Чисто ночлежный на Хитровке.
Отцеубийца
Мы с доктором Л. обходили в Дуэ дома «вольных» – не живущих в тюрьме – каторжан и зашли в маленькую, чрезвычайно опрятную каморку. У окна старик в очках портняжил и мурлыкал про себя что-то «духовное».
При нашем входе он встал, поклонился чрезвычайно учтиво, не по-каторжному и сказал:
– Милости прошу, Николай Степанович! Милости прошу, сударь!
Доктора Л., которого вся каторга прямо-таки обожала за его доброе, человечное отношение, он знал.
Мы сели и предложили и ему сесть.
– Нет, покорнейше благодарствую. Не извольте беспокоиться.
– Да садись, старик.
– Нет уж, не извольте беспокоиться. Благодарствую.
Старик он был необыкновенно благообразный, славный и симпатичный. Говорил тихо, необычайно как-то кротко, улыбался улыбкой немножко грустной, немножко виноватой.
– Поселенец, что ли?
– Никак нет-с. В поселенцы я выйти не могу. Я бессрочный.
Такое наказание полагается только за одно преступление.
– Да за что же ты?
– За родителя. Отцеубийство совершил.
– А давно в каторге?
– Пятнадцатый год.
– Да сколько ж тебе лет?
– Шестьдесят один.
– Так что, когда ты это сделал, тебе было…
– Да уж под пятьдесят было.
– А отцу сколько было?
– Родителю за семьдесят.
Почти пятидесятилетний старик, убивающий семидесятилетнего отца. Что за необыкновенная трагедия?
– Как же так? За что же?
Старик потупился, помолчал, вздохнул и тихо сказал:
– И говорить-то срам. Да перед вами, Николай Степанович, молчать не стану. Издалека это пошло, еще с молодых годов. Вон откуда! Озорник был родитель мой. Грех мой великий – а не каюсь. Как хотите, так меня и судите!
И он говорил это так степенно, кротко: что убил отца и не кается.
– Издавна, судари мои, началось, еще как меня поженили. Крестьянствовали мы, жили без бедности, работников даже имели. Женился я по сердцу. И Марья за меня по сердцу шла. Марьей покойницу звали, царство ей небесное, вечный покой. Дом, говорю, богатый, зажили – лучше не надо, Марью в доме все взлюбили. Оно бы мне тогда вниманье обратить надоть. Родитель больно к Марье особливо. Нехорошо это у нас по крестьянству, когда свекор к молодой снохе добрый больно. Не полагается. Да нешто я что знал! Смотрел себе да радовался, что Марья так к дому пришлась, что любят.
Только и мне в глаза кидаться начало – уж больно родитель добёр. А старик он был строгий, ндравственный. Всех во как держал, пикнуть при нем не смели…
Лежу я раз в риге, устал, отдохнуть днем лег, – только вдруг слышу Марьин голос: «Нешто, батюшка, это возможно?» Мне через скважину-то, щель в стене была, видать. Выбегает на луговину Марья, а за ней родитель. Марья от него, а он за ней. Смеется. «Ан, – говорит, – поймаю! Ан, – говорит, – поймаю!» Только Марья от него убежала, а он, пес, стоит так, смотрит ей вослед, посмеивается.
«Так вот оно что!» – думаю. Тут мне в голову вступило, себя не помню. Пришел домой, Марью в клеть вызвал, да за вожжи. «Ты что ж это, – говорю, – шкура! С родителем играешь?!» А она в ноги да в слезы. «Он, – говорит, – Лешенька, ничего. Он так». Сказать то есть совестилась, с чем к ней пристает. Возил я ее вожжами, возил. Потом к родителю пошел: «Так, мол, и так, батюшка. Выдели нас. Сами собой жить будем. Потому как я нынче, в риге лежамши, надумал…» – нарочно ему про ригу-то говорю.
Насупился старик: «Мало чего, – говорит, – ты там, по ригам валямшись, щенок, надумаешь. Дом – полная чаша. Стану я из-за тебя этаку благодать рушить! Ишь, чего выдумал! Вон пошел с глаз моих, подлец!» И пошло тут, и пошло. Придет Марья из поля – синяк на синяке. «Это кто тебя?» – спрашиваю. «Батюшка», – разливается и плачет. Я к родителю: «Нельзя так, батюшка!» Он меня за волосья. Потому, говорю, хоть и большие были, а все как дети махонькие перед ним ходили.
«Ты, – говорит, – еще меня учить надумал! Все, – говорит, – вы лежебоки! И Марья твоя такая же. Добром да лаской с вами ничего не поделаешь – так я ж вам себя покажу. Будете у меня работать!»
А напрямки-то сказать ему что, мол, отец, делаешь, язык не поворачивается – срамота. Чужие люди здесь, работники.
И пошла тут жизнь. Что каторга? Ничего, судари мои, каторга не значит. Били же мы Марью, покойницу. Страдалица была, мученица! И родитель бьет: зачем от него бегает. И я с горя бью – все мне кажется, что она виновата, сама к нему ластится. И этак-то двадцать годов! Бессрочная!
Старик отвернулся, утер слезы. Голос его дрожал и звенел:
– За Марью Господь Бог меня и наказал. За Марью я и несу свой крест. И заслужил. И мучаюсь – как она, мученица, мучилась. До самой смерти, покойница, мне не признавалась. Стыдно было. «Это, – говорит, – Лешенька, ты так только думаешь. Ты, Лешенька, – говорит, – не думай, не мучь себя. Батюшка, он строгий, он только за работу взыскивает. Ты не думай». А какое там «не думай». У самой слезы в три ручья. Бью, себя не помню – а она хоть бы крикнула, нешто невинные так терпят? Слезами давится и свое только твердит: «Лешенька, не мучай себя, не думай!»
Зимой в избе ночь лежишь – не спит родитель, слышу, как не спит, ворочается, сопит. Сна на него нету. И я не сплю. И Марья не спит, дрожит вся. Извините, встанет куда, пойдет, слышу, и родитель с палатей тихонько лезет. Чисто за горло меня схватит. «Куда, – говорю, – батюшка?» – «А тебе, – говорит, – что? Ишь, полунощники, не спят, шляются! Еще избу зажгут. Пойтить поглядеть!» – «И я, мол, батюшка, с вами!» – «Лежи уж!» – говорит. Одначе, иду.
Колокол у нас в село везли. Так он дома остался, подсоблять не пошел. «Идите, – говорит, – вы подсобляйте, а у меня поясница что-то болит». Пошли, все глядят, посмеиваются. Потому дело ясное…
– Почему ж дело ясное?
– Примета есть по крестьянству у нас. Как снохач помогать возьмется – колокол с места не сдвинешь. Пришел я с помощи домой. «Что ж, батюшка, – спрашиваю, – колокол везти не пошли? Нас только срамите!» Тут я только один раз ему про это и сказал. Темней ночи стал старик. «Ты, – говорит, – мне глупостей говорить не смей. А то возьму орясину, да орясиной! Сказано, поясницу ломит». А какая там поясница! Просто боялся, чтоб народ от веревки не отогнал: «Федулыч, мол, отойди, не твое совсем дело». Потому, как мы навоз свой от людей ни хоронили, да нешто от людей что ухоронишь? Все про наши дела знали. Срамота.
А у меня уж сынок Николушка подрастает. Все понимает. И ведь что за старик был! Ведь уж, почитай, старуха Марья-то стала – так мы ее уходили. Краше в гроб кладут. А он все к ней. Так, покеда совсем в гроб не забили, грех-то и шел.
Старик едва сдерживался от слез. Долго молчал, пока собрался с силами продолжать:
– Могутный был старик. Смеялся когда: «Мне бы, говорит, опять жениться, и то в пору». Померла Марья, повдовствовал я, и пришла пора Николушку женить. Невесту ему взяли из хорошего дома. Скромная была девушка, хорошая. И что ж бы вы думаете, он задумал? Не пес? – Старик даже плюнул с омерзением. Руки у него дрожали, голова ходуном ходила: – Не пес? Смотрю, в город поехал, гостинцев всем навез, а Насте отдельно. «Это, – говорит, – тебе, умница. Почитай дедушку!» Смотрю – плачет Настя. «С чего?» – спрашиваю. «Так!» – говорит. А сама разливается. Смотрю, куда Настя, туда и он плетется. Вижу я, он и насчет Насти свое удумал.
Страх и ужас, судари мои, меня взял. Голова кругом пошла. «Что ж это, – думаю, – я всю жизнь промучился, теперь Николушке моему так же мучиться? Когда ж этому конец будет?» Вижу, дальше да больше, подбирается к Настюшке. Тут я Николушке и открылся: все ему и рассказал, что с его матерью было. Трясся Николушка, плакал. «Слухом-то, – говорит, – я про наш дом это слыхал. А только не верил». – «Теперь, – говорю, – нечего уж об этом тужить. Надо за Настюшкой следить!»
Думали, думали: что делать? Хотели делиться. Куда тебе! «Ишь, – говорит, – что надумали! Я тебя, дармоеда – это на Николушку-то, – кормил, поил, а ты этаку ко мне благодарность? Этаку работницу из дома уводить? Это я, – говорит, – знаю, чьи все штуки! Это он тебя, старый хрен – это на меня-то, – учит. Все хочется по своей волюшке, своим умом пожить. Смотри, – говорит, – не пришлось бы в кусочки под старость лет за твои штуки пойти, ежели не угомонишься! А на раздел нет моего благословения. Покеда не помру дома не нарушу!»
Видим, одно остается – следить, чтобы чего не случилось, не попустить. И пошли мы за ним везде следом. Жнитво было. Настюшка жала так отдельно, полосочку в яру. Небольшой этакий яр был, ложбиночка. Там она и жала. Прихожу это я домой. «Где батюшка?» – спрашиваю. «Ушел!» – говорят. Так у меня и екнуло. Я к Николушке: «А ну-ка, мол, Николушка, пройдем к ярику. Неладно что-то, родитель из дому ушел».
Побегли мы к ярику. Прибегаем – а он Настюшку-то борет. Волосья у ней растрепаны, рубаха – в одной рубахе у нас жнут, жарко – разодрана. Отбивается Настюшка. А он ее цапает. Вырвалась от него, бежать бросилась – а он схватил, тут на меже валялась коряжина, да за ней с коряжиной. «Добром, – говорит, – лучше!»
Тут мы и выбегли. «Стой!» – кричим. Увидал он нас, затрясся, озлился. «Вы, – кричит, – черти, тут что?!» Свету я не взвидел: Настюшка стоит в драной рубахе – срамота! Подхожу. «Не дело, – говорю, – старик, надумал, не дело!» А он на меня. «А, – говорит, – опять ты меня учить?! Всю жизнь учил и теперь учить будешь? Вон, – говорит, – из моего дома! Пусть Николка с Настасьей остаются. А ты с глаз моих долой! Довольно мне тебя кормить, дармоеда!»
«Ну уж нет, – говорю, – старик, будет! Это тебе не Марья!» А сам все к нему ближе да ближе. Еще пуще взбесился. «Что ты, – кричит, – мне Марьей своей в глаза все тычешь?! Велика невидаль! Потаскуха была твоя Марья. Со всей деревней путалась! Вон!» – кричит. Да коряжкой-то на меня и замахнулся.
Не помню уж я, как случилось. Выхватил коряжину у него из рук да по голове его. Он и присел. А я на него да за глотку. Помню только, что трясся весь. И уж так-то он мне был противен, так гадок.
«Пришел, – говорю, – старик, твой час!»
«Алеша, – говорит, – не буду!»
«Раньше, – говорю, – старик, об этом бы подумать».
Да и стиснул ему глотку… Стиснул – и держу. Держу и сам ничего не вижу, не понимаю. Уж тогда очнулся, Николушка меня за руку трясет.
«Тятенька, – говорит, – вы дедушку задушили».
«Туда ему и дорога! – говорю. – Грешник». Так-то дело все было…
– Ну а присяжным, старик, ты все это рассказал?
– Нет, зачем же. Да я и не в сознании судился.
– Почему же не сознался, не рассказал всего?
– Да как вам сказать? Первое, что, мол, свидетелей не было. «Не я, да не я». А второе, боялся Николушку с Настей запутать. Люди молодые, им жить, а мое дело стариковское. А потом… что ж этакий срам-то на люди выносить…
– Ну а сын твой никакого участия в этом не принимал?
– В этом, что я сделал? Нет-с. Видеть – видел, а убивал я один. Мне таить нечего. Теперь уж все одно. Сказал бы, если б это было. Все равно. Они уж померли. Вскоре, как меня засудили, Николушка помер, а за ним и Настасья… Все свое отмаялись и померли, один только я остался и маюсь!.. – улыбнулся старик своей грустной и виноватой улыбкой. – Маюсь да за Марьину душу молюсь. Может, хоть там ей хорошо будет. А здесь что!.. Безответная была мученица…
Шкандыба
Вечному каторжнику Шкандыбе – 64 года. Это рослый, крепкий, здоровый старик.
Шкандыба – сахалинская знаменитость. Его все знают. Он отбыл 24 года «чистой каторги» и ни разу не притронулся ни к какой работе.
– Вот те и приговор к каторжным работам! – похохатывает он.
Его драли месяцами каждый день, чтобы заставить работать. Ни за что!
Сколько плетей, сколько розог получил этот человек! Когда он, по моей просьбе, разделся – нельзя было без содроганья смотреть на этот сплошной шрам. Все тело его словно выжжено каленым железом.
– Я весь человек поротый! – говорит сам про себя Шкандыба. – Булавки в непоротое место не запустишь: везде порото. Вы извольте посмотреть, я суконочкой потру. Где потереть прикажете?
Потрет суконкой там, где укажут, – и на теле выступают крест-накрест полосы – следы розог.
– Человек клетчатый! Кожа с рисунком. Я кругом драный. С обеих сторон. Чисто вот пятачок фальшивый, что у нас для орлянки делают. С обеих сторон орел. Как ни брось, все орел будет! И с одной стороны орел, и с другой. Так вот и я.
– Как же так – с обеих сторон драный?
– А так-с. Господин смотритель на меня уж очень осерчал: зачем работать не хочу. «Так я ж тебя!» – говорит. Драл, драл, не по чем драть стало. «Перевернуть, – говорит, – его, подлеца, на лицевую сторону». Чудно! По животу секли, по грудям секли, по ногам. Такого даже и дранья-то никто не выдумывал. Уморушка! Шпанка, так та со смеху дохла, когда я этак-то на кобыле лежал. Необыкновенно!
– А работать все-таки не пошел?
– Нашли дурака!
Шкандыба по профессии мясник. В первый раз был приговорен на 12 лет за ограбление церкви и убийство. Затем бежал, попался и в конце концов «достукался до вечной каторги».
Сначала его отправили на Кару, на золотые прииски. Это были страшные времена. В разрезе, где работали каторжане, всегда наготове стояла кобыла. При каждом разрезе был свой палач, дежуривший весь день.
Шкандыбу привели на работу. Он решительно отказался:
– Что это? Землю копать? Не стану.
– Как – не станешь?
– А так. Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.
Шкандыбе в первый день дали 25 плетей. Во второй – 50. В третий – 100 и чуть живого отнесли в лазарет Выздоровел, привели – опять то же:
– Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.
Опять принялись драть, опять отправили в лазарет.
Наконец устали – прямо-таки устали – биться со Шкандыбой и отправили его на Сахалин.
На Сахалине Шкандыба прямо заявил:
– Работать не буду. И не заставляйте лучше.
– Ну так драть будем!
– С полным моим удовольствием. Ваше полное право. А работать вы меня заставить не можете.
Шкандыбу переводили из тюрьмы в тюрьму, от смотрителя к смотрителю, всякий раньше хвалился:
– Ну, у меня не то запоет!
И всякий потом опускал руки.
Один из самых ретивых смотрителей К. рассказывал мне:
– Да вы понятия иметь не можете, что это за человек. Взялся я за него. Каждый день 30 розог – да ведь каких! Порция. Прихожу утром на раскомандировку. Кобыла стоит, палач, розги. Вместо «здравствуйте!» – первый вопрос: «Шкандыба, на работу идешь?» – «Никак нет!» – «Драть!» Идет и ложится. До чего ведь, подлец, дошел. Только прихожу, еще спросить не успею, а он уж к кобыле идет и ложится. Плюнул!
Другой смотритель, тоже ретивый, которому давали Шкандыбу на укрощенье, говорил мне:
– Одно время думали, может, он какой особенный, к боли нечувствительный. Доктору давали исследовать. «Нет, – говорит, – ничего, чувствительный». Драть, значит, можно.
Спектакли, которые ежедневно по утрам Шкандыба давал каторге, составляли развлечение для тюрьмы. Глядя на него, и другие храбрились, молодечествовали и смелей ложились на кобылу.
Кроме того, каторга дерзила:
– Что вы, на самом деле, ко мне пристаете с работой? Вы, вон, подите Шкандыбу заставьте работать! Небось, не заставите!
Шкандыба давал заразительный пример.
Его просили уж работать хоть для приличия:
– Шкандыба, черт, хоть метлу возьми, двор подмети! Вот и вся тебе работа!
– Не желаю. Чего я буду мести? Не я насорил – не я и мести буду. Я что насорю – сам за собой приберу.
– Ну, не мети, черт с тобой! Хотя метлу-то в руки возьми!
– Зачем мне ее в руки брать? Она не маленькая. И одна в углу постоит. Ей не скучно: там другие метлы есть.
– Раз, впрочем, топор в руки взял! – смеется Шкандыба.
– Работать хотел?
– Нет, надзирателю голову отрубить надо было. Надзиратель такой был, Чижиков. Выслужиться хотел. «Я, – говорит, – его заставлю работать. Не беспокойтесь. Что его драть? – процедура длинная! Я его и так, кулаком по морде». Раз меня в рыло, два меня в рыло. Походя бьет. «Дух, – говорит, – я из тебя вышибу!» – «Смотри, – говорю, – чтоб тебе кто в рыло не заехал!» – «Я, – говорит, – не опасаюсь!» – «Ну а я, – говорю, – опасаюсь!» Пошел, взял топор, хлясть его по шее. Напрочь хотел башку отрубить, – вчистую. Тогда уж никто в рыло его не смажет.
– И что же, насмерть?
– Жалко, жив остался. Наискось махнул. А еще мясником был, туши рубил. Раз, и готово. А тут не сумел этакого пустого дела сделать. Топор сорвался, стало быть!
За это Шкандыбу приковали к стене и приговорили к вечной каторге.
– Сижу у стены прикованный: «Что, мол, взяли? Работаю?»
Замечательно. Все делали со Шкандыбой. Только одного не пришло никому в голову: освидетельствовать состояние его умственных способностей.
А странностей у Шкандыбы, и помимо упорного нежелания работать, много.
То он начинает вдруг петь во все горло. То разговаривает, разговаривает – вскочит и убежит, как полоумный.
– Юродствует!
– Сумасшедшим прикидывается, чтоб не драли!
– Нагличает: «Вот, мол, все работают, а я песни орать буду».
Так решало тюремное сахалинское начальство, а когда на Сахалине появились действительно гуманные врачи, готовые взять под свою защиту больного, борьба со Шкандыбой была уже кончена: на него «плюнули» и зачислили богадельщиком, чтоб хоть как-нибудь оформить его безделье.
А, впрочем, Бог его знает, можно ли признать Шкандыбу сумасшедшим. Ненормального, странного в нем много, но сумасшедший ли он?
В одну из бесед я спросил Шкандыбу:
– Скажи на милость, чего ж ты отказывался от работы?
– А потому что несправедливо. Справедливости нет – вот и отказывался.
– Ну как же несправедливо? Ведь ты сам говоришь: церковь ограбил, человека убил?
– Верно!
– Присудили тебя к каторге.
– Справедливо. Не грабь, не убивай.
– Ну и работай!
– А работать не буду. Несправедливо.
– Да как же несправедливо?
– А так! Вон Ландсберг двух человек зарезал – а его заставляли работать? Нет, небось! Над нами же командиром был. Барин! Он инженер, или, там, сапер какой-то, что ли, дороги строить умеет. Он не работает, он командует. А я работай! За что же, выходит, должен работать? За то, что человека убил? Нет! За то, что я дорог строить не умею. Так разве я в этом виноват? Виноват, что меня не учили? Нет, брат, каторга – так каторга, для всех равна! А это нешто справедливость? Приведут арестантов: грамотный – в канцелярии сиди, писарем, своего же брата грабь. А неграмотный – в гору, уголь копай. За что ж он страдает? За то, что неграмотный! Нешто его в этом вина? Справедливо?
– Потому ты и не работал?
– Так точно!
– Ну а если б справедливость была и всех бы одинаково заставляли работать – ты бы работал?
– А почему бы и нет? Знамо, работал бы. Как же не работать? Главное – справедливость. Я потому и Чижикову голову снести хотел. За несправедливость! Бей, где положено. Драть по закону положено – дери! Меня каждый день драли – я слова не сказал: справедливо. Потому – закон. А по морде бить в законе не показано – и не смей. Ты незаконничаешь, и я незаконничать буду. Ты меня в рыло – я тебя топором по шее. А что справедливо, я разве прекословлю? Сделай твое одолжение. Что хошь, только, чтоб справедливо!
Так и отбыл Шкандыба свои 24 года «чистой каторги», не подчиняясь тому, чего не считал справедливым.