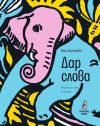Читать книгу "Сахалин. Каторга"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Артисты
Огарок, прилепленный к скамье, освещает самую оригинальную уборную в мире.
Торопясь к перекличке, артисты переодеваются в арестантские халаты. Те, которые играли кандальников в «Беглом каторжнике», покуривают цигарку, переходящую из рук в руки, и ожидают платы от антрепренера.
Им переодеваться нечего: их костюмы, их кандалы – не снимаются.
Кулисы всюду и везде – те же кулисы. То же артистическое самолюбие.
– Благодарю вас! – крепко жмет мою руку Сокольский, когда я расхваливаю его чтение «Записок сумасшедшего». – Вы меня обрадовали. Все-таки хоть и такой театр, но все же это что-то человеческое… А я, признаться, сильно трусил: играть перед литератором, перед понимающим человеком… Так ничего себе?
– Да уверяю вас, что очень хорошо! Вы никогда не были актером, Сокольский?
– Актером – нет. Но любительствовал много. В Секретаревке, в Немчиновке (Любительские театры в Москве – В.Д.). Ведь я из Москвы. Вы тоже москвич? Ах, Москва! Малый театр! Ермолова Марья Николаевна! Бывало, лупишь из «Скворцов» (студенческие номера] в Малый театр на верхотурье. А помните, «Парадиз» привозил Барная, Поссарта? Я и теперь его в Ричарде словно перед глазами вижу. Монолог этот после встречи с Елисаветой… «На тень свою мне надо наглядеться!»
– Сокольский, черт! На перекличку иди! Опять завтра в кандальную посадят! – высунулась из-за занавески физиономия антрепренера.
– Сейчас… сейчас… Вы меня извините. К перекличке надо. Вот если бы вы позволили… Да уж не знаю… Нет, нет, вы меня извините!..
– Что? Зайти ко мне?..
– Д-да…
– Сокольский, как вам не стыдно?
– Ну, хорошо, хорошо. Благодарю вас. Так завтра, если позволите…
– Да иди же, дьявол, опять будешь в кандальной – из-за тебя представление отменят!
– Иду… иду… Значит, до завтра!
Сокольский побежал на перекличку в тюрьму.
– А вы отлично поете куплеты! – говорю я Федорову.
Федоров сияет:
– При театре, знаете, поднаторел… А вы к нам из Одессы изволили, говорят, приехать. Кто теперь там играет?
– Труппа Соловцова.
– Николая Николаевича? Ну, как он?
– А вы и его знаете?
– Его-то? Еще с Корша помню. У Корша я парикмахером был. Да кого я не знаю! Марью Михайловну (Глебову – В.Д.) сколько раз завивал. Рощин-Инсаров – хороший артист. Я ведь его еще когда помню. Отлично Неклюжева играет. Касилевский Иван Платоныч – строгий господин: парик не так завьешь – беда!
Федоров смеется при одном воспоминании, и у него вырывается глубокий вздох:
– Хоть одним бы глазком посмотреть на господина Киселевского в «Старом барине»! Эх!..
– Абрашкин, чего на перекличку не идешь?
Но Абрашкин, артист на роли инженю, стоит, переминается с ноги на ногу, дожидается тоже комплимента.
– А здорово, брат, это ты представляешь! – обращаюсь я к нему.
Глупая физиономия Абрашкина расплывается в блаженную улыбку.
– Я, ваше высокоблагородие, на руках еще могу ходить, – место только не дозволяет!
– Комедиянт, дьявол! – хохочут каторжане.
Абрашкин со счастливой рожей машет рукой:
– Так точно!
А ведь этот добродушный человек – резал.
Бродяга Сокольский
– К вам Сокольский. Говорит, что приказали прийти! – доложила мне рано утром квартирная хозяйка.
– Где же он?
– Велела на кухне подождать.
– Да просите, просите!
Если бы улыбка не была в этом случае преступлением, – трудно было бы удержаться от улыбки при взгляде на штатский костюм, в который облачился для визита ко мне Сокольский.
Рыжий, весь рваный пиджак, дырявые штиблеты, необыкновенно узкие и короткие штаны, обтягивавшие его ноги, как трико, – совсем костюм Аркашки.
– А я к вам в штатском, чтоб не смущать вас арестантским халатом, – сказал он.
– Да будет вам, Сокольский, о таких пустяках. Садитесь, будем пить чай!
Сначала разговор вязался плохо. Сокольский сидел на кончике стула, конфузливо вынимал из кармана белую тряпку, которую достал вместо платка.
Но мало-помалу беседа оживилась. Оба москвичи, мы вспомнили Москву, театр, приезжих знаменитостей.
Оба забыли – где мы.
Он оказался горячим поклонником Поссарта, я – Барная. Мы спорили, кипятились, говорили горячо, громко, так что хозяйка несколько раз с недоумением, даже с испугом заглядывала в дверь. «Чего, мол, это они? Не наделал бы он приезжему господину дерзостей!»
Я продиктовал Сокольскому «Записки сумасшедшего», которые знал наизусть. Записывая их, Сокольский от души хохотал над бессмертными выражениями Поприщина.
Разговор перешел на литературу. Сокольский особенно любит, знает и понимает Достоевского. Помнит целые страницы из «Мертвого дома» наизусть.
– Ведь я сам хотел написать «Записки из мертвого острова». Конечно, это был бы не «Мертвый дом». Куда до солнца! Но все-таки хотелось дать понять, что такое теперешняя каторга. Думал, сам погиб, но пусть хоть как-нибудь пользу принесу. Многие из интеллигентных этим увлекаются. Да потом… бросают. Здесь всё бросают… У всех почти начало есть… если только на цигарки кто не искурил! Вот и у меня. Уцелело. Нарочно вам принес. Возьмете – рад буду.
Мы заговорили о разнице между «Мертвым домом» и теперешней каторгой.
Сокольский говорил горячо, страстно, увлекаясь, как человек, которому на своих плечах пришлось вынести все это.
– Даже не «Мертвый дом», – говорил он, вскочив со стула и энергично жестикулируя, – даже не он! Там даже что-то было. Вспомните этот ужас, это отвращение к палачу. А здесь даже и этого нет… А эти дивные строки Федора Михайловича…
В эту минуту дверь отворилась, и явившийся ко мне с визитом смотритель поселений на полуфразе перебил Сокольского.
– Сбегай-ка, братец, на конюшню. Вели, чтоб мне тройку прислали!
– Слушаю, ваше высокоблагородие! – выкрикнул Сокольский и со всех ног бросился из комнаты.
Я схватился за голову.
– Зачем вы это?
Смотритель глядел на меня во все глаза.
– Что зачем?
– Да разве нельзя было кого другого послать?.. Хоть бы из уважения ко мне…
Он расхохотался:
– Да вы что это? Гуманничать с ними думаете? С мерзавцами? Да поверьте вы мне: мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы – и больше ничего! Что ему сделается?
С Сокольским мы виделись довольно часто. Он деятельно, охотно мне помогал знакомиться с каторгой, собирать песни, составлять словарь арестантских выражений. Но каждый раз, как я заговаривал о чем-нибудь, кроме каторги, он весь как-то съеживался и бормотал:
– Нет, нет. Не надо об этом… Ни о чем не надо… Вы уедете, а мне еще тяжелей будет… Не надо!
Одну странность я заметил в Сокольском.
Он словно чего-то не договаривал… Придет, посидит, повертится на стуле, поговорит о каких-то пустяках и уйдет… Словно давится он чем-то, что никак не может сойти у него с языка.
Старался навести его на этот разговор:
– Сокольский, вы, кажется, мне что-то хотите сказать? Пожалуйста, откровенно…
– Нет, нет… Ничего, ничего… Право, ничего… До свиданья, до свиданья!
Становилось тягостно.
– Сокольский! – как-то не без страха начал я. – Я скоро уезжаю из Корсаковска. Вы мне много помогли в моей работе… Я за это ведь получаю гонорар и считаю своим долгом…
На лице Сокольского отразилось страдание. Во взгляде, который он кинул на меня, было много злобы.
– К вам идет кто-то… идет…
И Сокольский выбежал из комнаты.
– Да Боже мой! Что ж это все за муки?! – должно быть, вслух крикнул я, потому что хозяйка отворила двери и спросила:
– Чаю прикажете? Звали?
Через несколько времени встречаю моего знакомого, «адвоката за каторгу», дурачка Шапошникова.
– Слушайте, Шапошников. Вы – приятель Сокольского. Он что-то имеет ко мне, да все…
Шапошников пристально посмотрел мне в глаза и захохотал:
– Подстрелить вас хочет, ваше высокоблагородие. Да все не решается!
– Как подстрелить?! Какой вздор говорите!
– Ну как подстреливают? Денег попросить семь целковых. Татары насели. Он тут майданщику да другим, за водку и за разное, семь рублей должен. Узнали, что он к вашему высокоблагородию ходит, и насели:
«Проси да проси у барина». Избить до полусмерти обещают. А он давится, шельма! Ха-ха-ха! Давеча от вас в тюрьму как угорелый прибег. «Догадался!» – кричит. Ха-ха-ха! В каторге – да этакие нежности!
– Да нате, нате, вам, Шапошников, пойдите, сейчас же отдайте… Не говорите ему про наш разговор… Скажите, что я вам дал, лично вам… Сделайте там, как хотите…
Во взгляде Шапошникова на одно мгновение сверкнула какая-то жалость, но он сейчас же прищурил глаза и посмотрел на меня с иронией:
– Вы кого зарезали?
– Кто? Я?
– Вы?
– Я никого не резал.
– Никого?.. Так за что же вас на Сахалин послали?
И Шапошников снова расхохотался своим странным смехом, от которого у непривычного человека мурашки по телу пробегают.
Преступления в Корсаковском округе
– Мы в тайгу иначе не ходим, как с ножом за голенищем! – уверяли меня сами каторжные.
Вот вам то, что лучше всяких статистических цифр говорит об имущественной и личной безопасности на Сахалине.
Когда разгружаются пароходы, – каторжных на борт ни за что не пускают.
– Все уволокут, что попадется!
У моей квартирной хозяйки поселенцы успели стащить в кухне со стола деньги, едва она отвернулась. Несмотря на то, что у меня сидел в это время их начальник – смотритель поселений.
– Ваше высокоблагородие, простите их! – молила квартирная хозяйка, когда виновные нашлись. – Простите, а то они меня подожгут.
К ее просьбе присоединился и я:
– Да бросьте вы их! Ведь действительно сожгут дом, по миру пойдет баба.
Смотритель поселений долго настаивал на необходимости наказания:
– Невозможно! Под носом у меня смеют воровать. До чего ж это дойдет?! – Но потом энергично плюнул и махнул рукой: – А ну их к дьяволу! Ведь действительно – с голоду, с голоду все!
Кражи, грабежи, воровство – сильно развиты в округах. Но убийства с целью грабежа как-то меньше, чем в других округах.
Незадолго до моего приезда тут произошло четыре убийства. Один поселенец – похороны которого я описывал, – хороший, работящий, смирный парень, зарезал из ревности свою сожительницу и отравился сам. Женщина свободного состояния отравила своего мужа, крестьянина из ссыльных, за то, что он не хотел ехать на материк, куда уехал ее милый из ссыльнопоселенцев. Один поселенец зарезал сожительницу и надзирателя. Наконец, четвертое преступление, с целью грабежа, совершено в самом посту. Убит зажиточный писарь из ссыльнокаторжных. У него водились деньжонки, – и его же сожительница навела убийц.
Она не сознается, но когда я беседовал с ней один на один в карцере, где она содержится, – она озлобленно ответила:
– А чего ж на них смотреть-то, на чертей? Не законный, чай? Поживет, кончит срок – да и поминай его как звали! Куда наша сестра под старость лет, без гроша денется!.. – И, помолчав, добавила: – Не убивала я. А ежели б и убила, не каялась бы. Всякий о себе тоже должен подумать!
Вот вам сахалинские нравы.
Отъезд
Пароход готов к отплытию.
По Корсаковской пристани, заваленной мешками с мукой, движется печальная процессия. На носилках, в самодельных неуклюжих креслах, несут тяжких хирургических больных, отправляемых для операции в Александровск.
Страдальческие лица… А впереди еще путешествие по бурному Татарскому проливу.
Тут же на пристани разыгрывается трагедия. Или комедия? Трагикомедия…

Вид на пост Корсаковский
Агафья Золотых уезжает с Сахалина на родину и прощается со своим сожителем, ссыльнопоселенцем из немцев.
Историю Агафьи Золотых можно охарактеризовать двумя строками поэта:
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная…
Агафья Золотых – это ее бродяжеское, не настоящее имя – попала на Сахалин добровольно.
Ее друг сердца был сослан в каторгу за подделку монеты. Чтобы последовать за ним на каторгу, она назвалась бродягой. Ее судили как не помнящую родства, сослали на Сахалин, – здесь ее ждало новое горе. Тот, ради кого она пошла на каторгу, умер.
Агафья Золотых открыла свое родословие и просила возвратить ее на родину. А пока «ходили бумаги» – ведь есть-то что-нибудь надо! – Агафье пришлось сойтись с поселенцем, пойти в сожительницы.
Понемногу она привыкла к сожителю, полюбила его, – как вдруг приходит решение возвратить Агафью Золотых на родину в Россию.
– Прощай, Карлуша! – говорит, глотая слезы, Агафья. – Не поминай лихом. Добром, может, не за что!
– Прощайте, Агашка! – отвечает немец, молодой парень.
Катер отчаливает, через полчаса приходит обратно, и на пристань выходит… Агафья Золотых.
На пароходе появление Агафьи Золотых произвело целую сенсацию.
– Как Агафья Золотых?! Какая Агафья Золотых?! Да ведь мы в прошлом году еще увезли Агафью Золотых! Отлично помним! Из-за нее даже переписка была. Как только пришли в Одессу, Агафья Золотых, не ожидая, пока за ней явится полиция, сбежала с парохода!
Оказывается, Агафья Золотых, не желая уезжать от человека, которого она успела полюбить, «сменялась именами», – и под ее именем уехала и гуляет себе по Руси какая-то ссыльнокаторжная. (И это несмотря на фотографические карточки в деле.)
Теперь Агафью Золотых решительно отказываются принять на пароход.
– Да ведь это настоящая Агафья Золотых! Ее все здесь знают! То была какая-то ошибка! – говорит тюремная администрация.
– А нам какое дело! Станем мы по два раза одну и ту же Агафью Золотых возить!
Агафью возвращают на берег.
– Ну, Карлуша, видно, судьба уж нам вместе жить, – говорит Агафья. – Идем домой!
– Зачем же я с вами пойду, Агашка? – рассудительно отвечает немец. – Я буду брать себе другую бабу, Агашка!
В ожидании отъезда сожительницы немец успел присмотреть себе другую, условился, договорился.
Агафья качает головой:
– Был ты, Карлушка, подлец – подлецом и остался. Тьфу!
– Агафья! Агафья! Куда ты? Стой! – кричит ей кто-то из служащих. – Садись в катер! Я попрошу капитана, может, и возьмет!
Агафья поворачивается на минутку.
– А идите вы все к черту, к дьяволу, к лешману! – со злобой, с остервенением говорит она и идет.
Куда? «А черт ее знает, куда!» – как говорят в таких случаях на Сахалине. Еще раз – в третий раз уже – жизнь разбита…
Пора, однако, на пароход.
– Все готово! – говорит… персидский принц.
Настоящий принц, которому письма с родины адресуются не иначе, как «его светлости».
Он осужден вместе с братом за убийство третьего брата, отбыл каторгу и теперь что-то вроде надзирателя над ссыльными.
Он распоряжается на пристани, очень строг и говорит с каторжными тоном человека, который привык приказывать.
– Алексеев, подавай катер! Пожалуйте, барин! – помогает бывший принц сойти с пристани.
Последняя баржа, принимающая остатки груза, готова отойти от парохода.
– Так не забижают, говорили, надзиратели-то?! – кричит с борта один из наших арестантов – из тех, которых мы везем.
– Куды им! – хвастливо отвечает с баржи старый каторжанин.
Баржа отплывает. Гремят якорные цепи. С мостика слышны звонки телеграфа. Раздается команда:
– Право руля!
– Право руля! – как эхо вторит рулевой.

Пристань для нагрузки каменного угля
– Так держать!
– Так держать!
«Ярославль» дает три прощальных свистка и медленно отплывает от берегов.
Прощай, Корсаковск, такой чистенький, веселый, «непохожий на каторгу» с первого взгляда – так много горя, страданий и грязи таящий внутри.
«Ярославль» прибавляет ходу. Берега тонут в туманной дали. А впереди – «настоящая каторга», Александровск, где содержатся все наиболее тяжкие, долгосрочные преступники. Рыковск, Онор, тайга, тундра, рудники…
– Корсаковск – это еще что! Рай! – говорит один из едущих с нами сахалинских служащих. – Разве Корсаковск – каторга? Это ли Сахалин?
Все, что я вам рассказал, – это только прелюдия к «настоящей» каторге.
Настоящая каторга
Мы с вами на пароходе «Ярославль» у пристани Александровского поста, главного административного центра острова, где находится самая большая тюрьма, где сосредоточена «самая головка каторги», то есть все наиболее долгосрочные и тяжкие преступления.
Сюда два раза в год пристает «Ярославль» «с урожаем порока и преступления». Здесь этот «урожай» выгружается, здесь уже вновь прибывшие арестанты распределяются и отсюда рассылаются по разным округам.
Сирена пронзительно орет, словно пароход режут, чтобы поживее распоряжались на берегу.
Холодно, дует пронзительный ветер, разводит волнение. Крупная зыбь колышет стоящие у борта баржи. Пыхтит буксирующий их маленький катерок тюремного ведомства.
Тоскливо на душе. Перед глазами унылый, глинистый берег. Снег кое-где белеет по горам, покрытым, словно щетиной, колючей тайгой.
– Это вчера навалило, снегу-то, – поясняет кто-то из служащих, приехавших на пароходе за арестантами. – Совсем было сходить стал, да вчера опять вьюга началась.
Сегодня как будто потеплее, а завтра опять вьются в воздухе белые мухи. Туманы. Пронизывающие ветры. И так – до начала июня. Это здесь называется «весна».
Направо хлещут и пенятся буруны около Трех Братьев – трех скал, рядом возвышающихся над водой. В море выдалась огромная темная масса мыса Жонкьер, с маяком на вершине. В темной громаде, словно отверстие от пули, чернеет вход в тоннель. Бог его знает, зачем и кому понадобился этот тоннель. Зачем понадобилось сверлить эту огромную гору.
– Для чего он сделан?
– А чтоб соединить пост Александровский с Дуэ.
– Что ж, ездит кто этим тоннелем?
– Нет. Ездят другой дорогой – вот там, горами. А нужно везти что – возят на баржах, буксируют камерами. Да по нем и не проедешь, по тоннелю. Он в извилинах.
Тоннель вели под руководством какого-то господина, который, вероятно, никогда и в глаза не видал никакого тоннеля. На Сахалине все так: там еще и теперь арестантами заведуют горные инженеры, горными работами – смотрители тюрем, рыбными промыслами – люди, никогда этим делом не занимавшиеся, а устройство хозяйства поселенцев возложено на прогоревших помещиков, которые только тем и замечательны, что расстроили даже свое собственное хозяйство. Сахалин, за немногими исключениями, – это в полном смысле слова сборище всевозможных неудачников, людей, ни к какому делу не пригодных, выброшенных жизнью за борт.
Господин, вообразивший себя строителем тоннеля, по сахалинскому обычаю ровно ничего не понимал в деле, за которое взялся. Как и всегда, тоннель повели сразу с обоих концов, с таким расчетом, чтобы партии работающих встретились. Но люди все дальше и дальше закапывались в гору, а встречаться не встречались. Было ясно, что работающие партии разошлись. К счастью, среди ссыльнокаторжных нашелся человек, понимающий дело, – бывший сапер Л., фамилия которого в свое время прогремела на всю Россию и до сих пор еще не забыта. (Ландсберг – подробнее о нем в отдельном очерке во второй части этой книги. – В.Д.) Ему и отдали под команду рабочих. Ценой неимоверных трудов и усилий удалось поправить ошибку: провели коридор вбок и соединили две разошедшиеся в разные стороны половины тоннеля.
Вернемся, однако, к разгрузке.
Арестантов первого отделения вывели на палубу. Присматриваются к унылым берегам. Сахалин, видимо, производит первое тяжелое впечатление. Вид оторопелый, растерянный.
Им сделали перекличку по фамилиям.
– Ну, теперь садись, ребята, – скомандовал офицер.
То есть «садись на баржу».
Арестанты, словно по команде, поджали ноги и… сели на палубе. И смех, и грех. Можно же до такой степени оробеть и смешаться.
По трапу один за другим, с мешками за плечами, спускаются в баржу каторжане. Баржу качает, арестанты в ней, ослабевшие на ноги благодаря долгому отсутствию моциона, не могут стоять и валятся друг на друга. Одна баржа наполнена, подводят другую – нагружают. И катерок, пыхтя и сопя, тащит качающиеся и бултыхающиеся баржи к пристани, далеко выдавшейся в море. А к пароходу уж ползет по волнам другой катерок с двумя с бока на бок переваливающимися посудинами. Разгрузка идет быстро – и наступает самый тяжелый момент. Из лазарета движется удручающего вида процессия. На каких-то самодельных неудобных креслах, на неуклюжих носилках несут больных. Доктора с озабоченными лицами хлопочут около процессии. На их лицах так и читается укор.
И это – перевозочные средства для больных.
Боже, какие измученные, какие страдальческие лица у больных! Одно из них словно и сейчас смотрит на меня. Обвязанная голова. Заострившиеся черты, словно у покойника, с застывшим выражением страдания и муки. Восковое лицо. Провалившиеся глаза, в которых еле-еле светится жизнь, словно погасающий огонек догорающего огарка. С губ его, белых и тонких, срывается чуть слышный стон, скорее жалобный вздох.
Это по большей части хирургические больные из лазарета Корсаковского поста, пересылаемые сюда за неимением в Корсаковском операционной комнаты. По нескольку месяцев ждали они операции, часто необходимой немедленно. А время уходило, надо было ждать открытия навигации. Какой добрый человек поднимет вопрос о необходимости, насущной необходимости, вопиющей необходимости, устройства при Корсаковском лазарете своего операционного зала?! Когда обратят внимание на то, что больные, нуждающиеся в трудных операциях, целыми месяцами должны ждать парохода и мучиться? От скольких напрасных мучений и страданий спасены будут тогда несчастные больные, сколько жизней сохранено!
По крутому, почти отвесному трапу, бережно, под наблюдением врачей, но, конечно, все же не без страданий – больных сносят в кувыркающуюся на волнах баржу.
Разгрузка кончена. Жалкий тюремный катерок доставляет нас на пристань.
Чувствуется, что вы приближаетесь к административному центру. Александровская пристань – это вполне благоустроенная пристань. Сигнальная мачта. Хорошенький домик, с канцелярией и командой для ожидающих катера чиновников. Несколько времени тому назад эту пристань разбило было вдребезги. Но горю помог все тот же истинный благодетель Сахалина по технической части – бывший каторжанин Л. Он перестроил пристань уже «как следует». На Сахалине вечно так: сначала сделают кое-как, а потом переделают «по-настоящему». Да и отчего бы и не делать таких опытов: рабочих рук много, и притом даровых.
По деревянному молу мы идем на берег.
На моле кипит работа. Каторжане из вольной тюрьмы таскают кули, мешки и ящики. Раньше нас пришел какой-то другой пароход и привез товары из Владивостока. Грузополучатели сидят тут же на своих ящиках и зорко поглядывают.
– Не стащили бы чего…
Нищая тюрьма тащит что может.
– Надзиратель, надзиратель! – раздается пронзительный крик, словно человеку к горлу нож уж приставили. – Надзиратель, чего ж ты не смотришь, куда он куль-то прет, оглашенный! Какой же ты надзиратель, ежели воруют, а ты не смотришь! Я смотрителю буду жаловаться.
– Ты куда это куль прешь, такой-разэтакий?!
– Черт же его, проклятого, знал, что это его. Я думал, туды его ташшыть надобно. Возьми куль, оглашенный. Ишь, прорвы на тебя нет, орет, анафема…
– Жулье!
– Положь мешок, положь мешок, говорят тебе! – слышится с другой стороны.
Среди этой суетящейся толпы, словно не замечая никого, медленно движется странная фигура.
Свита из серого арестантского сукна до пят похожа на подрясник. Он простоволос. Ветер треплет его белокурые волосы. Серо-голубые, светлые глаза устремлены на небо. На лице застыло выражение какого-то благоговейного восторга – словно он Бога видит там, в далеких небесах.
В одной руке у него верба, другая сложена как для благословения. Он весь унесся отсюда душой, не слышит ничего кругом, идет прямо, как будто кругом пусто и нет никого: его толкают, он не замечает.
– У-у, анафема! Пропаду на тебя нет.
Это несчастный сумасшедший Казанцев, у него религиозная мания. И зиму и лето он ходит вот так, с непокрытой головой, в длинной свите, похожей на подрясник, с высоко поднятой благословляющей рукой. Его нищие родные, пришедшие за ним на Сахалин, сделали себе источник дохода из «блаженненького», ходят за ним и выпрашивают милостыню на «божьего человека». В его лице, в его фигуре, в поднятой для благословения руке, в его походке, торжественной и мерной, словно он шествует к какой-то великой, важной цели, есть что-то трогательное, если хотите, даже величественное. Контраст между этим человеком, унесшимся больной душой далеко от этого мира, и кипящей кругом суетой нищих и несчастных – контраст очень сильный.
У конца мола противный лязг железа. Здесь работают, под конвоем часовых с ружьями, кандальные.
– Развязывай штаны! – кричит солдат, стоя перед высоким, мрачного вида, бородатым мужиком. – Сейчас развязывай штаны, говорят тебе!
– А сам и развязывай, ежели тебе есть охота, – спокойно и равнодушно отвечает кандальный. – Да ты не дерися! – кричит он, когда солдат исподтишка дает ему прикладом. – Ты чего дерешься, чувырло братское! Можно и тебе бока-то помять, косопузый.
– Пришить вас всех тут мало, всех, сколько есть дьяволов! Хлеб только казенный жрете, пропасти на вас нет, проклятых, – ругается солдат, весь покрасневший со злости, и принимается развязывать каторжанину исподнее платье.
– Так-то лучше. Давно бы так, – по-прежнему спокойно говорит каторжанин.
Этот тон, спокойный и равнодушный, особенно злит, раздражает, волнует, мучит и бесит солдата.
– Молчи лучше. Молчи, пока не пришиб.
– Много вас здесь, пришибал-то, найдется.
– Молчи! – кричит солдат, уже весь багровый и от злости, и от усилий развязать панталоны одной рукой: из другой нельзя выпустить ружье. – молчи!
– Да ты не дерись! – кричит опять каторжник, которому снова влетело в бок ружьем.
На мол с визгом выезжает с пригорка шибко разогнанная вагонетка. На ней сидят кандальники, а за нею еле поспевает, одной рукой поддерживая ружье на плече, другой – подобрав фалды шинели, конвойный.
– Тише, дьяволы!
– Ничего, пробегайся.
У входа на мол стоят дрожки, тарантасы с каторжными кучерами на козлах. На весь Александровский пост имеется только один извозчик из поселенцев, да и тот не занимается этим делом постоянно – не сто́ит: за делом ли, за бездельем, но все всегда ездят на казенных. Зато и достается же лошадям на Сахалине! Вот для кого здесь поистине каторжная работа. Целый день в Александровске по главной улице только и слышишь, что звон колокольцев, только и видишь, что бешено мчащиеся тройки господ служащих. «Вот, – думаешь себе, – какая, должно быть, деятельность кипит на этом острове». Если бы спросить у лошадей, они бы ответили, что служащие – народ очень деятельный.

Вид улицы в Александровском посту
Что это, однако, за странная группа, словно группа переселенцев, расположилась у стены казенного сарая? Старики, молодые, женщины, дети сидят на сундуках, на укладках, с подушками в руках, с образами, с жидким, скудным и жалким скарбом. Это – «беглецы с Сахалина». Новые «крестьяне из ссыльных», люди, окончившие срок каторги и поселенчества, получившие «крестьянство», а вместе с ним, и право выезда на материк. Заветная мечта каждого невольного (да и вольного] жителя Сахалина.
Распродав, а то и прямо бросив свои домишки, они стянулись сюда из ближайших и дальних поселений. Желанный, давно грезившийся во сне и наяву день настал. Свищет ветер, летают и кружатся в воздухе белые мухи, а они сидят здесь, дрожащие, посинелые от холода, не зная, когда их будут сажать на пароход. А сажать будут дня через три, не раньше. Никто не позаботился их предупредить об этом, никто не позаботился сказать, когда именно нужно явиться. И они будут мерзнуть здесь на ветру, на холоде, плохо одетые, с маленькими детьми, боясь пропустить посадку и остаться здесь, на проклятом острове.
– Милай, – ноет баба, – пусти хошь куцы. Мне бы ребенка покормить только. Махонький ребенок-то, грудной. Замрет не емши.
– Здесь и корми. Куда ж тебя еще.
– Холодно, милай; на этаком-то холоду нешто можно грудью кормить.
Таков «желанный день». Подойдем к этой полузамерзшей группе.
– Давно сидите?
– С авчирашняго дня. Авчирашняго еще числа парохода ждали. Дрогнем, и от вещей отлучиться нельзя: народ – шпанка, сейчас свистнет.
– А куда ж теперь, на материк?
– Так точно, на материк, ваше высокоблагородие.
– Ну, а что ж делать будете там, на материке?
– Да уж там, что Бог даст. Что Владивосток скажет.
– Да ведь на материке-то теперь, во Владивостоке, и своему-то народу делать нечего.
– Все-таки думается, там лучше. Все не Сахалин…
– Ну, а деньги у тебя на дорогу есть?
– Вот три рубля есть.
– Да ведь билет стоит не три рубля, а дороже.
– Может, капитан смилуется, трешницу возьмет.
– Да не может капитан, у капитана – тариф.
– Что ж, сдыхать здесь, что ли? Сдыхать на этом острове проклятом?
– Подайте, Христа ради, на билет, – слышится то там, то здесь.
Нищие у нищих просят милостыни.
В сторонке, отдельно от других, сидит старик на маленькой укладочке и плачет. Всхлипывает как ребенок, и слезы ручьем текут по его посиневшему, восточного типа лицу.
– Что с тобой, старик?
– Дэнга, бачка, домой на родына ехать нэт.
23 года ждал он этого дня. 23 долгих года. 23 года сахалинской каторги.
Его фамилия Акоп-Гудович. 25 лет тому назад этот маленький, несчастный, плачущий как ребенок старик – тогда, вероятно, лихой горец – участвовал в похищении какой-то девицы, отстреливался, вероятно, метко и попал на каторгу. 23 года мечтал он об этом дне и копил денег на отъезд. Накопил тридцать рублей, явился, и ему говорят:
– Куда ты. Нужно 165 рублей.
– Братья у меня в Эриванской губернии, жена осталась, дети теперь уж большие. Умирать хотим на родной сторона, – горько рыдает старик.
И сколько таких, как он, отбывших каторгу и поселение, мечтавших о возврате на родину, дождавшихся желанного дня, пришедших сюда и получивших ответ: «Сначала припаси денег на билет, а потом и возвращайся на родину»! И сидят они десятками лет на Сахалине, тоскуя о близких и милых, – они, искупившие уже свою вину и несущие все-таки тяжкую душевную каторгу.
Мимо нас проходит толпа каторжан. Это – наши, с «Ярославля». Они поворачивают налево по берегу, к большому одноэтажному зданию «карантина». На дворе карантина уже кишит серая толпа арестантов. А к пристани подходит еще последняя баржа, нагруженная арестантами, которые издали кажутся какой-то серой массой.