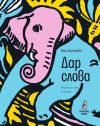Читать книгу "Сахалин. Каторга"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мне остается сказать еще об одном сорте «бахвальства», очень распространенном, с типичным представителем этого сорта бахвальства я вас сейчас познакомлю.
Захожу в тюрьму.
Вижу, арестанты собрались кучкой. В середине какой-то краснобай о чем-то горячо ораторствует.
Увидал меня и перестал.
– Помешал вам, что ли? Так уйду.
– Зачем, барин? Кака-така помеха… Валяй дальше! Барин тоже послухает… Больно интересно.
Рассказчик повествовал о том, как он бежал из тюрьмы.
Слегка, для приличия, пококетничав, продолжал:
– Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь караул, всю роту собрали, за мной: этакий рестант бежал! Бегут, а я от их. Они бегут, а я от их. Штыки сверкали, пули свистали… Так над головой и свищут. Мало-мало погодя, перестали. Все пули расстреляли. Ни одна не попала…
– С бегу стреляли-то? – интересуется молодой паренек.
– С бегу.
– Если бы приостановился кто. Стрелять способнее.
– Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель! – обрывает его кто-то из слушателей. – Валяй дальше!
– Стал я, братцы мои, приставать. Вижу, сил моих нет. Вот-вот, думаю, с ног свалюсь, возьмут. Да не такой человек Ефим Трофимов, чтобы живым в руки даться! Слышу, настигают… Все ближе топот. Оглянулся – глядеть страшно. Штыки сверкают. Сила! А по дороге-то, впереди так – дерево… Высоченное дерево, сажень двадцать… Собрал я силенки, – да к нему. Раз, раз – да и взобрался… Вскарабкался на сук да и сижу. Подбегают, запыхались, так с них и льет, еле дышат. Замучил я их, замытарил.
«Слезай, – кричат, – чертов сын, честью!»
«Вот, – говорю, – ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет. Подождите маленько!..»
Им бы пулей меня достать – на что легче, – да пули-то все простреляли. А лезть-то боятся, потому что топор при мне, – мне сверху-то по башке способно. Слышу, говор идет меж их: «Полезай ты сперва!» – «Нет, ты!» – «Нет, ты…» А я себе сижу, ни гу-гу, отдыхиваюсь.
Только, братцы, постояли они так-то, решили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево под корень штыками. Дрожит все дерево, трясется. Они копают, а я все выше взбираюсь. Они копают, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться… «Ну еще! Наддай!» – орут, дерево валят. А по голосам слыхать, что еле дух переводят, привстали. «Еще наддай»… Ходуном подо мной дерево ходит, а я на маковке сижу, держусь… Да как ухнет дерево-то, только стон пошел от ветвей, хруск… Как маковка-то об землю треснулась – я наземь, да в бег. Они-то у корня стояли, а я на маковке – у меня двадцать сажень мазы… Они-то, дерево копавши, вконец перемучились, – а я отдохнул сидючи!
– Здорово! – одобрили арестанты.
Много таких рассказчиков в каждой тюрьме. И что это за рассказы! Что за дикие, за фантастические, нелепые рассказы о небывалых преступлениях! Слушаешь другого да диву даешься.
– Его действительных-то приключений тома бы на три хватило. Да на каких тома! А он, Бог его знает, какую чушь выдумывает!
Им не верят, да их не для того и слушают.
Каторга относится к ним, как мы к нашим бульварным романистам. Не требует от них правды – довольствуется интересной выдумкой. Она смотрит на них как на хороших сказочников.
Это вряд ли можно назвать бахвальством. Да я и не думаю, чтобы бахвальство могло произвести на каторгу особое впечатление.
Каторга не придает особенной цены преступлениям, совершенным «в Рассее».
– Там-то мы все храбры были!
Она относится еще с некоторым уважением к преступникам, взявшим благодаря преступлению крупную сумму, и глубоко презирает тех, кто совершил преступленья из-за грошей.
Самим же преступлением каторгу не удивишь. Тут, так сказать, приходится «играть среди виртуозов».
Герои каторги – рецидивисты. Она ценит только преступления и проступки, совершенные здесь, на Сахалине. И какой-нибудь смелый беглец или человек, наговоривший дерзостей смотрителю, – в ее глазах гораздо более герой, чем человек, зарезавший целую семью в России.
Полуляхова каторга стала уважать с тех пор, как он бежал, дерзко, на виду у всех, вырвав ружье у часового.
Есть только одно преступление, которое покрывает совершившего его немеркнущей славой. Это убийство кого-нибудь из тюремной администрации.
К такому каторга относится всегда с почтением.
Человек шел «на веревку». Человек не боится ничего – значит, надо бояться его. И к такому человеку относятся с боязливым почтением.
Остальное все не производит никакого впечатления:
– Это все, что было, то прошло! Ты нам теперь себя выкажи!
Прошлое умерло. Каторгу интересует только, что в человеке осталось.
До сих пор мы говорили об отношении только к самому факту преступленья.
Ну а их отношенья к жертве?
Что они чувствуют по отношению к ней?
Редко – злобу, часто – презрение, обыкновенно – полное равнодушие.
– Как же! Жалко! – отвечает вам обыкновенно преступник на вопрос, неужели ему не жаль своей жертвы?
Но лучше бы он не говорил этого! Он произносит это «жалко», как будто речь идет не о жизни, а о каком-то пустяке, отнятом у несчастного! В этом тоне звучит такое равнодушие – равнодушие по всему на свете, кроме его собственной персоны. Вы чувствуете, что он говорит «жалко» прост из приличия: «так уж полагается по-ихнему, чтоб жалеть». Что этим он делает уступку вам!
Убийцы-грабители вспоминают о своей жертве с презрением, если несчастный не хотел сразу отдавать деньги, если он боролся. Им кажется это достойным презрения: человек ставил деньги – выше жизни!
Один из преступников не мог без улыбки вспомнить, как его несчастная жертва, когда он вошел к ней с топором, закричала:
– Как ты смеешь? Да ты знаешь ли, на чей дом нападаешь?
– Сударыня! – отвечал он ей с улыбкой. – Для нас все равны.
Злобу к своим жертвам, злобу непримиримую, которая не угаснет никогда, чувствуют только те из преступников, кому пришлось много перетерпеть, прежде чем они решились на преступление.
С такой злобой отзывался мне о своей жертве один из каторжных в Корсаковском округе, убивший своего барина за то, что тот жестоко с ним обращался.
– Опять бы из гроба встал, опять бы задушил!
И выражал сожаление, что не удалось помучить его перед смертью.
Помню, один убийца жены – он отрубил ей голову – на мой вопрос: «Неужели же тебе не бывает жаль ее?» – отвечал:
– Опять бы ожила – вот хоть сейчас, – опять бы ей башку отрубил, подлой!
И с такой злобой сказал это!.. А вообще-то это один из добродушнейших людей в каторге. Добрый, безответный, готовый поделиться последним.
Видно, и насолила же ему покойница!
Вообще, эти люди, со злобой относящиеся к своим жертвам, по большей части – люди добродушные, мягкие. Это просто люди с лопнувшим терпением.
Искреннее, действительно глубокое сожаление к своей ни в чем не повинной жертве мне пришлось наблюдать только один раз.
Мы дошли до вопроса, который, быть может, интересует вас так же, как он интересовал меня.
До вопроса о галлюцинациях и снах. Об этой «икоте воображения», «отрыжке совести».
Преследуют ли «их» призраки жертв, как они преследуют шекспировских героев, или сахалинские преступники сделаны из другого теста?
Но ведь и шекспировских героев не всех одинаково преследуют призраки убитых.
Макбет видит наяву тень Банко, в то время, как Ричарда III мучат призраки во время сна, во время тяжкого кошмара. А королю Клавдию ни во сне, ни наяву не является тень убитого им короля и брата.
Я расспрашивал всех тюремных врачей относительно галлюцинаций у каторжников, и изо всех врачей только один доктор Лобас, человек, глубоко знающий каторгу мог сообщить мне только один случай, когда преступник жаловался на преследования призрака.
Я потом виделся и с преступником.
Это некто Вайнштейн, рецидивист, убивший на Сахалине женщину, мать Негеля, о котором шла речь ранее. Другие говорят, что он убил ее, не добившись ничего ухаживаниями.
Он уверяет, что убил ее из отвращения:
– Уж немолодая женщина – она изменяла своему мужу. И как изменяла! Мне стало противно, и я убил ее, прямо из какой-то ненависти, из презрения, раздавил как гадину.
Ее окровавленный призрак не давал ему покоя, пока он сидел в одиночном заключении. Он не спал ночей, потому что она постоянно входила к нему – и на него «летели брызги крови».
Интересный рассказ о галлюцинациях мне пришлось выслушать от одного поселенца, которого я взялся подвезти из поста Дуэ в пост Александровский.
– Зачем пробираешься-то? – спрашиваю дорогой.
– Да к окружному шел, сожительницу себе просить новую.
– А что ж старая-то плоха, что ли?
– Зачем плоха! Хорошая баба была, да померла… Второй месяц как померла. А мне без хозяйки никак невозможно. Хозяйство! Может, дадут какую, хоть завалящую!
Мы проехали с четверть версты молча.
– Да и слава Тебе Господи, что померла! Прибрал ее Господь! Успокоил – да и меня-то вместе с нею. Мука была мученская.
– Что так?
– Тряслась шибко.
– Как тряслась?
– Так, по ночам. Как, бывало, ночь, так и начнет трястись. И меня-то замучила – страхи! Как, бывало, огонь потушим, так ее и начнет бить. Дрожит вся, колотится, руки, ноги – как лед. «Ходит, – говорит, – он по избе!» А то вся забьется, вот-вот, думаю, кончится. «За ноги, – говорит, – меня хватает. Наклоняется ко мне, – а от него-то могилой!» Все к ей «он» ходил. За мужа она. Мужа отравила – не нравился, что ль! – а как он стал кончаться да мучиться, с испугу его и придушила. И такой, бывало, голос у ея, самого жуть берет. «Молчи, мол, у меня свой есть». Самому казаться начало!.. Эх, и не вспоминать!.. Так вот и измаялась, таяла, таяла да и кончилась. Царство ей небесное, вечный покой! Да уж где, чай!
Некоторые, немногие из них, жалуются, что изредка видят своих во сне, но большинство смотрит на вас с изумлением при подобном вопросе: «Охота, мол, такую дрянь во сне видеть?»
Впрочем, все это дело нервов.
В конце концов я все-таки не верю, – и не верю потому, что этого не видел, – чтобы преступник совсем уж спокойно относился к совершенному им преступлению. Быть может, и эта страсть к картам, эта картежная игра, которой они с таким азартом предаются с утра до вечера, в каждую свободную минуту, и часто с ночи и до утра, быть может, и это – средство забыться, отвлечь свои мысли.
Как они относятся к наказанию?
На этот вопрос ответить гораздо легче.
Относятся очень просто. Осудили, лишили прав, сослали сюда – и они считают все свои счета поконченными и сквитанными.
– Не семь же шкур с нас драть?!
Им сказали: идите на «новую жизнь». И они стремятся устроить новую жизнь. Такую, какая нравится им, а не правосудию. Бежать, сказаться бродягой и получить полтора года каторги вместо 10, 15 и 20.
Это называется «переменить участь». И об этой перемене участи мечтают все.
Не верьте тому, чтоб преступники жаждали каторги, несли ее как искупление.
Да, быть может, там, – когда они еще не знают, что такое каторга. Когда еще свежи, особенно болезненны воспоминания. Когда совесть, этот «зверь косматый», мечется и скребет когтями душу… Тогда, быть может, и жаждут страданий.
Так при нестерпимой зубной боли люди бьются головой об стену, чтоб другой болью пересилить эту, отвлечь мысли от этой страшной, невероятной боли.
Там… А здесь… Можно жаждать страданий, идти на них, надеть тяжелые вериги, спать на острых камнях. Но кто, в виде искупления, захочет лечь в смердящую, вонючую, топкую, жидкую грязь?

Арестантские работы. Откатчики в рудниках
А каторга, это – грязь, зловонная, засасывающая грязь.
Мне остается сказать еще об их отношениях к невинно осужденным.
К тем, относительно кого они уверены, что человек страдает напрасно. Такие есть на Сахалине, как и во всякой каторге. На арестантском языке они называются от сохи на время.
Каторга относится к ним с презрением.
Нет! Это даже не презрение. Это ненависть, это зависть к людям, не мучающимся душой, выражающаяся только в форме будто бы презрения. Это ненависть подлеца к честному человеку – мучительная зависть грязного к чистому.
И положение этих несчастных – положение горькое вдвойне. Им не верят честные люди, их презирает и ненавидит мир отверженных…
И в этой ненависти сказывается все то же страдание преступной души, мучимой укорами совести.
Преступники и суд
У обвиняемого не оказалось копий обвинительного акта: копии эти они извели на «цыгарки».
Из отчета об одном процессе в Елизаветграде
Вот область! – волос дыбом встанет.
– Боже, и это граждане, которые незнанием законов отговариваться не могут?! Даже наиболее опытные из них, бывалые, которым, уж казалось бы, надо это знать, и те плохо понимают, что делается на суде.
Я просил их передать мне содержание речи прокурора, – кажется, должны бы вслушиваться?! – и, Боже, что за чепуху они мне мололи. Один, например, уверял меня, будто прокурор, указывая на окровавленные вещественные доказательства, требовал, чтобы и с ним, преступником, поступили так же – то есть убили и разрезали труп на части.
Большинство выдающихся преступников преувеличивают значение своего преступления и ждут смертного приговора.
– Да ведь по закону не полагается!
– А я почем знал!
А, кажется, не мешало бы осведомиться, идя на такое дело.
Неизвестность, ожидание, одиночное предварительное заключение – все это разбивает им нервы, вызывает нечто вроде бреда преследования.
Все они жалуются на несправедливость.
Преступник окружен врагами: следователь его ненавидит и старается упечь, прокурор питает против него злобу, свидетели подкуплены или подучены полицией, судьи обязательно пристрастны.
Многие рассказывали мне, что их хотели заморить еще до суда.
– Дозвольте вам доложить, меня задушить хотели!
– Как так?
– Посадили в одиночку, чтоб никто не видал. Никого не допущали. Пищу давали саму что ни на есть худшую, вонь – нарочно около «таких мест» посадили. Думали, задохнусь.
Преданья об «отжитом времени», о «доформенных» порядках крепко въелись в память нашего народа. Только этим и можно объяснить чудовищно нелепые рассказы.
Привычка к «системе формальных доказательств» пустила глубокие корни в народное сознание, извратила его представления о правосудии.
– Не по правам меня засудили! Зря! – часто говорит вам преступник.
– Да ведь ты, говоришь, убил?
– Убить-то, убил, да никто не видал. Свидетелей не было, как же они могли доказать? Не по закону!
Эта привычка к так давно практиковавшейся «системе формальных доказательств» (?) заставляет запираться на суде, судиться «не в сознании» – многих таких, чья участь, при чистосердечном сознании, была бы, конечно, куда легче.
Помню, в Дуэ старик отцеубийца рассказывал мне свою историю. Сердце надрывалось его слушать. Что за ужасную семейную драму, что за каторгу душевную пришлось пережить, прежде чем он – старик, отец семейства, пошел убивать своего отца.
Ему не дали даже снисхождения. Неужели могло найтись 12 присяжных, которых не тронул бы этот искренний, чистосердечный рассказ, эта тяжелая повесть?
– Да я не в сознании судился!
– Да почему ж ты прямо, откровенно не сказал все?! Ведь жена, сын, невестка, соседи были на суде, могли бы подтвердить твои слова?
– Да так! Думали – свидетелей при убийстве не было. Так ничего и не будет!
Особенно тяжелое впечатление производят крестьяне – «деревенские, русские люди». У этих не сразу дознаешься, как его судили даже: с присяжными или без присяжных.
– Да против тебя-то в суде сидели 12 человек.
– Насупротив?
– Вот-вот, насупротив! 12 вот так, а 2 с бока. Всех 14.
– Да кто ж их считал? Справа, вот этак, много народу сидело. Чистый народ. Барышни… Стой, стой! – вспоминает он. – Верно! И насупротив сидели, еще все входили да выходили сразу. Придут, выйдут, опять придут. Эти, что ли?
– Вот, вот, они самые! Да ведь это и были твои настоящие судьи!
– Скажи, пожалуйста! А я думал – так, купцы какие. Антиресуются.
Большинство не может даже ответить на вопрос: был ли у него защитник?
– Да, защитник, адвокат-то у тебя был? – спрашиваю у мужичонка, жалующегося, что его безвинно осудили.
– Абвакат? Нетути. Хотели взять мои-то в трактире одного, – да дорого спросил. Не по карману!
– Стой, да ведь тебе был назначен защитник. Задаром, понимаешь – задаром? И настоящий адвокат, а не трактирный!
– Этого я не могу знать.
– Да перед тобой, перед решеткой-то, за которой ты на суде был, – сидел кто-нибудь?
– Так точно, сидел. Красивый такой господин. Из себя видный. Мундир на ем расстегнут. Ходит нараспашку. С отвагой.
Очевидно, судебный пристав.
– Ну а рядом с ним? В городском платье в черном, еще значок у него такой беленький, серебряный, вот здесь?
Мужичонка делает образованное лицо – вспоминает:
– Кучерявенький такой? Небольшого росту?
– Ну, уж там не знаю, какого он росту. Говорил ведь он что-нибудь, кучерявенький-то?
– Кучерявенький-то? Дай припомнить. Балакал. Сейчас, как прокурат кончил, и он встал. Пронзительно очень говорил прокурат, твердо. Просил все, чтоб меня на весь век, под землю – «в корни» его, говорит.
– Ну хорошо, – это прокурор. А кучерявенький-то что же?
– Тоже говорил что-то. Только я не слушал, признаться. Ни к чему мне.
– Да ведь это и был твой защитник, твой адвокат!
– Скажи! А я думал, он из господ. Из судейских!
– Да перед этим-то, перед судом, в тюрьме он у тебя был?
– Кто? Кучерявый?
– Кучерявый!
– Кучерявого не было. Ай был? Ай не был? Был! – наконец вспоминает он. – Верно! Был одново. Спрашивал, есть ли у меня свидетели? Какие ж у меня свидетели могут быть? Мы люди бедные. Нам свидетелей нанять не на что!
Есть ли что-нибудь беспомощнее?
Женская каторга
Общий вид– Виновна ли крестьянка Анна Коновалова, 20 лет, в том, что с заранее обдуманным намерением, по предварительному соглашению с другими лицами, лишила жизни своего мужа посредством удушения?
– Да, виновна.
Коновалову приговорили к 20 годам каторжных работ.
Вместо Крестовского острова она отправляется на Сахалин.
В Одессе ее сажают на пароход Добровольного флота.
– Баба – первый сорт!
– Хороший рейс будет! – предвкушает команда.
В Красном море входят в тропики, где кровь вспыхивает, как спирт. Женский трюм превращается в плавучий позорный дом.
– Ничего не поделаешь! – говорят капитаны. – Борись не борись с этим – ничего не выйдет. Через полотняные рукава, которые для нагнетания воздуха устроены, подлецы ухитряются в трюм спускаться.
Это обычное явление, и если этого нет, каторжанки даже негодуют.
Пароход «Ярославль» перевозил каторжанок из поста Александровского в пост Корсаковский. Старший офицер Ш., человек в делах службы очень строгий, ключи от трюма взял к себе и не доверял их даже младшим помощникам. На пароходе «ничего не было».
И вот, когда в Корсаковске каторжанок пересадили на баржу, с баржи посыпалась площадная ругань:
– Такие-сякие! В монахи вам! Баб везли – и ничего. Нас из Одессы везли, с нами на пароходе вот что делали!
Женщины лишились маленького заработка, на который сильно рассчитывали, и сердились. Команда таскает в трюм деньги, водку, папиросы, фрукты, платки, материи, которые покупает в портах.
Молодые добывают. Старухи-старостихи устраивают знакомства.
В трюме площадная ругань, торговля своим телом, кровавые и разнузданные рассказы, щегольство нарядами. Падшие женщины, профессиональные преступницы, жертвы несчастья, женщины, выросшие в городских притонах, крестьянки, идущие следом за своими мужьями, – все это свалено в одну кучу, гнойную, отвратительную. Словно живые свалены в яму вместе с трупами.
Некоторые еще держатся.
Эта голодная честность – изруганная, осмеянная, сидит в уголке и поневоле завистливыми глазами смотрит, как все кругом пьет, лакомится, щеголяет друг перед дружкой обновами.
Женщина смотрит с ужасом:
– Куда я попала? – Теряет почву под ногами: – Что я теперь такое?
– До Цейлона иные выдерживают, а в Сингапуре, глядь, все каторжанки на палубу вышли в шелковых платочках. Это у них самый шик! «Ах, вы такие-сякие! Щеголяйте там у себя в трюме, а на палубу чтоб выходить в арестантском!» – рассказывают капитаны.
И вот пароход приходит в порт Александровский. Там парохода с бабьим товаром уж ждут.
Поселенцы, так называемые «женихи», все пороги в канцеляриях обили:
– Ваше высокоблагородие, явите начальническую милость, дайте сожительницу!
– Это, брат, прежде было, что баб давали. Теперь только дозволяют брать.
– Ну, дозвольте взять бабу. Все единственно.
– Да зачем тебе баба? Ты пьяница, игрок?
– Помил-те, ваше высокоблагородие, для домообзаводства!
Привезенных баб разместили.
Добровольно следующие с детьми остались дрогнуть в карантинном сарае. Каторжанок погнали в женскую тюрьму.
Перед окнами женской тюрьмы гулянье. Женихи смотрят сожительниц нового сплава. Каторжанки высматривают сожителей.
Каторжанки принарядились. Женихи ходят гоголем.
– Сборный человек, одно слово! – похохатывают проходящие мимо каторжане вольной, исправляющейся тюрьмы.
Жених, по большей части, «весь собран»: картуз взял у одного соседа, сапоги у другого, поддевку у третьего, шерстяную рубаху у четвертого, жилетку у пятого.
У многих в руках большая гармоника, верх поселенческого шика. У некоторых по жилетке даже пущена цепочка.
У всех подарки: пряники, орехи, ситцевые платки.
– Дозвольте орешков предоставить. Как вас величать-то будет?
– Анной Борисовной!
– Вы только, Анна Борисовна, ко мне в сожительницы пойдите – и каждый день без гостинца не встанете, без гостинца не ляжете. Потому – пронзили вы меня! Возжегся я очень.
– Ладно. Один разговор. Работать заставите!
– Ни в жисть! Разве на Сахалине есть такой порядок, чтоб баба работала? Дамой жить будете! Сам полы мыть буду! Не жисть, а масленица. Бога благодарить будете, что на Сахалин попали!
– Все вы так говорите! А вот часы у вас есть? Может, так, цепочка только пущена.
– Часы у нас завсегда есть. Глухие с крышкой. Пожалуйте! Одиннадцатого двадцать пять.
– А ну-ка, пройдитесь!
Жених идет фертом.
– Как будто криво ходите!
Будущие сожительницы ломаются, насмешничают, острят над женихами. Женихи конфузятся, злятся в душе, но выказывают величайшую вежливость.
Степенный мужик из Андрее-Ивановского, угодивший в каторгу за убийство во время драки в самый храмовый праздник, подавал по начальству бумагу, в которой просил выдать для домообзаводства из казны корову и бабу.
В канцелярии ему ответили:
– Коров теперь в казне нету, а бабу взять можешь.
Он ходит под окнами серьезный, деловитый, и осматривает баб, как осматривают на базаре скот.
– Нам бы пошире какую. Хрястьянку. Потому – лядаща, куда она? Лядаща была, из бродяг. Только хлеб жевала, да кровища у ей горлом хлестала. Так и умярла – как ее по-настоящему звать даже не знаю. Как и помянуть-то неизвестно. Нам бы ширококостную. Штоб для работы.
– Вы ко мне в сожительницы не пойдете? – кланяется он толстой, пожилой, рябой и кривой бабе.
– А у тя что есть-то? – спрашивает та, подозрительно оглядывая его своим единственным глазом. – Может, самому жрать нечего?
– Зачем нечего! Лошадь есть.
– А коровы есть?
– Коров нет. Просил для навозу – не дали. Бабу теперь дать хотят, а корову – по весне. Идите, ежели желаете!
– А свиньи у тя есть?
– И свиней две. Курей шесть штук.
– Курей! – передразнивает его лихач и щеголь, поселенец из 1-го Аркова, самого игрецкого поселья. – Ему нешто баба, ему лошадь, черту, нужна! Ты к нему, кривоглазая, не ходи! Он те уходит! Ты такого, на манер меня, трафь. Так, как же, Анна Борисовна, дозволите вас просить? Желаете на веселое арковское житье идти? Без убоинки за стол не сядете, пряником водочку закусывать будете, платок не платок, фартук не фартук. Семен Ильин человек лихой. Даму для развлечения ищет, не для чего прочего!
Прежде хорошенькую Коновалову взял бы кто-нибудь из холостых служащих в горничные и платил бы за нее в казну по три рубля в месяц. Теперь это запрещено новым губернатором.
Прежде бы ее просто выкликнули:
– Коновалова!
– Здесь.
– Бери вещи, ступай. Ты отдана в Михайловское, поселенцу Петру Петрову.
– Да я не желаю.
– Да у тебя никто о твоем желании не спрашивает. Бери, бери вещи-то, не проедайся! Некогда с вами!
Теперь, если она скажет «не желаю», – ей скажут: «Как хочешь!» – и оставят в тюрьме. Сожительницы разбредутся с женихами, и останется Коновалова одна в сырой, тусклой, большой, пустой камере. И потянутся унылые, серые, тусклые дни.
– Хоть бы полы к кому из служащих мыть отправили. Может, к холостому. Повеселилась бы.
Я однажды зашел в женскую тюрьму.
Там сидела немка с грудным ребенком. Жила она когда-то с мужем в Ревеле, имела «свой лафочка», захотела расширить дело:
– Дитя много было.
Подожгла лавочку и пошла в каторгу.
– Дитя вся у мужа осталось.
Здесь она жила с сожителем, прижила ребенка, из-за чего-то повздорила с надзирателем, тот пожаловался, ее взяли от сожителя и посадили в тюрьму:
– Он говорийт, что я украл. Я нишево не украл.
С бесконечно унылым, тоскующим лицом она бродила по камере, не находя себе места, и, приняв меня за начальство, начала плакать:
– Ваше высокий благородий! У меня молока нейт. Ребенок помирайт будет. Я от баланда молоко потеряла. Прикашите меня хоть пол мыть отправляйт. Я по дороге зарапотаю…
– Чем же вы заработаете?
– А я…
И она так прямо, просто и точно определила, как именно она заработает, что я даже сразу не разобрал.
Что это? Нарочно циничная, озлобленная выходка?
Но немка смотрела на меня такими кроткими, добрыми и ясными, почти детскими глазами, что о каком тут «цинизме» могла быть речь! Просто она выучилась русскому языку в каторге и называла, как все каторжанки, вещи своими именами.
– Выше высокое благородие! Скашите, чтоб меня хоть на шас отпустили. Один шас!
И так потянулись бы для Коноваловой долгие, бесконечные дни одиночества: в женской тюрьме никто не живет.
Приведут разве поселенку.
– Тебя за что в тюрьму?
– Сожителя пришила.
– Как пришила?
– Взяла да задавила.
– За что же?
– А на кой он мне черт сдался? Я промышляй, а он пропивать будет!
– Да ты бы на него начальству пожаловалась!
– Вот еще, из-за таких пустяков начальство беспокоить.
– Что ж теперь с тобой будет?
– А что будет! Будут судить и покеда в тюрьме держать. А потом каторги прибавят и опять кому-нибудь в сожительницы отдадут. А ты за что сидишь?
– Я не хочу в сожительницы идти.
– Дура! Ну и сиди в тюрьме на пустой баланде, покеда не скажешь: «К сожителю идти согласна!» Скажешь, небось!
Неволить идти к сожителю не неволят теперь, но человеку предоставляется выбор: свобода или тюрьма.
Трудно, конечно, думать, чтоб Коновалова заупрямилась. Никто не упрямится.
И вот Коновалова у поселенца, с которым она столковалась.
Входит в его пустую, совершенно пустую избу.
«Сборный человек» вдруг весь разбирается по частям: сапоги с набором отдает одному соседу, поддевку – другому, кожаный картуз – третьему.
И перед нею на лавке сидит оборвыш.
– Ну-с, сожительница наша милейшая, теперича вы на фарт идите!
– На какой фарт?
– А к господину Ивану Ивановичу. Вы это поскорей платочек и фартучек одевайте. Потому господин Иван Иванович ждать не будут. Живо ему другой кто свою сожительницу подстроит. А жрать нам надоть.
– Да что ж это я на тебя работать буду?
– Это уж как на Сахалине водится. Положение. Для того и сожительниц берем. Да вы, впрочем, не извольте беспокоиться. Я на ваши деньги играну, такой куш выиграю – барыней ходить будете. А теперича извольте отправляться.
– Да ведь я там, в России, за это же за самое мужа задушила!
– Хе-хе! Там Рассея! Порядок другой. А здесь, что же-с! Ну и задушите! Другой такой же сожитель будет. Все единственно. Потому сказано – каторжные работы. Пожалуйте-с!