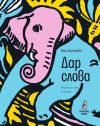Читать книгу "Сахалин. Каторга"

Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Песни каторги
Замечательно, что даже страшная сибирская каторга былых времен, мрачная, жестокая, создала свои песни. А Сахалин – ничего.
Пресловутое
Прощай Одесса,
Славный (?) карантин,
Меня посылают
На остров Сахалин…
кажется, единственная песня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсем не поется. Даже в сибирской каторге был какой-то оттенок романтизма, что-то такое, что можно было выразить в песне. А здесь и этого нет. Такая ужасная проза кругом, что ее в песне не выразишь.
Даже ямщики, эти исконные песенники и балагуры, и те молча, без гиканья, без прибауток правят несущейся тройкой маленьких, но быстрых сахалинских лошадей. Словно на козлах погребальных дрог сидит. Разве пристяжная забалует, так прикрикнет:
– Н-но, ты, каторжная!
И снова молчит всю дорогу, как убитый. Не поется здесь.
– В сердце скука! – говорят каторжане и поселенцы.
«Не поется» на Сахалине даже и вольному человеку.
Помню, в праздничный какой-то день из ворот казарм выходит солдат – конвойный. Врезал, видно, для праздника. В руках гармония и поет во все горло. Но, что это за песня! Крик, вопль, стон какой-то. Словно вопит человек «от зубной боли в душе». Не видя, что человек веселится, подумать можно, что режут кого. Да и не запоешь, когда перед глазами тюрьма, а около нее уныло, словно тень, бродит старый палач Комлев.
– Ты зачем пришел с поселья?
– Слыхал, что вешать будут. Думал три целковых заработать. Без меня некому.
В тюрьме поют редко. Не по заказу. Слышал я раз пение в Рыковской кандальной тюрьме.
Дело было под вечер. Поверка кончилась, арестантов заперли по камерам. Начальство разошлось. Тюремный двор опустел. Надзиратели прикорнули по своим уголкам. Сгущались вечерние тени, вот-вот наступит полная тьма.
Иду тюремным двором, остановился как вкопанный. Что это, стон? Нет, поют.
Кандальники от скуки пели песню сибирских бродяг «Милосердные»… Но что это было за пение! Словно отпевают кого, словно похоронное пенье несется из кандальной тюрьмы. Словно отходную какую-то пела эта тюрьма, смотревшая в сумрак своими решетчатыми окнами, отходную заживо похороненным в ней людям. Становилось жутко…
Славится между арестантами в селении Дербинском как песенник старый бродяга Шушаков, – и я отыскал его, думая позаимствоваться. Но Шушаков не поет острожных песен, отзываясь о них с омерзением:
– Этой пакостью и рот поганить не стану. А вот что знаю – спою.
Он поет тенорком, немного старческим, но еще звонким. Поет пригорюнившись, подпершись рукою. Поет песни своей далекой родины, вспоминая, быть может, дом, близких, детей. Он уходил с Сахалина бродяжить, добрался до дому, шел Христовым именем два года. Лето целое прожил дома, с детьми, а потом поймался и вот уж 16 лет живет в каторге. Он поет эти грустные, протяжные, тоскливые песни родной деревни. И плакать хочется, слушая его песни. Сердце сжимается.
– Будет, старик!
Он машет рукой:
– Эх, барин! Запоешь и раздумаешься.
Это не человек, это – горе поет!
Но у каторги есть все-таки свои любимые песни. Все шире и шире развивающаяся грамотность в народе сказывается и здесь, на Сахалине. Словно слышишь всплеск какого-то все шире и шире разливающегося моря. В каторге очень распространены книжные песни. Каторге больше всех по душе наш истинно народный поэт, и чаще других вы услышите «То не ветер ветку клонит», «Долю бедняка», «Ветку бедную» – все стихотворения Кольцова.
А раз еду верхом, в сторонке от дороги мотыгой поднимает новь поселенец, потом обливается и поет «Укажи мне такую обитель» из некрасовского «Парадного подъезда». Поет, как и обыкновенно поют это, на мотив из «Лукреции Борджиа».
– Стой. Ты за что?
– По подозрению в грабеже с убивством, ваше высокоблагородие.
– Что ж эту песню поешь? Нравится она тебе, что ли?
– Ничаво. Пронзительно!
– А выучился-то ей где?
– В тюрьме сидемши. Научили.
Приходилось мне раза три слышать «Хорошо было Ванюшке спать» – переделку некрасовских «Коробейников».
– Ты что же, прочитал ее где, что ли? – спросил я певшего мне сапожника Алфимова.
– Никак нет-с. В тюрьме обучился.
Из чисто народных песен каторга редко-редко поет «Среди долины ровныя», предпочитая этой песне ее каторжное переложение «Среди Данилы бревна…» – бессмысленную и циничную песню, которую, впрочем, как и все, тюрьма поет тоже редко.
Любят больше других еще и малороссийскую:
Солнце низенько,
Вечер близенько.
И любят за ее разудалый припев, который поется лихо, с присвистом, гиканьем, постукиванием в ложки «дисциплинарных» из бывших полковых песенников, с ругательными вскрикиваниями слушателей.
Почти всякий каторжанин знает, и чаще прочих поется очень милая песня:
Вечерком красна девица
На прудок за стадом шла.
Черноброва, круглолица
Так гусей домой гнала:
Припев:
Тяга, тяга, тяга, –
Вы, гуськи мои, домой!
Мне одной любви довольно,
Чтобы век счастливой быть,
Но сердечку очень больно
Поневоле в свете жить.
Припев:
Не ищи меня, богатый,
Коль не мил моей душе!
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше…
Последний куплет варьируется так:
Вместо старого, седого
Буду милого любить,
Ведь сердечку очень больно
Через злато слезы лить!..
Песня тоже нравится из-за припева. И помню одного паренька – сидевшего за какой-то глупый грабеж, – как он пел это «тяга, тяга, тяга, тяга!». Всем существом своим пел. Раскраснелся весь, глаза горят, на лице «полное удовольствие»: словно и впрямь видит знакомую, родную картину.
Очень принято и тоже чаще других поется сентиментальная песня:
Звездочка моя ночная,
Зачем до полночи горишь?
Король, король, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?
«Красавица моя драгая,
Да полюби-ка ты меня;
Со сбруей, сбруей золотой
Дарю тебе коня».
– Не надо мне твоей златницы,
Не нужен мне твой добрый конь, –
Отдай, отдай коня царице,
Жене прелестной, дорогой.
А мне, мне, красной ты девице,
Верни души моей покой…
Король, с женою расставаясь,
Детей к благословенью звал:
«Прощай, жена, прощайте, дети! –
Едва от слез он им сказал, –
Живите в дружеском совете,
Как Сам Господь вам указал,
Не мстите злом за зло в ответе,
Платите добротой!» – сказал…
Есть еще излюбленная «сибирская» песня, которую время от времени затягивает каторга:
Вслед за буйными ветрами,
Бог защитник – мой покров,
В тундрах нет зеленой тени,
Нет ни солнца, ни зари,
Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари.
От Ангары к устью моря
Вижу дикие скалы, –
Вдруг являются, как тени,
По утесам дикари.
Дикари, скорей, толпою
С гор неситеся ко мне, –
Помиритеся со мною:
Я – ваш брат – боюсь людей…
Когда эту песню, рожденную в Якутской области, поет каторга, от песни веет какою-то мрачной, могучею силой. Сколько раз я жалел, что не могу записать мотивов этих песен!
Интересно было бы записать напев и этой, когда-то любимой, а теперь умирающей каторжной песни:
Идет он усталый, и цепи гремят,
Закованы руки и ноги.
Покойный и грустный он взгляд устремил
По долгой, пустынной дороге…
Полдневное солнце бесщадно палит,
Дышать ему трудно от боли,
И каплет по капле горячая кровь
Из ран, растравленных цепями…
Эта песня – отголосок теперь упраздненных этапов.
И пела мне каторга свою страшную песнь, которую я назвал бы гимном каторги. Что за заунывный, как стон осеннего ветра, мотив! Всю душу, истомившуюся тоскою по родине, вложила каторга в этот напев. И когда вы слышите эту песнь, вы слышите душу каторги.
Посреди палат каменных, ты подай, подай!
Ты подай весточку в Москву каменную,
В Москву каменну, белокаменну…
Ты воспой, воспой, жавороночек,
Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой
Про ту горькую, да неволюшку.
Кабы весть подать да отцу рассказать
Про то, что со мною случилося
На чужой на той сторонушке…
Я не вор ведь был, не убивец,
Но послали меня, добра молодца, –
Попроведать каторги, распроклятой долюшки,
На чужой на той сторонушке –
Больно тяжко ведь жить!
Эх, невеста моя!.. А ты, матушка!
Позабыла меня, – словно сгинул я.
Но ведь будет пора, – и вернусь снова я
За все беды и зло уж я вам отплачу,
Будет время, вернусь…
Ты о том подай, жавороночек,
Подай весточку, – ты подай, подай!..
Мне пели ее в тюрьме под вечер, после поверки. Пели все. Здоровый парень, сидя на нарах и глядя куда-то вверх, покрывал хор своим заливным тенором и уныло выводил про жавороночка, пел про обиду и месть, словно мечтал вслух. А из темных углов неслось это надрывающее душу «ты подай, подай». Унылое, безнадежное. Горло себе перерезать можно, слушая такое пение.
Но все эти песни, в Сибири рожденные, на Сахалин привезенные, как я уже говорил, – не любит каторга. Они бередят. И если уж петь, то она предпочитает другие – веселые. Их нельзя передать в печати. И что это за песни! Это даже не цинизм… Это совсем уж черт знает что: бессмысленнейший набор слов, из сочетания которых выходит что-то похожее на неприличные слова.
Вот вам что поет каторга. Говорят, что песня – это душа народа. И каторга поет песни, от которых то веет сентиментальностью, этим суррогатом чувства, который часто заменяет у людей чувство, то вечно ноющей раной – тоскою по родине, то злобой, то пережитыми страданиями, то напускным куражом, то цинизмом и каторжной оголтелостью.
А чаще всего каторга молчит.
Каторга и религия
На Сахалине одиннадцать церквей, но религиозна ли каторга?
Мне вспоминается такая картина. Светлый праздник. Ясная, холодная, чуть-чуть морозная ночь. Владивосток то там, то здесь словно вспыхнул – иллюминованы церкви. Налево от нас огнями сияет «Петербург». Несколько подальше гигант «Екатеринослав» кажется каким-то призрачным кораблем, сотканным из света.
– Христос Воскресе! – несется над тихим рейдом.
Небо так бездонно. Звезды так ярко горят.
На нашем «Ярославле» радостное оживление. Из кают-компании доносится стук посуды, приготовляют разговляться. По палубе мигают свечки конвойных и команды. Наш батюшка сияет. Мы целуемся друг с другом особенно сердечно. Словно действительно стали друг к другу ближе, роднее. Как-то особенно чувствуется в эту ночь, вдали от дома, от близких…
И только там, в трюме, тихо как в могиле. Среди радостного ропота «воистину воскресе» батюшка идет кропить святой водой палубу. Мы проходим мимо «особых мест», выходящих на палубу. Я заглядываю в иллюминатор. Там несколько человек. Хотя бы кто встал, пошевелился при пении проходящих мимо певчих, когда в иллюминатор виден священник с крестом.
Мне особенно запомнилось лицо одного старосты отделения, обратника. Я словно сейчас вижу перед собой это лицо. Он смотрит на проходящую мимо процессию – и ничего, кроме спокойного равнодушия. «Ишь, мол, сколько их».
Он даже не перекрестился, когда, проходя мимо, ему чуть не в лицо запели «Христос Воскресе».
Так встретил Пасху – сердце невольно сжимается.
– Будет батюшка обходить арестантские отделения? – спрашиваю я у старшего офицера.
Через полчаса он подходит ко мне. У него какой-то смущенный вид:
– Знаете, я думал просить батюшку обойти отделения… Пошел, а они все спят.
Спать тихо и мирно в такую ночь! И это после тех душу переворачивающих сцен, которые я видел во время исповеди еще месяц тому назад. Но в том-то и дело, что в каторге человек с каждым днем сердцем крепчает, как объяснил мне один каторжанин-сектант.
Английский миссионер, член библейского общества, посетивший сахалинские тюрьмы, раздавал каторжанам молитвенники. Очередь дошла до старого каторжанина П. Он в высшей степени вежливо и почтительно поклонился миссионеру и, отдавая назад книгу, холодно и вежливо сказал переводчику:
– Скажите господину, чтоб он отдал книгу кому-нибудь другому, потому что я не курю (то есть мне не нужна бумага для цигарок].
Большинство каторги – атеисты. И если кто-нибудь из каторжников вздумает молиться в тюрьме, это вызывает общие насмешки. Каторга считает это слабостью, а слабость она презирает.
Как они доходят до отрицания?
Одни – своим умом.
– Вы верите в Бога? – спросил я Паклина, убийцу архимандрита в Ростове.
– Нет. Всякий за себя, – отвечал он мне кратко и просто.
Полуляхов, убийца Арцимовичей в Луганске, относился, по его словам, с большой симпатией к людям религиозным, любил их.
– Ну а сами вы?
– Я по Дарвину.
– Да вы читали Дарвина?
– Потом уж, после убийства, случалось.
Из разговоров с ним можно было видеть, что он Дарвина действительно читал, хотя и понял его чрезвычайно своеобразно, по-своему.
– Где же Дарвин отрицает существование Бога?
– Так. Жизнь, по-моему, это борьба за существование.
Борьба за существование, понятая грубо, совсем по-звериному – вот их религия.
Некоторые дошли до отрицания, так сказать, путем опыта.
– Вздор все это, – с улыбкой говорил мне один каторжанин, – я видал, как люди умирают… – А он имел право так сказать. – Меня самого это интересовало. Я нарочно убивал и собак. Одинаково умирают. Никакой разницы. Смотришь, что ему в это время нужно, чтоб пришибить его только поскорее, чтоб не мучился.
Как доходят в каторге не только до отрицания – до ненависти к религии, ненависти, высказывающейся в невероятных кощунствах?
– В этаком-то болоте не трудно потеряться, – говорил мне в Корсаковском округе одесский убийца Шапошников в одну из тех минут, когда ему приходила охота говорить здраво и не юродствовать.
Мне вспоминается один каторжанин. Он трактирщик из Вологодской губернии. В его заведении случилась драка между двумя компаниями, он принял сторону одной из них и кричал: «Бей хорошенько!»
В результате – один убитый, и его обвинили в подговоре к убийству. Говоря о своем разрушенном благосостоянии, о своей покинутой семье, о том, что ему пришлось и приходится терпеть на каторге, он весь дрожал и начал говорить такие вещи, что я его остановил:
– Что ты! Что ты! Что говоришь? Бога побойся! Ведь ты христианин.
Несчастный схватился за голову:
– Барин, барин, ума я здесь решаюсь.
Вспоминается одна сцена, разыгравшаяся перед поркой. Наказанию подлежал бессрочный каторжанин Федотов, 58 лет. Он сослан на Сахалин за разбой. Бежал, разбойничал в Корсаковском округе в шайке беглых, убил, защищаясь при поимке, крестьянина. Затем вместе с одним бывшим инженер-технологом был пойман в подделке пятирублевых ассигнаций и, наконец, украл из церкви ножичек.
– Бог меня из огорода выгнал, красть у него стал. С тех пор без Бога и хожу, – с грустной улыбкой объяснил мне Федотов.
За свои три преступления Федотов получил три раза по сто плетей и был три года прикован к тачке. Теперь у него развился сильнейший порок сердца. Он еле ходит, еле дышит. Страдает по временам сильными головокружениями и психически ненормален: его подозрительность граничит прямо с бредом преследования. Во время припадков головокружения он кидается с ножом на докторов и на начальство. В обыкновенное же время это очень тихий, кроткий, добрый человек, слабый и крайне болезненный.
Преступление, за которое он подлежал наказанию на этот раз, заключалось в следующем. Боясь, что в Рыковском доктор лечит его не «как следует», Федотов без спроса ушел в Александровск к доктору Поддубскому, которому вся каторга верит безусловно. За побег он и был присужден к 80 плетям. Еще не подозревая, что мне придется перед вечером встретиться с Федотовым при такой страшной обстановке, я беседовал с ним. Он подошел ко мне с письмом.
– От кого письмо?
– Собственно от меня.
– Зачем же писать было?
– Не знал, будете ли с таким, как я, говорить. Да и высказать мне все трудно, – задыхаюсь. Видите, как говорю.
В письме Федотов «считал своим долгом» известить меня, что каторга относится к моей любознательности с большим сочувствием, просил меня «никому не верить» и каторги не бояться: «Кто к нам человек, к тому и мы не звери». И в заключение выражал надежду, что мое посещение принесет такую же пользу, как и посещение «господина доктора Чехова».
И вот в тот же день мы встретились с Федотовым при таких обстоятельствах. В числе других подлежавших наказанию был приведен в канцелярию и ничего не подозревавший Федотов. В сторонке скромно стоял палач Хрусцель со своими инструментами, завернутыми в чистую холстину, под мышкой. Около дверей с испуганными, растерянными лицами толпились подлежащие наказанию.
Я с доктором и помощником смотрителя сидел у присутственного стола.
– Федотов!
Федотов с тем же недоумевающим видом подошел к столу своей колеблющейся походкой слабого человека.
– Зачем меня, ваше высокоблагородие, изволили спрашивать?
– А вот сейчас узнаешь. Встаньте, пожалуйста: приговор, – обратился ко мне помощник смотрителя и начал скороговоркой зачитывать приговор: – Принимая во внимание… признавая виновным… 80 плетей…
Чем далее читал помощник смотрителя приговор, тем сильнее и сильнее дрожал всем телом Федотов. Он стоял, держась рукою за сердце, бледный как полотно, и только растерянно бормотал:
– За отлучку-то… за то, что к доктору сходил.
И когда кончили читать приговор и мы все сели, он, удивленно посмотрев на нас всех с величайшим недоумением, сказал:
– Вот так Бог. Значит, пусть отнимают жизнь…
Сказал, шагнув вперед, и вдруг все лицо его исказилось. Его забило, затрясло. Вырвался страшный крик. И посыпался целый ряд таких кощунств, таких страшных богохульств, что действительно жутко было слушать. Федотов рвал на себе волосы, одежду, шатаясь ходил по всей канцелярии, ударялся головой об стены, о косяки дверей, и вопил не своим голосом:
– Режьте, душите, бейте меня! Хрусцель, пей мою кровь! Надзиратель, убей меня!.. – Он кидался на надзирателей, разрывая на себе рубашку и обнажая грудь: – Убейте! Убейте.
И пересыпал все это такими богохульствами, каких я никогда не слыхивал и, конечно, никогда уж больше не услышу. Трудно себе представить, что человеческий язык мог повернуться сказать такие вещи, какие выкрикивал этот бившийся в припадке человек.
Становилось трудно дышать. Доктор был весь бледный и трясся. Перепуганный помощник смотрителя кричал:
– Выведите его! Выведите!
Федотова схватили под руки. Он вырывался, но его вытащили, почти выволокли из канцелярии. Теперь его вопли слышались со двора.
– Да разве его будут наказывать с пороком сердца? – спросил я.
– Кто его станет наказывать. Разве его можно наказывать, – говорил дрожащий доктор.
– Так зачем же вся эта история? Для чего? Что же прямо было не успокоить его, не сказать вперед, что наказание приводиться в исполнение не будет, что это только формальность – чтение приговора? Ведь он больной.
– Нельзя-с, порядок, – бормотал юноша, помощник смотрителя.
Вот, быть может, одна из тех минут, когда гаснет вера – и злоба, одна злоба на все, просыпается в душе.
– Какой я есть православный христианин, – часто приходилось мне слышать от каторжан, – когда я и у исповеди, святого причастия не бываю!
Многие просто отвыкают от религии.
– Просто силком приходится гонять, – жалуются и священники, и смотрители.
Обыкновенно же это уклонение имеет своим источником глубоко религиозное чувство.
– Нешто тут говение, – говорят каторжане, – из церкви придешь, а кругом пьянство, игра, ругня. Лоб перекрестишь, гогочут, сквернословят. Исповедуешься – придешь – ругаться. До причастия-то так напоганишься – ну и нейдешь. Так год за год и отвыкаешь.
И сколько глубоко религиозных людей отвыкает. Говоришь с ним, слушаешь и диву даешься: «Да неужели все это люди из „простой“, верящей, религиозной среды?»
– Помилуйте, где ж тут, какому тут уважению к религии быть? – говорил мне один из священнослужителей в селении Рыковском. – Еще недавно у нас покойников голых хоронили.
– Как так?
– Так. Принесут в гробу голого, и отпеваем. Соблазн.
– А где ж одежда арестантская?
– Спросите… Не похороны, а смех.
В библиотеке Александровского лазарета я нашел предназначенные для духовно-нравственного чтения каторжанам следующие книги:
16 экземпляров брошюры «О том, что ереучения графа Л.Толстого разрушают основы общественного и государственного порядка».
21 экземпляр брошюры «О поминовении раба Божия Александра» (поэта Пушкина].
4 экземпляра «Поучения о вегетарианстве».
14 экземпляров брошюры «О театральных зрелищах Великим постом».
Конечно, это играет огромную роль: эти брошюры о Толстом, о существовании которого они никогда и не слыхивали, и особенно – «о театральных зрелищах Великим постом».
И в то же самое время в этой библиотеке на Сахалине, так хорошо вооруженной против театральных зрелищ, имеется для раздачи каторжным всего 5 экземпляров Нового Завета и только 2 экземпляра «Страстей Христовых».
Вот и всё.
Сектанты острова Сахалин
1Когда кандальников за убийство запирают на парашу, они развлекаются игрой, представляющей собою гнуснейшую и циничнейшую пародию на богослужение.
Священник собора в посту Александровском рассказывал мне, как он приготовлял к смерти троих приговоренных к повешению:
– Три дня и три ночи пробыл я с ними. Не выпускали они меня от себя. У них и спал. Забудешься с полчасика, а потом опять будят: «Батя, вставай» – молиться и Священное Писание читать. Все о будущей жизни беседовали. Это с двоими, а третий, старик, тот все над нами хохотал. Ругался. «Спать только мешаете!» Мы запоем – а он: «Веселенькое бы что спели!» И так кощунствовал. Нераскаянный и помер.

Жилища коренных народов
А этот старик был простой русский крестьянин.
– В Бога не верят! – с ужасом жалуются краткосрочные.
– Из десяти девять – атеисты! – говорят более интеллигентные каторжане, особенно, кто подольше здесь поживет.
Но ведь все это простой русский народ – «к Богу привычный»! Должна же религиозность прорваться в виде протеста, прорваться ярко, страстно, горячо, фанатически!
И она прорвалась.
В селении Рыковском и окрестных возникла секта «православно верующих христиан». Секта эта, ниоткуда не занесенная, чисто сахалинского происхождения. И возникла она, быть может, именно как невольный протест против атеизма каторги.
Два года тому назад, когда я был на Сахалине, сахалинские «православные христиане» претерпевали гонение, что еще более закаляло их в сектантской вере.
На мой вопрос, что это за секта, священник села Дербинского, «воздвигший на них гонение», очень оригинальный сахалинский батюшка из бурят, отвечал мне: молокане.
А от самих сектантов я слышал:
– Христос есть камень, о Который разбиваются неверующие, к примеру сказать, хоть молокане.
Секта странная, как странна ее родина, как необычайны люди, ее основавшие.
Батюшка из бурят, богословски, по его словам, «особенно не образованный», не особый знаток в определении сект. Он и «гонение воздвиг», то есть начал дело о молоканах, после того как потерпел крушение на мирном пути. Прослышав о появлении сектантов, он устроил с ними собеседования, но сектант Галактионов, Писание знающий действительно, как таблицу умножения, начал «предерзко засыпать батюшку ложно толкуемыми текстами». Собеседования эти были так «соблазнительны», что священник их прекратил и нашел, что секта, с которой он борется, не простая, а «опасная».
А опасная секта – это, по мнению батюшки, молоканство.
И вот страстные сектанты ждали, дождаться не могли гонений за то, что они исповедуют будто бы молоканство. Им страстно хотелось именно неправедного гонения:
– Пусть ижденут нас за напраслину!
И они готовились к этому гонению за напраслину радостно, как к мученичеству.
Сахалинская секта «православных христиан», еще раз повторяю, секта странная, в ней всего есть: и молоканства, и духоборчества, есть несколько и хлыстовщины. Хотя у этой секты и есть Иисус Христос, но главою ее, истинной душою следует считать апостола Павла – Галактионова.