Текст книги "Московская живодерня (сборник)"
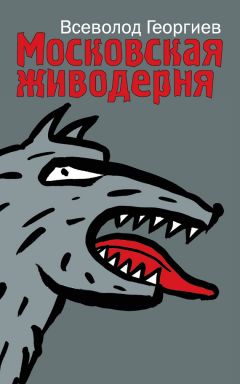
Автор книги: Всеволод Георгиев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
С первой постановки «Сида» прошло десять лет. Ришелье умер. Еще раньше скончался героический период построения абсолютизма. И в пьесах Корнеля твердая власть постепенно утрачивает блеск мудрости и милосердия. Он пишет «Цинну, или Милосердие Августа», затем «Смерть Помпея» и «Родогунду». Гармонии человека и государства не получается. В трагедии «Никомед» Пьер Корнель наотрез отказывается скрывать лицемерие в политике. И слоган, который выдумал один из его коварных героев Цинна, «Всех хуже государств то, где народ – владыка!» тоже отдает лицемерием.
Корнель играет честно, он понимает: сначала благие намерения, потом долгая дорога, потом кромешный ад. Что поставить вперед, Человека или Государство? Не решили – будет твориться беззаконие и хаос. И внутренняя война не покинет вас.
– Корнель? Разве он еще жив? – Людовик XIV поднял брови. – Нуждается? Это непорядок! Думаю, мы должны дать ему пенсию. Конечно же по минимуму! Право, не можем же мы допустить, чтобы член академии умер у нас от голода!
ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО
За мной читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык.
М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»
Боже мой! Вечно меня посещают чужие истории. Когда это кончится! Хоть бы одна своя была! Так ведь нет. Скучная жизнь, скучные люди, скучный пейзаж. А у других все не так. Все по-особенному. Красиво, мило, занятно, необыкновенно. Чуть не сказал «волшебно». Глаза внимательные, смотрят в глубину. Голос приятный, негромкий, убедительный. Где вы, люди? Где-то рядом, я чувствую… Проходят мимо. Пишут письма.
На днях я получил письмо. Только адресовано оно было не мне. От неизвестного неизвестной. Вы бы предпочли, чтобы я его назвал незнакомцем? Дудки! «Незнакомец» по-русски звучит как-то резковато, не думаете? Прислушайтесь к неизвестному. Неизвестный… Также для иностранного уха, наверное, звучит Россия. Рессорно катящееся слово. Похоже на что-то мягкое, сытное, с приятным ванильным запахом. Неизвестный… В глазах глубина. Речь плавная. А незнакомец! Уличное слово. Романтичный проходимец при гражданской внешности.
Почему я? Почему я получил? Очень просто. Я обменял квартиру. Здесь жила женщина. Она самая – неизвестная. Обмен был сложный, и вспомнить я ее не в силах, видел мельком. Да может, это была и не она.
Но все равно, я ее представляю, как Неизвестную. Тонкий аромат. Возраст в районе сорока. Золотистый взгляд, тихий голос. Мечта. Наверняка на самом деле все наоборот. В лучшем случае – всего-навсего незнакомка. А в худшем? Не то, что вы подумали. Просто голос резкий, табачно-хрипловатый. Если говорит со слабым, глаза округляются, интонация повелительная, с сильным – заискивает. Презирает и использует порядочных, безотчетно, в соответствии с инстинктом уступает дурным. Бр-р! Нет, пусть будет Неизвестная!
И что теперь? Письмо без имени, без подписи. Она замужем. Или уже нет? Не помню. Искать ее я не в силах, сил хватает только на то, чтобы спуститься вниз за продуктами. Выбросить письмо? Тогда она его никогда не прочтет. Nevermore! Страшное слово. Так пусть же восторжествует судьба. Ты не исчезнешь, начертанное слово, как не исчезает любовь. Любовь и судьба. Вы спорите друг с другом или соглашаетесь?
* * *
Я видел сон: мы с тобой проводим лето на даче. Почему-то каждый занят своим делом. Я все время жду твоего слова, твоего взгляда, но ты скупишься. Ведешь себя так, будто мы – в привычной обстановке, на людях, и никто не должен знать, что мы самые близкие друг для друга люди. Хотя все и так подозревают. Но надо соблюдать приличия и не давать повода для сплетен. Однако на даче, где мы одни, ты ведешь себя строго, и я расстроен. Нет, я все равно на седьмом небе от счастья, как всегда, когда ты рядом. Счастлив и в то же время безмерно огорчен твоей холодностью. И во сне счастлив, так как ты снова здесь, а я уже целую вечность не видел тебя ни наяву, ни во сне.
Не верь романам. Мы встретились, и я ничего не почувствовал, а ты почувствовала, я знаю, ты почувствовала: вот моя судьба. Сколько лет прошло, и теперь перевес у меня, я несу ношу судьбы, а ты освободилась от нее.
Наше первое свидание. Осень.
– Опадут листья, – сказала ты, – не успеет выпасть снег, как ты покинешь меня.
Я промолчал.
Через месяц ты скажешь:
– Что бы я ни вытворяла, помни, я всегда буду тебя любить, тебя одного на всем белом свете.
Я промолчал.
Жизнь посмеялась над нами. Я, это я не покинул тебя, и я всегда буду тебя любить. Скажешь, самонадеянное заявление? Но, посчитай, с той поры минуло двадцать лет.
А ты разлюбила. Ты этого не сказала, нет. Но я почувствовал. Почувствовал задолго, как чуют звери подземный гул грядущей катастрофы. Видишь, все произошло не так, как ты предполагала. Я даже помню этот первый звоночек. Ну конечно, это не была какая-нибудь ссора. Все не так тривиально, как кажется, жизнь полна штампов, но главное совершается незаметно.
Какое-то время, помнится, мы не виделись, наверное, ты проводила лето с семьей на даче (у твоего мужа была хорошая дача). Но разлука миновала, ты пришла ко мне днем, я открыл дверь, радостно бросился к тебе.
– Здравствуй, здравствуй, – ты назвала меня по имени, улыбаясь.
Приветствие прозвучало протяжно и покровительственно. Так здороваются учительницы с учениками.
О, такие вещи мне внятны. Я не придал этому значения, ведь ты обещала любить всегда. Но не забыл. Тем более что ты, сама не замечая, время от времени напоминала об этом.
Вот еще случай. Мы сидели вдвоем в лаборатории. Никакие лаборатории уже никому не были нужны. Все бросились делать деньги или выживать. А мы задержались, как два осенних листа на облетевшем дереве. Лишь бы не разлучаться. Зарплату задерживали на четыре месяца. Инфляция. Ты жила в семье, где твоя зарплата мало кого интересовала. Я жил один. Приходил день, когда мне не на что было доехать до работы. Я не замечал этих неудобств. Я был счастлив, потому что мы были вместе. Зачем деньги, если нет тебя рядом?
Я садился за руль «жигуленка» и в поисках пассажиров гонял по улицам, подхватывал их у метро, у автобусных остановок, просто у переходов и перекрестков.
Очень мне это не нравилось. Грубое дело. Однажды подсели наркоманы, попросили остановиться в каком-то дворе, им понадобилась вода. Я дал воду, которую возил, чтобы доливать в бачок для мойки ветрового стекла. Колоться стали на заднем сиденье. Видно было – невтерпеж. Не найдись у меня воды, они, кажется, взяли бы ее прямо из лужи.
Конечно, водитель видит, кого сажает. Но в тот раз была ужасная погода, никто никуда не ехал, а потраченный бензин тоже денег стоит.
В другой раз посадил разбойников, охотящихся за машинами. Все очень просто и обыденно. Двое приличных парней. Высокий сел сзади. Довезли того, что пониже, до дома, остановились в безлюдном месте. Низенький как бы пошел за деньгами, чтобы расплатиться. Высокий остался, как бы для гарантии. Пока сидели, разговорились. Оказалось, он занимался когда-то в соседней с моей спортивной секции. Потом уж признался, почему мешкал: моя шея показалась ему слишком толстой – боялся не справиться.
Ты же знаешь, до тебя у меня была масса друзей и знакомых. Не было случая, чтобы я прошел по улице, ни разу ни с кем не поздоровавшись. Я мог бы устроить свою жизнь. Но жизни без тебя я не представлял. И вот вам, пожалуйста: любовью обречен на одиночество.
Ты убедила меня, что любовь бывает вечной. Разве я не сопротивлялся с отчаянностью интеллигента? Пока не понял, что ты права. Права… Вот только счастливой любви не бывает.
Тогда я обрел мир в душе. Я осознал простоту и величие жизни. Я стал твердым внутри и мягким снаружи. У меня есть ты. И это единственная ценность в жизни. Я успокоился на том, что мы проживем долгодолго, состаримся и будем рядом до самого конца. Я обещал и себе и тебе, что постараюсь прожить как можно дольше, ведь я значительно старше тебя, а жизнь мужчин короче женской. Помнишь, ты боялась, что я умру раньше времени? Или боялась, что я вдруг влюблюсь в другую. Думала, что если куплю машину, то тебе буду уделять меньше внимания. И ошибалась. Все время ошибалась во мне. Когда разлюбила, все умозрительные проблемы отпали сами собой. Чем больше я стремился к тебе, тем явственнее ты отступала. Я тянул саблю за острие, ты отталкивала ее, упираясь в эфес. Объяснит ли кто-нибудь мне это?
Неужели все так тривиально? Твой интерес питался моей свободой. Лев, лежащий у ног, быстро наскучил. Слишком просто для тебя! Скажешь, жизнь – штука не простая, а очень простая? Слишком пошло для тебя! Нет, нет и нет! Тогда что? Нет ответа.
Я никогда не настаивал на твоем разводе. Возможно, ты этого ждала. Прости, тебе решать такие вопросы. Я не мог стать причиной разрушения твоей семьи, тем более когда дети еще не подросли. Увы, мы дождались их совершеннолетия, и ты окончательно порвала со мной. Это для меня было столь неожиданно, что ошеломление не покидает до сих пор, а ведь прошли годы. Как долго можно жить в остолбенении?
Прости, я отвлекся. Так вот, мы сидели в лаборатории. Вообще, ходить на работу не имело никакого смысла. Потому что работы все равно не было.
– Давай, – сказал я, – завтра вместо работы ты приедешь ко мне с утра. Мы будем сидеть на кухне, пить чай. За окном, как сейчас, будет идти снег, и я расскажу тебе свою жизнь.
– А что, – сказала ты, – это интересно?
О-па!
Получил?!
Я что-то промямлил, постарался отшутиться. Но острие кольнуло в самое сердце. Мы были вместе уже лет восемь, но что ты, в сущности, знала о том, как я жил до тебя? Только факты анкетной биографии.
Ах, если бы ты соизволила рассказать мне о своем детстве, школьных отметках, учителях, выпускном вечере, об институте, практике, первых свиданиях, даже о свадьбе! Ты не нашла бы более благодарного слушателя. Я бы слушал тебя, как мать слушает свое дитя, переживая события вместе с ним. А ведь ты, если захочешь, становишься отличной рассказчицей. Звук твоего голоса – для меня лучшая музыка, но когда он наполнен желанным содержанием, это – музыка сфер.
Но ты редко пускалась в откровенность. Я же был откровенен. Мне нечего было скрывать от тебя и нечего было стыдиться. Скрывают дурное, хорошего не стыдятся. Откровенность – это вежливость любящего.
Две ошибки я совершал сознательно. Знал об этом, но не позволял себе вести любовную игру. Ей нет места, когда любовь настоящая. Это – мелко. Любовь, равно как и с рождением, сравнима со смертью. Равновеликие вещи. Любовь ходит рядом с одиночеством. А одинокий путь подобен смерти. Шекспир?
Первая ошибка, как я уже сказал, – откровенность. Я ничего не скрывал от тебя. Ни мотивов, ни стремлений. Никакой интригующей завесы, тайны, подогревающей любопытство. А ведь любопытство разжигает интерес.
Вторая – я делал все, чтобы ты не имела случая испытать ко мне чувство жалости. И за годы ты привыкла к этому. Я не вызывал чувства жалости. Скажешь – гордыня? Нет, нет и нет! Я жалел тебя. По себе знаю, как мучительно больно видеть попавшего в беду любимого человека. Когда не знаешь, чем помочь, и сердце переполняется жалостью.
Я сам виноват в этом. Еще на заре нашего чувства был день, когда ты подошла ко мне, искренне соболезнуя: отвергли тему моей докторской.
– Ерунда! – сказал я, надевая пальто, – мне пора на тренировку.
Вот и все. Но ты для меня осталась навсегда, а к докторской я больше никогда не возвращался. Хотя рана, нанесенная коллегами в тот день, все еще ноет.
Потом я постарался не давать тебе повода жалеть меня.
Через несколько лет я убедился не только в отсутствии жалости, но и в отсутствии любви.
Вот как это было. Мы ушли из науки. Ты занималась организацией новой фирмы. Было арендовано и отремонтировано помещение. Иногда я чем мог помогал тебе. Ты была энергична, молода, привлекательна. Ну а я был еще совсем юн: мне к тому времени не исполнилось и сорока девяти.
Мы с тобой пошли в магазин, и ты выбрала отличное покрытие на пол. Когда продавцы скатали его в рулон, это оказалось такое славное бревно высотой до потолка вашего офиса и толщиной чуть больше одного обхвата. Мне в нем не понравилось только одно: оно было связано не прочной веревкой, а прихвачено какой-то клеенчатой полоской, которая тянулась и рвалась при минимальной нагрузке.
Когда я опрокинул его себе на одно плечо, труднее всего было сохранить его равновесие. Так я миновал рынок и перешел улицу. Переход выглядел со стороны, наверное, весьма необычно. На середине улицы пришлось остановиться, чтобы пропустить машины справа, но рулон сам перегородил улицу, так что машинам пришлось меня пропускать. Повернуть же эту махину и расположить ее параллельно осевой линии не могло быть и речи: момент инерции был столь велик, что на это ушло бы немало времени. При этом я, пожалуй, разметал бы пешеходов да задел бы не попадающие в поле зрения машины.
Всю дальнейшую часть пути я прошел, взяв рулон на плечи. Так, по крайней мере, удавалось при быстрой ходьбе обеспечить равновесие. Однако из-за толщины этого бревна, будь оно неладно, пришлось согнуться. Подобие веревок не позволяло его удерживать на плечах руками, чуть сильнее потянешь, и они могут порваться. Стояла редкая жара. Помню, пот заливал глаза. Все-таки мне пришлось остановиться, чтобы отдышаться. Метров через двести еще раз. Но ты все время шла рядом, и это придавало мне сил. Потом я остановился уже у ворот. Ты сбегала за ремонтными рабочими. Они вдвоем бодро занесли рулон в помещение первого этажа. Потом ты напоила меня чаем.
– Они довольно легко справились с ним, – прокомментировала ты их расторопность.
– Вдвоем и гроб нести веселее, – я был уязвлен и потому склонен к мрачным шуткам.
«И когда повели Его, то, захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом».
Правда ли, что среди добродетелей человека Богу всего угоднее преданность?
Я продолжал делать вид, что все это – пара пустяков, но сердце саднило от сознания, что твоя любовь ушла и ты этого не пытаешься скрыть.
Впрочем, ты всегда была прямым человеком и не особенно заботилась о том, как отзовется твое слово. Но до чего же я благодарен тебе за эту прямоту! За то, что ты меньше всего думала, хорошо ли это выглядит в глазах окружающих. И всегда, всегда была права. Ты жила, как дышала. Я пытался чему-то тебя учить, возможно, я накопил больше информации, возможно, имел какие-то знания, но чему я мог научить? Я сам учился у тебя, потому что ты учила меня мудрости.
Только недалекие люди ценят ум. Мефистофель – умный? А Фауст? Умными людьми совершаются как благодеяния, так и небывалые преступления.
Нет, истинной ценностью является мудрость.
Как, вообще, ты могла полюбить такого сноба, как я? Мне повезло.
Твои слова и поступки были продиктованы будто иной, невидимой и неслышимой другими песней, идущей с небес музыкой. С ней и только с ней ты сверяла их. Тебе было неважно отношение к ним окружающих, важно лишь, как они оцениваются там. Наверное, это свойство сошедших с неба ангелов. Спустя некоторое время после хирургической операции, ты помнишь, нам случилось перебираться через ограду. Ты была еще слабенькой, и я подхватил тебя на руки, чтобы перенести, как хрупкую вещь, через метровый заборчик. Тогда я понял, что держу на руках ангела. Легкая, как пушинка! Четыре прозрачных грамма души и ни грамма тела.
Ты научила меня выбирать скромность, честь, чувство долга, непритязательность, стойкость, веру и бояться малодушия, корысти, амбиций, общего увлечения, одобрения недостойных.
Лишь в одном я не согласился с тобой. Я постарался сохранить внимание к людям. Бесстрастное достоинство ангела позволило тебе без видимого сожаления переступить через меня и покинуть, не удостоив объяснения, беспощадно, не заботясь более об отверженном. Сколько раз я просил тебя одуматься, хотя бы намекнуть, что произошло.
– Все это не имеет никакого смысла, – повторяла ты.
Мое горе тебя не трогало. Будто какой-то смысл может быть выше страданий ослепшего от слез человека.
«Что мне сделать, чтобы ты бросил меня и был при этом бесконечно счастлив»? «Ты будешь плутать не в том веке, в каком меня оставил». «Побежденной тоже быть хорошо». «Я не хочу быть свободной. Эта свобода будет оплачиваться одиночеством. Без тебя. Мне легче потерять себя, чем опору».
Я помню, как тебе делали операцию. Помню каждую долгую минуту.
Ты обмолвилась о своем диагнозе за шесть лет до этого. Сердце мое сжалось. Я не мог представить тебя, такую хрупкую, слабую, мнительную, на операционном столе, теряющую сознание, уходящую в забытье, исполненную ужаса, не знающую, суждено ли вернуться обратно. Откроешь ли глаза, чтобы, не веря, констатировать: жива?!
Но и без операции до старости не доживешь. Я раздвоился. Что я мог сделать? Только любить. Любить всеми силами, надеяться и верить.
О, если б я любил тебя чуть меньше, я бы стал настаивать на операции. Энергично и аргументированно. Если б я любил тебя заметно меньше, я б не стал ни на чем настаивать.
Я хорошо помню этот день. Он был теплый, весенний, я принес тебе свою первую книжку (вторая вышла, когда ты давно меня забыла). И у метро ты купила мне цветы…
Я был счастлив с тобой. Это не было безоблачное, эгоистическое, юное счастье, свободное от забот, неприятностей, настороженности. Всего хватало. Но это было лучшее время в моей жизни. Нас тянуло друг к другу. При первой возможности ты устремлялась ко мне; располагая временем, я мог часами незаметно стоять под твоими окнами, радуясь оттого, что ты здесь, неподалеку.
И вот с каждым годом ты становилась все слабее и слабее. Это мучило меня, я не видел выхода. Я мог, держа портфель в левой руке, другой расшвырять трех подвыпивших забияк. Я мог сдвинуть с места автомобиль, оставленный на стоянке. Я мог… Как же слаб человек!
Но что не под силу человеку, то под силу Богу. Тебе пришлось лечь в больницу, а я пошел в храм.
Я не видел выхода. Господь дал его.
Однажды нам повстречалась женщина, которая, к слову, рассказала, что у нее была такая же проблема, что ей сделали операцию и через год она уже грузила мешки с картошкой. И ты заинтересовалась. Я старался укрепить тебя, чтобы принять решение.
Вдвоем легче жить на земле. Мы прошли вместе долгий и не очень приятный путь перед операцией. Я вез тебя, не слишком здоровую, не слишком уверенную, сдавать анализы, я сопровождал тебя на консультации. Я не знал усталости, отбросил все сомнения.
День операции я никогда не забуду. Стоял холодный, ветреный февраль. С утра мело. Я был немного простужен. Я верил, верил, собрав все силы. Я дал себе обещание, что не оставлю тебя при любом исходе. Если твоя судьба – уйти в серое февральское небо, я уйду за тобой. Любовь сильнее судьбы.
Тогда сквозь летящие клочки облаков мы с тобой оттуда, сверху, увидим внизу замерзшую землю, заметенное кладбище и под снегом мое неподвижное, мертвое тело.
Так я думал, может быть несколько выспренне, излишне романтично. Романтика романтикой, однако я совершенно трезво отдавал себе отчет в том, что я не двинусь с того места, где ты обрела вечный покой, а мороз сделает свое дело и принесет желанный сон.
Нет, все-таки я верил! Рано утром я отправился в больницу. Больница работала в соответствии со своим режимом. В будний день с утра меня не хотели пускать. Я преодолел все преграды. Ничто не могло меня удержать. Я должен был быть рядом, быть готовым передать тебе свою силу, энергию, свои годы, жизнь, наконец. Только бы они пригодились.
И более прозаическая вещь: я должен был подстраховать твоих домашних. Я видел, как в больнице после операции безхозных больных, не пришедших в себя, оставляют в коридоре на каталке, предварительно сунув в рот использованную шариковую авторучку, чтобы не задохнулись, и больше на них не обращают внимания. Ни на сползшее покрывало, ни на то, дышит ли еще человек или уже нет. Потом, уже после операции, навещая тебя, я наблюдал, как вывозят из корпуса на тех же каталках тела, накрытые с головой (казенного одеяла не хватало, чтобы прикрыть ноги), и буднично везут по аллее к моргу.
Когда я поднялся на этаж, тебя уже отвезли в операционную. Затем туда же прошли врачи. Я стоял у окна. Метрах в пяти от меня стояла твоя мама. Больше никого в коридоре не было. Она все время плакала. Она и не ведала, что этот ранний посетитель любит ее дочь больше жизни. Вот так и стояли два любящих тебя человека до конца операции: я, вынужденный скрывать себя, чтобы, не дай Бог, не причинить тебе семейных неприятностей, и она, в своей кажущейся потерянности.
Потом вышел врач, и я улучил момент, чтобы справиться об операции. Он сказал, что все нормально. У него был беспечный вид, и я поверил ему.
Прошло некоторое время, и тебя вывезли в коридор. Голова твоя была повернута набок, и было видно, что ты сладко спишь. Спишь, вся поглощенная этим состоянием. Спишь предутренним сном, когда так не хочется просыпаться, как в детстве, когда тебя будит мама, а ты не в силах ни открыть глаза, ни пошевелиться. Тебя даже не направили в реанимацию, сразу повезли в палату. Над тобой хлопотала женщина-анестезиолог. К ней и медсестрам присоединилась твоя мама. А мне было нельзя. Нельзя… Но я уже видел, чувствовал, что все в порядке, и это с лихвой оправдывало мелкие неудобства. Я проследовал на некотором расстоянии за вами: вдруг потребуется мужская помощь при перемещении на кровать. Но ты была такая легкая, что помощи не потребовалось.
Анестезиолог позвала тебя и спросила, узнаешь ли ты ее? Ты сказала, что нет.
– Как не узнаешь? – воскликнула она с таким удивлением, что ты пробудилась окончательно.
Дверь в палату закрылась. С тобой осталась мама. Я был счастлив.
Она оставалась с тобой несколько дней, а мне так хотелось тебя увидеть. Часами я ходил под окнами. И я не упустил своего шанса.
Был солнечный морозный день. Я, как часовой, прохаживался рядом с твоим корпусом. Она вышла в пальто и пошла по территории, занимаемой больничными корпусами, к выходу. Я убедился, что ее целью является автобусная остановка: значит, по крайней мере полчаса у меня есть. Предстояло преодолеть охрану, но эта задачка меня уже не могла остановить. Через несколько минут я был у двери в твою палату. Дверь была закрыта, палата была женской, но в это время кто-то выходил, мне везло, я увидел, что можно войти, и вошел. Не помню, был ли кто-нибудь еще в палате, мое внимание было приковано к тебе. Ты улыбалась, будто ожидала, что едва дверь закроется за твоей мамой, как я телепортируюсь в твоей палате. Так было всегда. И прежде и потом я находил тебя, где бы ты ни ждала, куда бы тебя не увезли. Зачем нужна сила, если нет верности!
Мне думается, ты знала, и я был горд твоим знанием, что в какой бы уголок земного шара, при каких бы то ни было обстоятельствах, тебя ни забросила судьба, рано или поздно я появлюсь на твоем пороге.
Помнишь, однажды ты решила, что твоя болезнь ведет к инвалидности, и отлучила меня от встреч. Несколько недель ты сидела на больничном, не подходила к телефону, я же маялся, не зная, в чем дело. Наконец, я придумал, как с тобой встретиться. Я поехал в твою поликлинику и в регистратуре, представившись деятелем профсоюза, узнал, на какое время тебе назначено продление больничного. В назначенный час я был у кабинета врача. И опять ты улыбалась, хоть и смущенно, однако не удивляясь: знала, что я найду способ увидеться.
Стоит ли говорить, что я ни в чем не изменился. С той поры я много раз искал и находил тебя, но вот ты стала холодна ко мне, мне пришлось отступить: таково твое желание. Но мнится: где-то глубоко, в тайниках души, в подсознании ты сохранила уверенность в том, что, когда понадобится, я, как прежде, найду тебя, и ты будешь притворно хмуриться и прятать улыбку. И за это короткое мгновение позабудется холодная тоска одиночества.
После операции ты будто решила, что начался новый этап в твоей жизни. В ней мне место не отводилось. Мы еще продолжали работать вместе, но свидания становились все реже и реже. Ужасное время – середина девяностых. Один за другим появлялись некрологи пятидесятилетних, наших вчерашних сослуживцев и знакомых. Еще удар для меня – ты оформляешь загранпаспорт. Он разделяет нас, как опустившийся шлагбаум, как социальное неравенство, как колючая проволока. Мне эта роскошь недоступна: предполагается, что слишком много государственных тайн поместилось в моей голове за годы работы. Я не накопил и рубля, подобно церковной мыши, я не стал номенклатурным работником, которому идут навстречу, я утратил все связи, потому что среди сотен связей отдал предпочтение одной, важнейшей и стоящей всех остальных. Теперь я вижу себя оставленным и забытым посреди раскисшего осеннего проселка, деревья тщетно простирают голые ветви к свинцовым тучам.
– Чтобы я ни вытворяла, помни, я всегда буду тебя любить, тебя одного на всем белом свете.
Ты причиняешь муки любящему тебя, и это лучший способ оставаться вечно любимой. Знай: ты принесла мне счастье.
«Когда даешь себя приручить, порой случается и плакать». Сент-Экзюпери. И еще он, кажется, сказал, что в мире есть только одна роскошь – роскошь человеческих отношений. Люди, не убивайте друг друга, ведь все равно все умирают.
* * *
Я люблю смотреть в окно. Вижу улицу, трамваи, пешеходов. Машин у нас не так чтобы много. Не главная магистраль, окраина. День серенький, сухой асфальт, облетевшие деревья. Люди выходят из булочной, спешат домой. Я сижу на кухне, не зажигая света: с третьего этажа улица – как на ладони.
Надо сказать, я очень скоро вычислил его, ну, того самого, Неизвестного, что письмо написал. В сумерках он появлялся на противоположной стороне улицы, бродил, поглядывая в сторону моих окон, видно, надеялся увидеть ее. Ведь если окна зажигают, значит, кто-то должен появиться за стеклом, как в аквариуме. (Здорово сказал, почти как поэт!). Значит, у кого-то екнет сердце, когда взгляд поймает знакомую фигуру в освещенной раме! (Тоже неплохо!)
Но его дело было безнадежным, ведь она давно уехала.
Однажды я спустился за хлебом и решил подойти к нему. Мне надоело наблюдать страдания этого стареющего Вертера. Я понимал, что сейчас развею иллюзии, уничтожу надежду, смысл, побуждающий его хоть к каким-то действиям. Мучаясь, я все-таки приблизился и, как мог, объяснил все как есть. Извинился, что прочел письмо. Я видел, как меняется его лицо. Он рассеянно взглянул на протянутую мной визитную карточку и машинально сунул ее в карман.
Я пригласил его зайти, он отказался. За моей спиной садилось солнце, проталкивая нетвердые лучи в узкую щелку между горизонтом и серой крышей облаков. Он смотрел поверх моего лица. Из сталкера, следопыта он вдруг превратился в сомнамбулу. Непобедимый горец, перед тем как двинуться в дорогу, застыл, как лунатик. Я приготовился посторониться, потому что подумал, что он шагнет прямо на меня. Но он справился с собой. Обратив ко мне ласковое лицо, он улыбнулся одними губами и тихим голосом поблагодарил за мое невольное вмешательство. Мы распрощались.
Вот что было дальше. Через некоторое время он узнал, в какой район она переехала. Однажды он бродил, как брошенная овчарка, среди новостроек, надеясь, что рано или поздно увидит ее.
Было холодно, он продрог, но сознание, что она где-то здесь, неподалеку, согревало его. Все другие места на планете не могли привлечь его так, как этот замусоренный, мертвый ландшафт, освещенный полной луной. Он продолжал прохаживаться по разбитому самосвалами тротуару, переходящему в откровенное бездорожье.
Потом к нему подошли два подростка, пряча, как черепахи, выбритые по моде головы в воротники черных курток. Он посмотрел на часы. Беседа явно не клеилась. Потом подошли еще трое.
Не веря, что это происходит наяву, он почувствовал стремительно нарастающую угрозу. Как в замедленной съемке к нему потянулись руки. Рванувшись, все пятеро повисли на нем, как собаки на медведе. Он расшвырял их по сторонам, и они, получив отпор, приостановились. Он тщетно пытался в это короткое время отдышаться. Воздуху, воздуху не хватало его легким. Он искал глазами близкое дерево или забор, чтобы закрыть спину. Бежать? Это даже не приходило ему в голову.
Они снова бросились все разом и со всех сторон. Он закрутился мельницей, нанося удары направо и налево. Атака захлебнулась. В тишине слышалось тяжелое дыхание и несвязная ругань. Отработки ударов на этом прохожем с седыми висками не получилось. Тренировка перешла в побоище с сомнительным исходом. Он засмеялся, и у них дрогнули сердца. На тот раз кинулись только трое, самых упорных. Им нельзя проигрывать. Сегодня он смеется, завтра над ними будет смеяться весь микрорайон.
Складной нож ударил его в лопатку с такой силой, что согнулся под прямым углом. Он почувствовал, будто кто-то схватил его сердце рукой и сжал изо всей силы. Ему казалось, что он кричит, но крика не было. Рот был открыт, голова запрокинута, перед глазами повернулось небо, но не было крика, не было. Он сделал шаг вперед и упал лицом вниз. Тогда рукоятка ножа стала вращаться все быстрее и быстрее, сверкая, как пропеллер. Стало тихо, и он вдруг отделился от земли и стал подниматься все выше и выше, как Карлсон. Сверху он увидел лежащее тело, которое били ногами пятеро подростков, синие огни милицейской машины, крыши девятиэтажек, ее дом и окно, за которым она готовила ужин. Он хотел спуститься к этому окну, но ему не удалось, он продолжал подниматься в вечерней мгле, дыша ровно и глубоко прохладным чистым воздухом, пока не появилась на горизонте алеющая полоса заката…
Откуда я это узнал? Его подняли на пустыре, в кармане нашли мою визитную карточку. Он перенес клиническую смерть. Я пришел к нему, когда опасность умереть миновала. Его рассказ плюс мое воображение – вот вам и драма!
Прошел год. Он поправился, правда, потерял свою прежнюю работу, да еще жестоко страдал от одиночества. Несколько раз, превозмогая ужасные воспоминания, он приезжал в ее микрорайон, но так и не встретил свою любимую.
А потом произошло нечто неожиданное. Такое бывает только в кино. Мне вдруг позвонил ее муж. Оказалось, он с ней разводится, и ему зачем-то потребовались документы на прежнюю жилплощадь. Вопрос не стоил и выеденного гроша, ну, в смысле, ломаного яйца, короче, мне удалось узнать его, а следовательно, и ее адрес. Впрочем, он предупредил, что на следующей неделе съезжает и его уже там не найти. Но, главное, дал желанный адрес. Вот так я помог несчастному.
Согласитесь, теперь она, его любимая, становилась свободной, а я превращался в вестника небес. Как Гермес, я спускался с облака, чтобы осчастливить влюбленных. Не стану скрывать, меня немного смущало, что она все же не сообщила Неизвестному о разводе, ведь он-то не менял ни адреса, ни телефона. Но, судя по его письму, которое познакомило меня с этой парой, она была человеком далеко не простым. Таким способом она могла испытывать и его самого и судьбу одновременно. Как бы то ни было, он воспринял эту новость с надеждой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































