Текст книги "Пожитки. Роман-дневник"
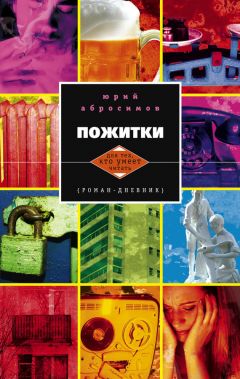
Автор книги: Юрий Абросимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
День c самим собой
Случается бодун и Бодун. Пострадавшие от наших вавилонов поймут меня. Сегодня произошел Бодун. Характеризуется он не тем, о чем вы, может быть, подумали. Не-ет. При бодуне ведь что происходит? Ну, тошнит. Ну, голова ломит. Приходится, допустим, пробавляться пивком от зари до заката. Да-а! Примерно одна бутылка на два часа существования. И вообще следующий после культурного отдыха день обычно вычеркивается из жизни. По крайней мере, мой личный регламент таков. Девушка может сказать, что от меня воняло, как от бомжа, но это вовсе не означает, что я с прошлого года не мылся. Любитель посильной радости сочится характерным запахом по причине нормально функционирующей печени. Любой компетентный специалист выступит здесь понятым. Тем не менее, когда в паре с печенью начинает работать центральная нервная система, случается еще и Бодун – процесс застывания цемента, которым полнится орган с мыслями. Тошнота при нем не обязательна, головная боль – тоже. Вас просто берет на излом латентная истерика. Вы чувствуете непреодолимую потребность выть, взвизгивать, грызть землю. Причем, если одна рука начнет споспешествовать вам в овладении землей, другая должна сладострастно раздирать ногтями лицо. Пароксизм вакханалии наступает волнами. Может прыгать температура: вам тепло при лежании в снегу и страшно холодно дома, на мягком диване. Отдельно холодно, отдельно страшно. Содержимое головы (того, чем думают) варьирует химический состав. Голова кажется наполненной освинцованным гелием, при этом способность видеть превращается в сплошной оптический обман. Вы словно бы постоянно глядите на мир сквозь исцарапанное оргстекло метровой толщины. А главное – вам при Бодуне все все равно. И пахнет от вас уже не как от бомжа, а как от трупа, которому плевать на жизнь осознанно и с колокольни, чья высота прямо пропорциональна глубине могилы, куда труп был заботливо уложен друзьями и близкими.
Я не спорю! Нормальный, приличный, культурный человек, еще лучше – аристократ по крови, может и не пить. Ему это просто не нужно. Какие такие пертурбации и коллизии, огрехи и завихрения он будет вымещать с помощью алкоголя? Какой такой спиртосодержащий крест взвалит на себя и понесет в антитезу дрянности личной карьеры? Человек, достойный подражания со стороны любого другого человека, не ходит с утра пораньше на работу зарабатывать деньги, без которых он помрет с голоду. Такой человек не идет вечером с работы, болезненно морщась из-за тесных ботинок и запревая в одежде низкого качества. И уж тем более он с работы не бежит, поскольку нужно успеть заглянуть во все окрестные магазины, где продают скверную еду, требующую дополнительной обработки и приготовления. Он не возвращается в поганую конуру многоэтажки, способной выступать дьявольским надгробием на могиле самого понятия «Архитектура», слишком поздно вспомнив, что забыл купить в подъезд новую электролампочку взамен перегоревшей. Он не переступает порог своего затхлого жилья, с мучительным опасением в душе – затопило или не затопило, ведь сантехник работает в те же самые часы, а кран течет уже давно и с каждым днем все больше, а воображение человеческое бесконечно, и при каждом удобном случае оно рисует дивные картины нижних этажей, объятых неукротимыми потоками воды, стонущих соседей с выключаемым от переживаний даром речи, с избытками ущерба, не поддающегося учету, с разорением, долговой ямой и каторгой. Всецело достойный человек избавлен от обязанностей наемного служащего, сантехника, гувернера, автослесаря и повара одновременно. Он просто живет, следовательно, вправе утверждать: «Мы не работаем, мы находим себе занятие». Само собой, занятие не менее достойное, чем вся остальная жизнь. Такое занятие развивает, доставляет удовольствие, гармонизирует личность. Разумеется, тут можно и коньячку пропустить! Шестидесятилетней-то выдержки. Отчего же не пропустить? Коньячку-то? А вот мы – холопьи смерды – совсем другое дело. Наша жизнь, более похожая на существование, представляет собой сплошную кручину, серость, раздражитель и боль. Любая боль означает потребность в анестезии. Поэтому! Дайте нам жить, и мы оставим водку. Если же нет жизни, тогда налейте выпить. Не помните ли, что многие знания – к большой скорби? Не видите разве – тварь печальная сидит…
Что бы сделал я, будучи оставленным наконец в полноценном покое? Сперва блаженно бы спал, разметавшись по всей кровати, как в детстве на каникулах. В детстве, избавленном от городского шума, атмосферной вони, мобильных телефонов и обязанностей перед работодателем. Я долго бы нежился, ощущая таяние сонливости в голове, пока из первородного океана мыслительных образов, ассоциаций, обрывков каких-то фраз и мелодий не явилась бы во всей своей красе и возбуждающем гротеске первая мысль дня. А за ней сразу вторая, после которой оставаться в постели уже решительно невозможно. Потому как преступление! И значит – ты вскакиваешь, подлетаешь к письменному столу, за тобой тянется невидимый шлейф удачи, сопутствующий любому человеку, который правильно распоряжается талантом своим и жизнью, и ты пишешь ровно столько, сколько нужно. До первой остановки. Затем ты перечитываешь только что написанное и правишь, исправленное перечитываешь и… снова немножко поправляешь. Сколько времени отнял дебютный заход, неизвестно, но знать этого и не нужно совершенно. Потому что нет рядом никого, под чей менторский, хронографический аккомпанемент звуков, вздохов, телодвижений ты пробовал бы облачиться в активную созидающую форму. Никто не начинает за тебя твой день фразой «а давай мы сегодня…» в тот момент, когда к тебе не то что «давай», а вообще еще ни одна буква не успела прийти. Никто не обустраивает между твоей первой с утра мыслью и технической возможностью ее зафиксировать дистанцию для бега с препятствиями. Ведь у них – обычных, правильных людей – устроено как? Встал, сходил в туалет, умылся, почистил зубы, оделся, убрал постель, приготовил завтрак, позавтракал, помыл посуду (все это под вой музыки по радио, под дребезг новостей каждые пятнадцать минут), снова почистил зубы, посмотрелся в зеркало… И ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА. Но тогда у вас уже не останется мыслей никаких, кроме обычных и правильных, и заниматься вы сможете не реинкарнированием вечности за счет перевода ее из своей души в осязаемые произведения искусства, а претворением в жизнь бизнес-плана Неотложных Мероприятий, составленного еще с вечера накануне, и пепел Клааса, биящийся ранее об ваше сердце, к тому моменту уже выйдет благополучно через задний проход, и много чего «замечательного» успеет случиться благодаря лишь тому, что родной, постоянно близкий человек окунет свою обожаемую жертву в ад благих намерений.
Меня воротит от людей… Сколько их! Никто из них не в состоянии хотя бы двигаться в предсказуемом направлении. Если я сам иду прямо и образцово предсказуемо, кому-нибудь нужно передо мной срезать угол, криво завернуть или внезапно застыть с тупо раскрытым ртом. Ты вроде начинаешь обходить, но и застывший тут же приходит в движение – естественно, наперерез тебе. И рот его все так же отвратительно раскрыт. А сколько элементарно некрасивых субъектов! Я уж не говорю про ум или маломальскую изюминку личности. Парад шаблонов. Один хороший поэт охарактеризовал порнографию как совокупление шаблонов. Однако проблема в том, что натурально порнографией занимается каждый, делает это регулярно и не предохраняется. Хуже того, стремится, чтобы таких, как он, шаблонов, становилось больше.
Вы мне скажете: так ведь и ты, дорогуша, неразличим в толпе. И, со стороны глядя, ты сам предстаешь в ней словно крохотный шаблончик, единичный пазл в громадном и бессмысленном месиве скучных, пресных людей. А вот и нет! – отвечу я вам. Посмотрите-ка внимательнее на ингредиенты толпы. Фактически любой из них, помимо серости и скуки, носителем которых он, в силу собственной обычности, является, глухо нормален. Страдает ли он, как и я? И – особливо – ТЕМ ЖЕ, чем страдаю я? Отнюдь. Он приходит домой и… все. То есть ничего. Вообще. До завтрашнего дня. Приходит и садится на диван. И будет сидеть. А потом ляжет на него. И пролежит, как миленький, до утра. Метаться из угла в угол точно не будет – уж оно по всему очевидно.
Пребывать одному хочется беспрестанно. Пребывать реально и долго. Просто чтобы вспомнить себя. Я ведь себя уже не помню почти! Я – потерянный человек. Моя личность похожа на тающее мороженое; когда-то имевшая жесткую лаконичную форму, она все больше расплывается лужицей по блюдцу. И это ужасно! Как бы я хотел остаться один и все вспомнить!.. Проверить себя изнутри, произвести учет изначально заложенного, хоть как-то залатать в целомудрии бреши. Ведь должен же я это сделать! Каким-нибудь способом, пусть даже вызывающим оторопь.
В свое время переболевая цингой в первой ее стадии, наблюдая за тем, как физически безболезненно происходит тление, как гниет моя плоть, я мог буквально заглянуть внутрь самого себя и внимательно рассмотреть материал, который составлял не просто какого-то там человека, а меня лично. Я удивлялся тому, насколько легко говядина живого тела превращается в мутные от гноя слезы, до чего ярко белеют человеческие кости, – они ослепительны в своем рафинадном блеске! Тогда я получил возможность подсмотреть изнанку бытия.
А еще хуже, гораздо хуже то, что я все-таки вынужден признать себя эмигрантом. Эмигрантом в собственной стране. И ничего в этом хорошего нет. Нет моего Советского Союза. Уже много лет как. Изменилась общественно-политическая формация, радикальные изменения претерпел социум, явилось новое поколение – новое в той степени, каковая обеспечивает разрыв между нами, идентичный положению иностранца, вынужденного жить не у себя дома, а в другом, чуждом государстве. Я уже никогда не верну себе свою страну. Я обречен на фактическое пожизненное изгнание. Видимо, поэтому так бывает тяжело, неуютно жить. Даже в тех случаях, когда кажется, что все просто и легко. Просто болезнь какая-то…
Стремясь провести с пользой отпущенный выходной и по-настоящему свободный в коммунальном смысле день, разбирался в архиве. Точнее, рассеянно листал блокнотик, который постоянно таскаю с собой и бывает по пьяни записываю в него мысли, при нормальном трезвом виде кажущиеся чуть ли не апофеозом пошлости. В другой какой раз они предстают до такой степени вырванными из контекста, что решительно нельзя вспомнить или догадаться – из чего и к чему возникло то или иное утверждение. Вот, например, такая, написанная кривым, путаным почерком фраза: «Перед красотой и вдохновением следует постыдство». Что это, спрашивается? О чем это вообще? Об онанизме? Или вот еще: «И даже шпалу промеж бровей не вставил! Какой же ты тогда мужчина?!»
Катастрофа, одним словом…
Пробовал читать, ставил музыку – не пошло ничего. С годами одно благополучно закупилось, другое перекупилось, третье поменялось. На смену первичному восторгу пришло умиление, очарование, успокоение, разочарование. Мир искусства погрузился в апатию и кризис, родники пересохли, земля в душах перестала родить, мейджор-лейблы аврально снизили цены. Окончательный вопрос «а какой смысл?» создал парниковый эффект в масштабах, не знающих границ. Я вывел формулу преуспеяния для отдельно взятого физического лица. Эталонно самодостаточный человек, решил я однажды, может прийти в магазин и купить музыку, приобрести фильмы, которые ему сейчас нужны, в необходимом количестве, без судорожных оглядок на кошелек. Я часто видел таких людей. У них отсутствовал нимб над головой, они приходили без охраны, кое-кто выглядел более задрипанным, чем я. Только все они уходили со стопками новинок под мышкой, а я, раз в месяц купив один диск, как будто бы довольствовался отъятием капли от счастья размером с океан. Смущало другое: те, кто мог себе позволить и регулярно позволял, они… не выглядели счастливыми. Совершенно! Равнодушные, заведенные раз и навсегда, проезжающие мимо, промахивающиеся – вот какие характеристики следовало бы им давать, не рискуя согрешить против истины. В известном смысле мой зад был радостнее, чем их перед. Но я по-прежнему считал положение обеспеченных людей – точнее, их статус, их возможности – достойной целью.
Теперь я тоже так могу. Я до сих пор оглядываюсь на кошелек, однако периодически рискую закупать кино и музыку на килограммы! Без охраны и без нимба, черпая образцы всемирного кризиса, уповая на вероятность хотя бы призрачного улова, иногда я получаю нечто возбуждающее меня, напоминающее о былом томлении сердца, о слезах, о свежести чувств. И только «опыт, сын ошибок трудных» остужает начинающую воспламеняться надежду. Все уже было, все уяснено. Остается лишь передать накопленный багаж следующему живому искателю, стоящему в очереди за мной, игнорируя его кажущуюся бездарность и стараясь не раздражаться от приступов восторга, которые провоцируют у него смертные вещи, давно для меня умершие и захороненные в общей могиле впечатлений.
Я сижу на своем рабочем месте и работаю над дневником. Прямо сейчас я пишу эти слова. Иногда отхлебываю из стакана дешевый виски со льдом и снова пишу. На расстоянии вытянутой руки от меня в кроватке лежит ангел Sofi. Она крепко спит. Лицо ребенка оформлено блаженством. Иногда лишь спонтанный мираж сознания или внутренний потуг организма заставляет ее издавать короткий всхлип или провоцирует гримасу – ненадолго. Sofi ничего еще не знает. Только начинает чувствовать. Надеюсь, что все узнаваемое ею послужит жизни. Сейчас, глядя на нее, я рассматриваю невинность, залезая тем самым в долг. Я непременно отдам его, помогая своей девочке выживать. Я – воплощенная нелепость – буду стараться…
Позже, когда с ребенком ушли на прогулку, я смог-таки налить себе еще полтинничек спиртного, для обеззараживания бациллы выпил его, трезво огляделся и ответственно пришел в ужас. Уродское тело мое – сопливое, кашляющее, чихающее, нередко стонущее, украдкой пукающее – возлегло посреди пятиметровой кухни на раскладушку, как символ жизненной помехи, отравляющей эфир бытия. Одни считают, я осунулся, другие говорят, что опух. Подлецы все. И я между ними – агнец недоделанный, на заклании… Струится кислый, обезвоженный пот. Я жалок самому себе и хотел бы, чтобы меня пожалел хоть кто-то. Я понимаю, что для этого нужно вернуться как минимум в детство или провести тотальную зачистку взрослой жизни. Зачистку классически безжалостную, по принципу «ни женщин, ни детей». А у меня нет сил.
Жду, когда Гуманоид вырастет. Недолго ждать осталось, лет восемнадцать. Мы будем сидеть вдвоем на залитой солнцем террасе, высоко над уровнем моря. Девочка позволит мне выпить чего-нибудь неразбавленного, со льдом. Чуть-чуть выпить, для раскупорки вдохновения. И я все ей расскажу. Как страдала невинная мама, как мучился я – от неизвестности и страха за маленькое зависимое существо, о ночах, прерываемых стонами ребенка, которые сам он, конечно, не вспомнит уж никогда, пока не придет его родительский черед страдать и томиться ожиданием лучшей, выросшей доли, об уязвимости расскажу и наложении пределов на самость, расскажу о болезни, когда гложет досада и кислый струится пот, болезнь превращает тебя в кусок пошлятины, ибо жив ты еще, и страдаешь, и думаешь, что слабость твою участливо воспримут и понесут, бережно прижимая к груди, да только ты уже не ребенок, ибо слишком взрослый, но ты и не родитель, поскольку сам еще – личинка на выданье, потому и закован, и порабощен, и едва можешь пукать особым способом, неслышно для окружающих и даже неосязаемо для их естественно здоровых органов обоняния, и ты конечно же, как родитель, научишь свою дочь этому великому искусству, умению пукать когда угодно, при ком угодно, из любого положения и без ущерба для окружающей среды, а она в ответ скажет:
– Па, тут такое дело… Короче, дай сто долларов. Там уже все собрались… я опаздываю.
Она уйдет, оставив тебя одного (не об этом ли ты мечтал всегда, сука?), а ты будешь думать: в чем ошибка и чей обман? Когда именно тебя обманули на протяжении такой подозрительно долгой жизни?
Вместо эпилога
Maman нездоровится, и приснилась ей Соня-Патиссон, она же Гуманоид воплощенный, умащенная вся во многих местах, пригожая. Только maman возрадовалась и взяла ребенка на руки, как он сразу дефекакнул. (А памперсов не было.) «Чтот-ты будешь делать! – всполошилась maman. – Как же ее мыть-то? Под рукомойником, что ли?» Начала мыть, а Гуманоид и говорит ей:
– I love you.
– Чего?!! – обалдела maman.
– I love you, – уверенно повторяет Гуманоид.
От счастья maman едва не прослезилась. Понесла дитя к соседям, показывать. Принесла и просит:
– Сонечка, милочка, скажи-ка нам да покажи-ка соседушкам – как ты говорить умеешь.
Молчит чадо, глазками только улыбается своими. Бились с ним, бились – ничего не добились. Вернулась maman с Гуманоидом обратно, положила его в кроватку, а Гуманоид тут возьми да и скажи, тихо так, но твердо:
– I love you.
Вот такое сновидение.
Вообще я понял, что, заканчивая бодрствовать, подходя к порогу ночи, укладывать тело в постель нужно крайне осторожно. Тем более если это не постель, а скорбная раскладушка.
С лицом, выдержанным в постном миноре, вы разоблачаетесь, снимаете одежду, то и дело вздыхаете – тяжко и скромно. Придав телу обнаженность, какое-то время еще стоите, подобно пингвину, держа крылышки рук по швам, а нос устремив по направлению к полу. И только потом, шепча «ох, господи, господи!..», медленно принимаете горизонтальное положение.
Непрерываемая покамест мелодия обесцвеченных дней дирижируется тактами снов. Собранная усталость, вопреки ощущениям духа, еще не полна. Вы в состоянии, переночевав – ровно столько, чтобы утром иметь силы продолжать уподобляться машине, – начнете вновь функционировать. И только новое, еще более затхлое «ох, господи, господи» при подъеме заставит усомниться в вашей окончательной безнадежности.
Возлегши, я доставляю себе крохотное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда подушка верно приняла мою голову, а одеяло привычным образом накрыло туловище, я расслабляюсь и, упершись пальцами ног в стену… отталкиваю ее. Дюралевые ножки моего ложа легко скользят по полу, я прихожу в движение, еду, примяв постельное белье – так, как заядлые путешественники едут на верхней полке железнодорожного вагона, покачиваясь и мечтая под перестук колес, колеблясь в сладкой, напоенной будоражащими запахами дреме. В пределах крохотного помещения, едва допускающего наличие инородки-раскладушки, я еду целую секунду, преодолевая расстояние в пять – семь сантиметров. И этот путь, это путешествие способно выставить заслон всему унынию. Ни один богач, ни один бедняк не имеют такой возможности. Она моя. Я сам ее придумал. Но, как потаенно благочестивый человек, я еще нуждаюсь в произнесении молитвы на ночь. Да только вот беда: нет молитв в моей памяти! Нет до сих пор! Что делать, спросите вы? Я знаю что делать. По крайней мере, не надо отчаиваться. Никогда. Достаточно, отходя ко сну, просто сказать: «Низкий поклон родителям, спасибо жене, слава Богу. И спокойной ночи».
Об авторе

Юрий Абросимов – писатель, журналист и кинокритик. Родился в 1969 году в Москве. Придерживается умеренно либеральных взглядов. Фаталист и скептик. Увлекается новеллизацией фильмов. Среди многих источников удовольствия выделяет скорость и музыку. Из всех видов юмора предпочитает черный.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































