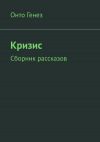Текст книги "Болезнь культуры (сборник)"
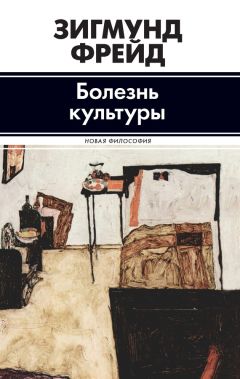
Автор книги: Зигмунд Фрейд
Жанр: Классики психологии, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Мы предприняли этот психологический экскурс только затем, чтобы указать на вероятность того, что религия Моисея оказала свое влияние на еврейский народ главным образом через предания. Конечно, этот факт всего лишь вероятен, но ни в коем случае не достоверен. Но предположим, что мы смогли его каким-то образом доказать; пусть останется впечатление, что мы удовлетворились качественными факторами и пренебрегли факторами количественными. Со всем, что имеет отношение к возникновению религии, в том числе и иудаизма, должно быть связано нечто величественное, не поддающееся пока что нашим объяснениям. Здесь должно быть задействовано еще что-то, для чего существует мало аналогов, нечто уникальное и значительное не менее, чем возникшая в результате религия.
Давайте попытаемся решить этот вопрос по-иному. Мы понимаем, что первобытным людям бог нужен как творец мироздания, глава племени и личный опекун и хранитель. Этот бог стоит как тень за спиной покойных отцов, воспоминания о которых сохранились в преданиях. Человек более поздних времен и даже человек нашего времени ведет себя таким же образом. Он остается инфантильным и продолжает нуждаться в защите, даже став взрослым, он считает, что не способен обойтись без поддержки бога. Это неоспоримый факт, но труднее понять, почему должен быть единственный бог, почему такое значение приобретает движение от генотеизма к монотеизму. Как мы уже установили, верующий отчасти приобщается к величию своего бога, и чем более велик бог, тем надежнее защита, которой он может обеспечить верующего. Но могущество бога имеет своей необходимой предпосылкой не только его единственность. Многие народы видели возвеличивание своего главного бога в том, что он повелевает всеми остальными, подчиненными ему богами, и главное божество ничуть не принижалось тем, что, помимо него, существовали и другие боги. Кроме того, при единобожии приносится в жертву тесная связь народа с богом, ибо единственное божество является универсальным и заботится обо всех землях и народах. Люди как будто делили своего бога с чужеземцами, вознаграждая себя мыслями о том, что они тем не менее являются избранными в глазах всемогущего единого бога. Можно также считать, что почитание единственного бога было шагом вперед на пути к более высокой духовности, но этот фактор не стоит переоценивать. Только истинно верующие люди способны заполнить лакуны в мотивации к единобожию. Они утверждают, что идея единого бога потому так сильно влияет на людей, что является частью вечной истины, которая пробила себе дорогу наконец и теперь увлечет за собой весь мир. Мы вынуждены признать, что движущая сила такого рода вполне соответствует величию как самого процесса, так и его исхода.
Со всем этим можно было бы согласиться, если бы не резонное сомнение. Упомянутый аргумент верующих людей зиждется на оптимистически-идеалистической предпосылке. Но ничто не дает нам оснований утверждать, будто человеческий интеллект обладает особым чутьем на истину и что душевной жизни человека присуща склонность к познанию истины. Наоборот, у нас избыток доказательств того, что наш интеллект очень легко и часто без всякого предупреждения сбивается с пути, и нам чрезвычайно просто безоглядно поверить в то, что соответствует желанным для нас иллюзиям. Поэтому мы введем все же некоторые ограничения. Мы убеждены, что решение, предлагаемое верующими, содержит истину, но истину не материальную, а историческую. Таким образом, мы имеем право исправить то искажение, которое истина претерпела при своем возвращении. Это означает, что мы не верим, что сегодня существует единственный великий бог, но верим, что в незапамятные доисторические времена существовала одна-единственная личность, которая тогда казалась непомерно великой и которая была обожествлена в вернувшемся воспоминании.
Мы приняли, что религия Моисея была вначале отвергнута и наполовину забыта, а затем снова ожила в виде предания. Теперь мы допускаем, что это событие в те времена произошло дважды. Когда Моисей дал народу идею единственного бога, в ней не было ничего нового, она означала лишь повторное переживание событий доисторического прошлого человечества, давно и прочно изгладившихся из его памяти. Но это событие было настолько важным, произвело такие глубокие изменения в жизни человечества, что невозможно не поверить в то, что оно оставило в человеческой душе неизгладимые следы, сравнимые с народными преданиями.
Благодаря психоаналитической работе с индивидуальными пациентами мы знаем, что самые ранние впечатления, воспринятые в возрасте, когда ребенок еще едва ли умел говорить, оказывают впоследствии огромное влияние, имеющее принудительный характер; при этом сам пациент совершенно ничего не помнит о тех событиях. Мы считаем себя вправе перенести этот феномен на ранние переживания всего человечества. Одним из результатов действия этого феномена могло быть повторное появление искаженной, но в целом верной идеи о единственном великом боге. Эта идея имела принудительный характер, все должны были в него поверить. Эту идею, учитывая те искажения, которые она претерпела, можно назвать бредовой, но поскольку она основывалась на реальном воспоминании о прошлом событии, ее можно назвать также истинной. Из психиатрии мы знаем, что даже самые бредовые идеи имеют в своей основе некое зерно истины, которое больной старательно окутывает своим бредом.
Дальнейшее изложение является несколько измененным повторением содержания первой части.
В 1912 году в книге «Тотем и табу» я попытался реконструировать древнюю ситуацию, породившую все эти следствия. Я воспользовался теоретическими положениями Чарльза Дарвина, Аткинсона и особенно У. Робертсона-Смита и соединил их с данными психоанализа. У Дарвина я позаимствовал гипотезу о том, что люди изначально жили малыми группами, в которых господствовал старший самец, ему принадлежали все самки, и он подчинял себе или убивал молодых самцов, включая собственных сыновей. У Аткинсона я нашел продолжение этой картины в описании разложения патриархата, когда сыновья, объединившись, восстали против власти отца, убили и сообща его съели. Из приложения к тотемной теории Робертсона-Смита я взял идею о том, что после падения отцовской власти ее место занял тотемный клан братского союза. Для того чтобы мирно уживаться друг с другом, победившие братья отказались от своих женщин, несмотря на то что именно из-за них они убили отца и установили систему экзогамии. Отцовская власть была повержена, семьи стали управляться в согласии с материнским правом. Двойственное отношение братьев к отцу сохраняло свою силу в течение всего последующего развития человеческого общества. На место отца в качестве тотема было поставлено определенное животное. Его считали предком и духом-хранителем, племени его запрещалось убивать или причинять ему вред, но один раз в году все мужчины собирались на пир, на котором тотемное животное разрезалось на части и сообща поедалось. Ни один член рода не имел права уклониться от этого пира, являвшегося торжественным повторением убийства отца, с которого берут свое начало общественный порядок, устоявшиеся обычаи и религия. Сходство тотемного пира Робертсона-Смита с христианским причастием бросалось в глаза многим авторам и до меня.
Я и сегодня придерживаюсь прежних взглядов. Мне часто приходилось выслушивать упреки в том, что в следующих изданиях книги я не стал исправлять свое мнение в свете новых этнологических данных, в соответствии с которыми идеи Робертсона-Смита устарели и были заменены совершенно иной теорией. Я отвечал, что эти прогрессивные идеи мне хорошо известны, но я не убежден в правоте молодых этнологов и в ошибках Робертсона-Смита. Отрицание – не опровержение, а новшество – не обязательно продвижение вперед. Но прежде всего должен сказать, что я не этнолог, а психоаналитик, и имею право отбирать из этнологической литературы тот материал, который могу использовать в своей психоаналитической работе. Сочинения гениального Робертсона-Смита позволили мне по-новому взглянуть на психоаналитический материал, по-новому его оценить. Сталкиваться с его противниками мне не приходилось.
Я не могу здесь полностью воспроизвести содержание «Тотема и табу», но я должен заполнить длительный промежуток, отделяющий доисторическое время от победы монотеизма. После создания братского клана, установления материнского права, экзогамии и тотемизма начался долгий процесс развития, который можно описать как процесс возвращения вытесненного. Термин «вытеснение» используется мной не в привычном строгом смысле. Речь здесь идет о чем-то давно прошедшем, давно забытом и побежденном в народном сознании, что я рискнул сопоставить с феноменом вытеснения в индивидуальной психологии. В какой психологической форме это прошлое проявлялось во времена своего заката, мы практически не знаем. Нам нелегко применять понятия индивидуальной психологии для психологии масс, но я не думаю, что мы что-то выиграем от введения термина «коллективное бессознательное». Содержание бессознательного по своей сути всегда коллективно, это общее достояние всего человечества. Поэтому пока что мы обойдемся аналогиями. Изучаемые нами здесь процессы в жизни народов хорошо известны нам по материалам психопатологии, но все же не во всем совпадают. Мы решили наконец принять допущение о том, что психический осадок доисторического времени стал наследием, которое в каждом следующем поколении не приобретения, но пробуждения. Здесь можно вспомнить о примерах «врожденной» символики, развившейся в период зарождения языка и речи и знакомой всем детям мира без всякого обучения; эта символика не зависит от языковых различий и одинакова у всех народов. То, чего нам недостает для полноты картины, мы заимствуем из других результатов психоаналитических исследований. Мы, например, знаем, что наши дети в некоторых случаях реагируют на значимые события не так, как диктует им чувственный опыт, но инстинктивно, как животные, что можно объяснить лишь общим филогенетическим наследием.
Возвращение вытесненного происходит медленно и бесспорно, не само по себе, но под влиянием всех тех изменений условий жизни, которыми так богата культурная история человечества. Я не могу представить здесь полный обзор всех этих обстоятельств и потому приведу лишь более чем отрывочный перечень этапов возвращения вытесненного и забытого. Отец снова становится главой семьи, но уже не обладает такой неограниченной властью, как отец доисторического клана. Тотемное животное уступило место богу, пройдя через несколько промежуточных этапов. Сначала у бога с телом человека остается звериная голова, позднее бог просто способен превращаться в какое-либо животное, а затем это животное становится его верным спутником, или же бог убивает его и присваивает себе его прозвище. Между богами и животными появляются герои, и часто это первая ступень на пути к их обожествлению. Идея верховного бога зародилась рано, но поначалу его образ очень расплывчат, и он не вмешивается в повседневные дела людей. На фоне объединения родов и племен в более крупные сообщества боги тоже объединяются в семьи, и среди них возникает иерархия. Один из богов возвышается до положения повелителя всех остальных богов и людей. С некоторой задержкой делается шаг к тому, чтобы почитать только одного бога, и наконец принимается решение отдать всю власть одному-единственному богу и не признавать существования наряду с ним никаких других богов. Только тогда власть отца рода была восстановлена и воскресли все чувства, связанные с ним.
Впечатление от давно ожидавшегося и желанного возвращения было ошеломляющим, как это описано в предании о передаче скрижалей Завета на горе Синай. Восторг, благоговение, благодарность за явленную столь наглядно милость – в религии Моисея находится место только для таких сугубо позитивных чувств в отношении бога-отца. Убеждение в его непобедимости, подчинение его воле не могли быть более безусловными у беспомощного и запуганного сына всемогущего отца рода. Смещение чувств в примитивную и инфантильную среду вполне понятно и объяснимо. Детское возбуждение чувств имеет совершенно иной масштаб, чем у взрослого, оно интенсивнее, беспредельнее, и только религиозный экстаз способен их нам вернуть. Таково первое опьянение подчинения, первая реакция на возвращение великого отца.
Вектор развития такой отцовской религии был определен раз и навсегда, но само развитие на этом не закончилось. Сущностью отношений с отцом является их амбивалент. Безграничная любовь и безоглядное почитание не могут продолжаться чересчур долго; с течением времени начинает проявляться также враждебность, подвигнувшая некогда сыновей на убийство восторженно ими почитавшегося и внушавшего страх отца. В религии Моисея не было места прямому изъявлению смертельной ненависти к отцу. Явной могла быть лишь реакция на нее – чувство вины за ненависть и угрызения совести из-за того, что народ согрешил против бога и продолжал грешить. Это сознание вины, без устали подогревавшееся пророками и вскоре ставшее неотъемлемой составной частью религиозной системы, имело и другую, более поверхностную мотивацию, которая искусно маскировала его истинное происхождение. Народу приходилось худо, возложенные на бога надежды не сбывались, и становилось все труднее держаться за полюбившуюся всем иллюзию, что евреи – избранный богом народ. Если евреи не желали отказываться от нее, то у них возникало чувство вины за то, что это их собственные грехи не позволяют богу простить свой народ, который не заслужил лучшей участи и должен быть наказан богом за неисполнение заповедей. Испытывая потребность в избавлении от чувства вины, ничем не утолимого и бездонного, евреи старались истово исполнять заповеди и вводили ограничения все более строгие, скрупулезные и даже мелочные. В своем аскетическом рвении люди продолжали накладывать на себя все новые обязательства и в отказе от удовлетворения влечений достигли – по крайней мере в правилах и предписаниях – недоступной другим народам древности этической высоты. Свои этические достижения многие евреи сочли второй основной характеристикой и вторым великим преимуществом своей религии. Из наших рассуждений ясно уже, как это все связано с идеей единственного бога. Подобная этика могла возникнуть только из осознания вины в связи с подавленной враждебностью к богу, которую было невозможно отрицать. Эта подавленная и скрытая враждебность имеет устойчивый характер принудительной невротической реакции, и нетрудно догадаться, что она служит тайному смыслу наказания.
Дальнейшее развитие монотеизма обходит иудаизм стороной. Все остальное, что вернулось в мир после трагедии праотца, уже никоим образом не сочеталось с религией Моисея. Сознание вины не ограничивалось больше одним еврейским народом, оно охватило все средиземноморские народы и было подобно смутному и неприятному чувству недомогания, о причинах которого никто не догадывался. Современные историки говорят об одряхлении античной цивилизации, мне же думается, что они уловили лишь случайные причины и сопутствующие обстоятельства такого угнетенного состояния духа. Прояснение его причин исходило от еврейства. Независимо от всех предзнаменований и предчувствий именно на еврея Савла из Тарса, назвавшегося римским гражданином Павлом, снизошло новое прозрение: мы так несчастливы, потому что убили нашего божественного отца. Вполне объяснимо, что он смог осознать этот фрагмент истины только в иллюзорном облачении Благой Вести: с нас снята вся вина после того, как один из нас пожертвовал жизнью ради нашего искупления от греха. В этой формулировке, естественно, нет упоминания об убийстве бога, но преступление, которое искупалось принесением человеческой жертвы, могло быть только убийством. Связующим звеном между иллюзией и исторической истиной выступает здесь заверение в том, что жертва была сыном божьим. С невероятной силой, почерпнутой из источника исторической истины, этот новый апостол веры смел со своего пути все препятствия. На место блаженной избранности становится освобождающее избавление. Однако признание факта отцеубийства при своем возвращении должно было преодолеть большее сопротивление человеческой памяти, чем другие воспоминания, составлявшие содержание монотеизма. Вследствие этого факт отцеубийства был искажен. Неслыханное преступление было заменено признанием некоего призрачного первородного греха.
Первородный грех и спасение искупительной жертвой стали столпами новой религии, основанной Павлом. Можно оставить в стороне вопрос о том, был ли действительно в братском союзе главарь и организатор убийства отца, или этот образ был порожден фантазией сочинителя, решившего создать героический характер и ввести его в предание. После того как христианство вырвалось за рамки иудаизма, оно вобрало в себя компоненты множества других верований и отошло от строгого монотеизма, позаимствовав некоторые обряды у средиземноморских народов. Складывается впечатление, будто египтяне снова начали мстить наследникам Эхнатона. Стоит хотя бы посмотреть, как новая религия разобралась со старой амбивалентностью отношения к отцу. Несмотря на то что главным ее содержанием стало примирение с отцом и искупление совершенного против него преступления, оборотная сторона отношения к нему проявилась в том, что взявший на себя грех сын сам стал богом наряду со своим отцом, а по сути – вместо него. Из религии отца христианство превратилось в религию сына, но не смогло избежать судьбы так или иначе устранить отца.
Лишь часть еврейского народа приняла новое учение. Тех же, кто отказался от его принятия, называют сегодня евреями. В результате произошедшего евреи попали в еще большее отчуждение от других народов, чем прежде. Они по сей день вынуждены слушать от последователей новой религии, – к которой, помимо части евреев, примкнули тогда египтяне, греки, сирийцы, римляне, а позднее и германцы, – упреки в том, что это они убили бога. В развернутом виде этот упрек звучит так: они не желают сознаться в том, что убили бога, тогда как мы это признали и очистились от вины. Легко видеть, насколько справедливо подобное обвинение. То, почему евреи не смогли разделить с христианами это движение вперед, признав – при всей половинчатости этого признания – убийство бога, должно стать предметом особого исследования. В силу этого евреи возложили на себя всю трагическую вину, за которую им теперь приходится дорого расплачиваться.
Возможно, наше исследование помогло пролить свет на вопрос о том, каким образом еврейский народ приобрел те черты и качества, которые его отличают от других народов. В меньшей мере нам удалось прояснить проблему, как еврейский народ смог сохраниться до наших дней. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что едва ли кто-то сумеет в ближайшем будущем разрешить эту загадку. Все, что я могу предложить, это определенный вклад в рассмотрение проблемы, о котором надо судить с ограничениями, упомянутыми в самом начале.

«МОИСЕЙ» МИКЕЛАНДЖЕЛО
(1914)

Должен заранее предупредить читателя, что я не являюсь знатоком искусства, скорее дилетантом. Я часто замечал, что содержание произведения искусства привлекает меня сильнее, чем его формальные и технические качества, которым художники придают первостепенное значение. Я искренне не понимаю многих средств и методов воздействия, принятых в искусстве. Все это я говорю в надежде, что суд читателей не будет слишком строгим.
Тем не менее произведения искусства оказывают на меня сильнейшее воздействие, в особенности стихи и скульптура, реже – живопись. Я всегда стараюсь как можно дольше задержаться перед картиной, желая по-своему оценить ее, то есть понять, чем именно она так сильно на меня воздействует. Там, где я не могу этого сделать, – например, слушая музыку, – я остаюсь практически равнодушным, и такое искусство не доставляет мне удовольствия. Рационалистическое или, точнее, аналитическое устройство моего мышления восстает, когда какое-то произведение меня захватывает, а я не знаю, почему это так и что именно меня захватило.
Я давно обратил внимание на один парадоксальный факт – именно величайшие и великолепнейшие произведения искусства чаще всего остаются непроницаемыми для нашего понимания. Ими восхищаются, им покоряются, но при этом никто не может сказать, в чем именно состоит их притягательная сила. Я недостаточно в этой области осведомлен, чтобы приписать это открытие себе. Возможно, даже кто-то из искусствоведов считает, что такая беспомощность нашего познающего разума является необходимым условием глубокого эмоционального воздействия, которого и добивается художник. Правда, лично мне с трудом верится в необходимость такого условия.
Этим я не хочу сказать, что знатоки и почитатели не находят слов для восхваления произведений искусства. Напротив, они находят их даже чересчур много. Но, стоя перед шедевром, знатоки, как правило, говорят нечто иное, и совсем не то, что помогло бы разрешить загадку, которую не в силах разгадать пораженные творением профаны. Помочь нам, по моему мнению, может только знание замысла художника, то, насколько он смог воплотить его в своем произведении и донести до нас. Я сознаю, что речь в данном случае не может идти просто о рационалистическом понимании. Здесь имеет значение эмоциональное состояние, совокупность душевных движений, породивших в художнике энергию творения, которая будит и в нас самих творческие порывы. Но почему нельзя ухватить замысел художника и выразить его словами, как мы делаем это с другими фактами психической жизни? Вероятно, эта задача в отношении великих творений требует специального анализа. Само произведение должно сделать возможным такой анализ, если оно является воздействующим воплощением на нас намерений и побуждений художника. Для того чтобы понять замысел художника, я должен сначала объяснить себе смысл и содержание, представленные в произведении, то есть истолковать его. Вполне возможно, что такое произведение искусства требует истолкования, и только после этого я смогу понять, почему оно оказывает на меня столь сильное эмоциональное воздействие. Я лелею надежду, что это впечатление нисколько не ослабнет, если нам удастся провести наш анализ.
Вспомним теперь о «Гамлете», шедевре, созданном гением Шекспира более трехсот лет назад[71]71
Пьеса была впервые сыграна на сцене, вероятно, в 1602 году.
[Закрыть]. Изучив психоаналитическую литературу, я пришел к выводу, что только психоанализ, позволяющий вычленить в пьесе тему эдипова комплекса, дает возможность разгадать природу сильнейшего эмоционального воздействия этой трагедии. И сколько было прежде попыток самых разнообразных и зачастую противоречащих друг другу толкований, какой разброс мнений существует относительно характера главного героя и намерений автора! Говорили, что Шекспир хочет вызвать у нас сочувствие к больному человеку, или к слабому человеку, или к идеалисту, который оказался слишком добр для окружавшего его реального мира. Сколь многие из этих толкований оставляли нас абсолютно холодными и равнодушными, так как не объясняли нам причину эмоционального воздействия трагедии, утверждая, будто все ее очарование зиждется на впечатлениях от глубины мысли и совершенства языка! Но разве сами усилия истолкователей не говорят о том, что все мы испытываем непреоборимую потребность найти источник ее воздействия на зрителя?
Другим столь же загадочным и величественным произведением искусства является мраморная статуя Моисея работы Микеланджело, находящаяся в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи. Святого Петра в веригах. Считается, что эта статуя лишь фрагмент надгробия, которое должно было украсить могилу могущественного папы Юлия II[72]72
Генри Тоде считает, что статуя была создана между 1512 и 1516 годом.
[Закрыть]. Я всякий раз радуюсь, читая восторженные отзывы об этой статуе, – например, что это «венец всей современной скульптуры» (Герман Гримм), – ибо я ни разу не видел произведения, оказывающего более сильное эмоциональное воздействие, чем эта статуя. Как часто поднимался я от Корсо по грубым камням виа Кавур к заброшенной церкви на пустынной площади, каждый раз стараясь выдержать презрительно-гневный взгляд героя и порой спеша поскорее выбраться из полумрака церкви, так как и сам принадлежу к тому сброду, на который направлен взор Моисея, сброду, неспособному иметь прочные убеждения, сброду, который ничему не верит, ничего не желает знать и лишь радуется, обретая очередного кумира.
Но почему я называю эту статую загадочной? Нет никакого сомнения, что она изображает Моисея, законодателя евреев, который держит в руке скрижали со священными заповедями. Это так, но это далеко не все. В 1912 году искусствовед Макс Зауэрландт писал вот что: «Ни об одном произведении искусства в мире не было высказано столько противоречивых суждений, как об этой статуе Моисея с головой Пана. Даже простейшая интерпретация фигуры вызывает множество споров…» С помощью рассуждений, которые я упорядочивал в течение последних пяти лет, я продемонстрирую, какие сомнения мешают нам понять значение этого образа Моисея, и мне будет нетрудно показать, что именно за ними скрывается самое ценное и существенное, что есть в этой великой скульптуре[73]73
Генри Тоде. Микеланджело. Критические исследования его произведений, т. 1, 1908.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.