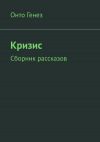Текст книги "Болезнь культуры (сборник)"
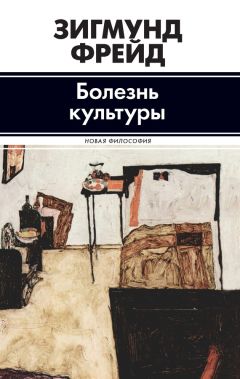
Автор книги: Зигмунд Фрейд
Жанр: Классики психологии, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
II
Давайте оставим на время дальнейшие истолкования истории с выбором шкатулок и займемся мифом о роли и происхождении богинь судьбы[92]92
Последующий материал заимствован из энциклопедии греческой и римской мифологии Рошера.
[Закрыть].
Древнейшая греческая мифология знает только одну Мойру, олицетворявшую неотвратимость судьбы (у Гомера). Позднейшее превращение Мойры в союз трех (реже двух) сестер-богинь возникло, вероятно, как подражание богиням красоты и времен года и тоже сестрам – харитам и горам (Орам).
Горы были первоначально дарующими дожди и росу богинями небесных вод, богинями облаков, из которых выпадают дожди, а поскольку облака представляли себе сплетенными из пряжи, то постепенно эти богини стали еще и пряхами, а затем эта функция перешла к мойрам. В избалованном солнцем Средиземноморье урожайность полей и садов зависит от дождей, и поэтому горы превратились в богинь растительного мира. Именно им были обязаны люди красотой цветов и обилием плодов и потому щедро наделили их самих красотой, привлекательностью и приветливостью. Так они стали богинями времен года и приобрели свою тройственность, если мы не хотим удовлетвориться божественным характером числа «три» в качестве одного из возможных объяснений. Дело в том, что древние греки различали лишь три времени года: зиму, весну и лето. Осень была добавлена к календарю позже, уже в греко-римский период. После этого художники стали часто изображать не трех, а четырех гор.
За горами постепенно закрепилась их связь со временем, и они стали надзирать за ходом времени суток, а не только за сменой времен года, так что в конечном итоге само имя богинь стало использоваться как обозначение часа (heure, ora). Функционально близкие горам и мойрам норны германской мифологии также имеют непосредственное отношение к отсчету времени. Естественно, люди не прекращали попыток как можно глубже постичь сущность своих божеств, и на гор была возложена обязанность следить за соблюдением священного порядка и законов природы – неизменностью чередования сезонов.
Такое познание и истолкование явлений природы повлияло на понимание человеческой жизни. Миф о природе превратился в миф о человеке, и богини погоды превратились в богинь судьбы. Но эта особенность гор нашла свое воплощение уже в мойрах, которые следили за соблюдением необходимого порядка в человеческой жизни с той же неумолимостью, с какой горы следили за соблюдением законов природы. Неотвратимая строгость закона, отношение к смерти и гибели, несовместимое с радостным и приветливым обликом гор, воплотились в суровых мойрах, словно человек мог воспринять всю серьезность законов природы, лишь подчиняясь конкретной личности.
Мифологи разобрались и со значением имен божественных прях. Имя второй из них, Лахесис, обозначает «Дающая жребий»[93]93
Й. Рошер и «Греческая мифология» Преллера-Роберта.
[Закрыть] – как мы бы сказали сегодня, посылающая испытание судьбой, то есть Атропа «Неотвратимость» олицетворяет собой смерть; на долю Клото «Грядущей» выпадает управление роковым станком.
Теперь самое время вернуться к толкованию мотива выбора между тремя сестрами. Испытывая глубокую внутреннюю неудовлетворенность, мы замечаем, что ситуация становится абсолютно запутанной и непонятной, если мы остановимся на прежнем своем толковании. Мы видим, что пришли к странному противоречию. Третья из сестер должна быть богиней смерти, самой смертью, но в суде Париса – это богиня любви, в сказке Апулея – богоравная красавица, в «Венецианском купце» – красивая и умная женщина, в «Короле Лире» – единственная верная и любящая дочь. Может ли противоречие быть более явным и неоспоримым? Но может быть, такое невероятное возвышение на самом деле вполне естественно. Это возвышение действительно происходит, если в нашем мотиве всякий раз женщин выбирают свободно и если выбор смерти случаен, ибо никто сознательно не выберет собственную погибель.
Между тем устранение противоречий известного рода, их контрадикторная замена – как показывает опыт психоанализа – происходит без всяких затруднений. Мы не станем здесь ссылаться на то, что в таких внешних проявлениях бессознательного, как сновидения, внешне несовместимые противоположности могут обозначать один и тот же элемент. Подумаем вместо этого о том, что в психической жизни существуют мотивы, способствующие осуществлению реакций, замещающих какие-то элементы их противоположностями, и благодаря этим реакциям мы можем в ходе психоаналитических сеансов вскрывать эти скрытые мотивы. Появление мойр явилось следствием догадки о том, что человек есть часть природы и поэтому подлежит непреложному закону смерти. Но в человеке есть нечто, изо всех сил сопротивляющееся такому подчинению и не желающее отказываться от представлений о мнимой исключительности человека. Мы знаем, что человек использует воображение для удовлетворения тех своих желаний, которые не могут быть удовлетворены в реальности. Воображение восстает против мифа о мойрах и воплощенных в них представлений и создает новый производный миф, в котором богиня смерти замещается образом богини любви со всеми благодеяниями, которыми она осыпает человека. Третья сестра перестает быть смертью – отныне она самая красивая, самая лучшая, самая желанная и наиболее достойная любви женщина. Технически такая замена не вызывает никаких трудностей. Она возможна благодаря давно известной нам амбивалентности, завершающей и придающей законченный вид древнейшим представлениям о взаимосвязях вещей, которые были забыты нами сравнительно недавно. Сама богиня любви, занявшая место богини смерти, некогда идентифицировалась с ней. Еще греческая Афродита не полностью разрывает свою связь с загробным миром, несмотря на то что она уже давно уступила свою хтоническую роль другим божествам – Персефоне, многоликой Артемиде-Гекате. Великие богини-матери народов Востока являются одновременно родительницами и убийцами, богинями жизни и плодовитости и одновременно богинями смерти. Таким образом, замена неприемлемого элемента его желательной противоположностью восходит в наших мотивах к их древнему тождеству.
Теперь мы можем ответить на вопрос о том, откуда взялся обычай выбора в мифе о трех сестрах. Здесь снова имеет место желаемая инверсия. Выбор становится на место необходимости и неотвратимости рока. Так человек стремится преодолеть смерть, неизбежность которой он мысленно вынужден признать. Человек выбирает там, где на самом деле он должен подчиниться неизбежности, и выбирает человек не свой ужасный жребий, а самую красивую и желанную женщину. Какой триумф исполнения желания!
Правда, при ближайшем рассмотрении мы замечаем, что трансформация древнего мифа является далеко не полной и недостаточной для того, чтобы нельзя было об этом догадаться. Свободный выбор между тремя сестрами не является, собственно, свободным. Необходимо выбрать именно третью, и если этого не происходит, если выбирают других, то этот выбор сопровождается великими несчастьями – как в «Короле Лире». Самая лучшая и самая красивая, заменившая собой богиню смерти, сохраняет тем не менее черты чего-то ужасного, по которым мы можем угадать ее скрытую сущность[94]94
Психея Апулея в избытке сохраняет черты, напоминающие о ее связи со смертью. Ее свадьба обставлена как погребальный костер, она должна спуститься в подземное царство мертвых, а потом погрузиться в долгий и похожий на смерть сон (О. Ранк).
О значении Психеи как богини весны и «невесты смерти» см. книгу Цинцова «Психея и Эрос» (Галле, 1881).
Еще в одной сказке братьев Гримм (№ 179, «Девушка с гусями у колодца»), как и в «Золушке», мы видим превращение третьей дочери из красавицы в дурнушку и обратно, намекающее на ее двойственную природу. Эту третью дочь отец обрекает на тяжкое испытание, как и король Лир, изгоняя ее из дому. Как и две ее сестры, девушка должна была с чем-то сравнить свою любовь к отцу и не нашла ничего лучшего, как сравнить ее с солью. (Сообщение, любезно предоставленное нам доктором Гансом Саксом.)
[Закрыть].
Проследив превращения мифа, попытаемся теперь вскрыть тайные причины этих превращений. Для этого мы посмотрим на трактовку этого мотива у Шекспира. Создается впечатление, что писатель сводит его к первоначальному мифу, чтобы дать нам почувствовать его столь захватывающий и поблекший впоследствии смысл. Этим возвращением к истокам драматург достигает глубокого воздействия на наши чувства и переживания.
Чтобы избежать недоразумений, хочу сказать, что в мои намерения не входит возражать против того, что драма короля Лира призвана внушить нам две житейские мудрости: покуда жив, не отказывайся от своих прав и достояния и не принимай лесть за чистую монету. В пьесе действительно есть эти и подобные им предостережения, но мне представляется, что совершенно невозможно только ими объяснить то потрясающее впечатление, какое производит пьеса на зрителя, я не могу согласиться с тем, что намерения и цели автора были исчерпаны этими простыми предостережениями. Мне думается также, что мнение, согласно которому автор хотел представить хорошо знакомую ему трагедию неблагодарности, а эмоциональное воздействие пьесы объясняется художественным мастерством Шекспира, не приближает нас к пониманию того, что открывается при анализе мотива выбора между тремя сестрами.
Лир – старик. Мы уже говорили о том, что именно поэтому три сестры появляются в пьесе в виде его дочерей. Тема их отношений с отцом, которая могла послужить основой плодотворной драматургической разработки, дальше в пьесе не разрабатывается. Лир – не только старик, он умирающий старик, и это обстоятельство делает вполне естественным и оправданным столь торопливый дележ наследства. Этот обреченный на скорую смерть человек не желает тем не менее отказываться от женской любви – он хочет слышать, как его любят. Вспомним последнюю душераздирающую сцену, этот апофеоз трагичности на современной сцене: Лир выносит на руках мертвое тело Корделии. Корделия – это смерть. Если перевернуть эту ситуацию, она станет нам понятнее и ближе. Тогда Корделия – это богиня смерти, выносящая убитого героя с поля брани, как валькирия в германской мифологии. Вечная мудрость в обличье древнего мифа велит старику отречься от любви, выбрать смерть и примириться с ее неизбежностью.
Драматург приближает и делает понятным для нас древний мотив, предоставляя выбор между тремя сестрами престарелому умирающему человеку. Регрессивная обработка, которой Шекспир подверг искаженный миф, позволяет разглядеть скрытый за аллегорическим толкованием трех женских образов глубинный смысл этого древнего мифа. Можно смело утверждать, что существуют лишь три типа отношений, в которые мужчина вступает с женщинами. Женщина может выступать в роли родительницы, спутницы и губительницы. Можно также сказать, что женский образ матери на протяжении жизни предстает в трех разных формах: в образе собственно матери, в образе возлюбленной, которую мужчина выбирает по образу матери, и наконец, мать-земля, которая снова принимает мужчину в свое лоно. Старик, однако, тщетно гонится за любовью женщины, за любовью, полученной от матери; только третья из женщин судьбы, молчаливая богиня смерти, принимает его в свои объятия.

БОЛЕЗНЬ КУЛЬТУРЫ
(1930)

I
Невозможно отделаться от впечатления, что люди, меряя вещи фальшивой мерой, стремятся к власти, успеху и богатству, искренне удивляясь тем, кто ни во что не ставит эти якобы истинные ценности жизни. Тем не менее при таком суждении трудно избежать опасности забыть о пестром разнообразии человеческого мира и его духовной жизни. Есть люди, почитаемые современниками, несмотря на то что их величие, душевные качества и достижения чужды целям и идеалам массы. На это можно легко возразить, что почитает этих людей лишь незначительное меньшинство, а все остальные не желают даже слышать о них. Но думается, что не так все просто, поскольку существует несоответствие между мыслями и поступками и невероятное многообразие мотивов, движущих людьми.
Один из таких превосходных людей в письмах называет себя моим другом. Однажды я послал ему небольшое эссе, в котором трактовал религию как иллюзию, и он ответил, что с радостью согласился бы с моим суждением, но очень сожалеет о том, что я должным образом не оценил собственно источник религиозности. Этот источник – совершенно необычное чувство, каковое никогда не покидало его самого и которое он с уверенностью обнаруживает у многих других людей и полагает, что оно присуще миллионам. Чувство, которое он предлагает назвать «ощущением вечности», ощущением чего-то безграничного, бескрайнего, поистине «океанического». Это чувство – факт сугубо субъективный, не имеющий отношения к догматам веры; он не дает гарантий личного бессмертия, но это источник религиозной энергии, каковую улавливают церкви и религиозные системы, направляют в нужное им русло, заодно истощая и обесценивая ее. Только на основании одного этого океанического чувства человек может называть себя религиозным, даже если он отвергает всякую веру и всякую иллюзию.
Это откровение моего искренне уважаемого друга, который и сам является непревзойденным мастером поэтических иллюзий, доставило мне немалые трудности[95]95
«Лилули» [1919, 1923] – после выхода в свет книг «Жизнь Рамакришны» (1929) и «Жизнь Вивекананды» (1930) мне нет нужды скрывать, что имя упомянутого в тексте друга – Ромен Роллан [добавление 1931 года].
[Закрыть]. Сам я не могу открыть в себе этого «океанического» чувства. Всегда испытываешь неудобства, пытаясь научно описать и обработать чувства. Можно, конечно, попытаться описать их физиологические проявления. Там, где это не удается, – а думается мне, что и океаническое чувство лишено таких проявлений, – не остается ничего иного, как ухватиться за содержание представления, ассоциативно связанного с разбираемым чувством. Если я правильно понял моего друга, то он имеет в виду то же, что и один оригинальный и необычный драматург, который сказал: «Мы не можем выпасть из этого мира»[96]96
Детмольд Кристиан Граббе, «Ганнибал»: «Да, из этого мира нам уже не выпасть. Мы в нем останемся навсегда».
[Закрыть]. То есть это чувство нерасторжимой связи, принадлежности к окружающему миру во всей его полноте. Хочу сказать, что для меня это скорее интеллектуальное знание, не лишенное, правда, некоторого чувственного оттенка, что характерно и для других мыслительных актов подобного масштаба. Мой личный пример не убеждает меня в первичности природы такого чувства, но это не значит, что я могу оспаривать его существование у других людей. Вопрос заключается в другом: правильно ли оно истолковано и в какой мере его можно признать «источником и купелью» всякой религиозной потребности?
У меня нет аргументов, способных решающим образом повлиять на решение этой проблемы. Идея о том, что человек с помощью непосредственного, целенаправленного чувства получает знание о своей неразрывной связи с окружающим миром, звучит настолько странно, настолько не вяжется с тканью нашей психологии, что стоит попытаться исследовать это чувство психоаналитически, то есть генетически. Мы можем руководствоваться следующим ходом мыслей. В норме у нас нет более отчетливого чувства, чем чувство собственной самости, ощущения собственного «я». Это «я» представляется нам чем-то само собой разумеющимся, единым и четко очерченным, отличающимся от всего остального. То, что эта видимость не более чем иллюзия, что на определенной глубине наше «я» без четко очерченной границы переходит в нечто неосознаваемое, обозначаемое нами термином «оно», которому «я» служит лишь фасадом, мы узнаем только в ходе психоаналитического исследования, каковому мы обязаны и многими другими данными об отношении «я» к «оно». Однако по меньшей мере извне нам представляется, что «эго» утверждает себя в четко очерченных границах. Только в одном состоянии – в очень необычном состоянии – это не так, хотя такое состояние мы не можем назвать болезненным. На пике влюбленности стирается и расплывается граница между «я» и предметом влюбленности. Вопреки всем доводам рассудка влюбленный утверждает, что «я» и «ты» едины, и искренне готов принять это за истину. То, что временно возникает в результате влияния мощного физиологического фактора, может, конечно, стать результатом устойчиво действующих болезненных факторов. Патология демонстрирует нам великое множество состояний, при которых граница между «я» и окружающим миром либо стирается, либо начинает проходить не в том месте. В некоторых случаях части нашего собственного тела, фрагменты духовной жизни, восприятия, мыслей и чувств кажутся нам чужими и не принадлежащими нашему «я». Здесь мы отдаем окружающему миру то, что очевидно возникает в «я» и по праву должно принадлежать ему. То есть чувство «я» подвержено нарушениям, и границы «я» нельзя считать неизменными.
Дальнейшие рассуждения приводят нас к следующим выводам: чувство «я», характерное для взрослого человека, не может быть таким с самого начала. Ощущение и восприятие «я» должно развиваться. Мы не можем с полной достоверностью доказать факт такого развития, но можем, с определенной долей вероятности, его реконструировать[97]97
См. многочисленные работы на эту тему в книге Ференци «Стадии развития осмысления действительности» (1913), а также статьи П. Федерна (1926, 1927 и позднее).
[Закрыть]. Новорожденный младенец еще не отделяет свое «я» от окружающего мира как источника воздействия на него ощущений и восприятий. Лишь постепенно ребенок учится выделять различные стимулы и раздражители. Должно быть, на ребенка сильнейшее впечатление производит то, что некоторые источники раздражений, в которых он вскоре распознает собственные органы, могут доставлять ему разнообразные ощущения в любое время, другие источники доступны ему лишь иногда. Самый желанный из этих источников – материнская грудь, которую можно вернуть требовательным криком. Тем самым его «я» впервые противопоставлен некий «объект», то есть нечто, находящееся вовне. Этот внешний предмет можно увидеть и почувствовать в результате определенных целенаправленных действий. Следующий стимул к выделению «я» из массы ощущений, – то есть к признанию «внешнего», окружающего мира, – связан с частыми и неизбежными болевыми и неприятными ощущениями, отменяющими неограниченный прежде принцип удовольствия. Этих неприятных ощущений следует избегать. Возникает тенденция отделять от «я» все, что может стать источником неудовольствия, отбросить неприятности вовне, построить чистое, наполненное удовольствием «я», которому противостоит чуждый, угрожающий внешний мир. Границы такого примитивного, довольного собой «я» определяются на основании чувственного опыта. Кое-что из того, что доставляет удовольствие и с чем ребенок не желает расставаться, не принадлежит «я», а некоторые мучительные вещи, от которых он бы с радостью избавился, являют собой неотделимую часть «я», его наследственную, врожденную часть. Ребенок методом проб и ошибок знакомится с тем, как путем целенаправленной умственной деятельности и мышечной активности различать внутреннее – принадлежащее «я», и внешнее – происходящее в окружающем мире. Тем самым он делает первый шаг к установлению принципа реальности, каковой и будет в дальнейшем направлять развитие ребенка. Конечно, это различение служит в первую очередь практической цели – защите от действительных или угрожающих неприятных ощущений. То, что для защиты от известных неприятных импульсов, поступающих изнутри, «я» по необходимости использует те же методы, что и для защиты от поступающих извне неприятных ощущений, служит исходной точкой значимых патологических расстройств.
Таким же образом «я» отмежевывается от окружающего мира. Правильнее будет сказать: изначально «я» содержит в себе все и только позднее начинает отделять от себя окружающий мир. Наше взрослое ощущение своего «я» является, таким образом, лишь жалким остатком обширного – или, лучше сказать, всеохватывающего – ощущения внутренней связи с окружающим миром. Если мы примем, что это первичное ощущение «я» – в большей или меньшей степени – содержалось в духовной жизни великого множества людей, то оно, как своеобразный противовес, должно уравновешивать узкое и резко очерченное ощущение «я» зрелого возраста и сохранять характерные для него представления о безграничности и причастности к всеобщему, идентичные тому, что мой друг толкует как океаническое чувство. Имеем ли мы, однако, право допустить существование пережитков изначального феномена, занимающих место рядом с тем, что из него развилось в зрелом возрасте?
Несомненно, в таком событии нет ничего странного ни для психической жизни, ни для других сфер существования человека. В биологии мы придерживаемся того мнения, что высокоразвитые виды вышли из низших форм. Но наряду с высокоразвитыми организмами и теперь продолжают существовать простейшие формы жизни. Громадные динозавры исчезли с лица Земли, уступив место млекопитающим, но истинный представитель рода динозавров, крокодил продолжает жить рядом с нами. Эта аналогия может показаться несколько натянутой, учитывая то обстоятельство, что уцелевшие низшие формы не являются прямыми предками нынешних высокоразвитых видов. Промежуточные звенья, как правило, вымерли и известны нам только по научным реконструкциям. В духовной сфере, напротив, сохранение примитивных свойств наряду с развившимися из них свойств более высокого порядка встречается настолько часто, что не нуждается в иллюстрировании примерами, взятыми из эволюционной биологии. Такой ход событий по большей части является следствием расщепления в ходе эволюционного развития. Количественная часть строения – инстинктивные влечения сохраняются неизменными, другая же часть претерпевает развитие.
Здесь мы касаемся более общей проблемы сохранения базовых элементов в психике. Эта проблема разработана недостаточно, но является столь важной и животрепещущей, что мы, не имея для этого надлежащих средств исследования, осмелились уделить ей внимание. Нам удалось преодолеть старое заблуждение относительно того, что быстрое забывание стирает всякие следы памяти, то есть уничтожает их. Теперь мы придерживаемся противоположного мнения: в душевной жизни не погибает ни один возникший в ней элемент, все, что человек воспринимает, сохраняется и при определенных условиях, например, при далеко зашедшей регрессии, может снова возникнуть в сознании. Можно попытаться проиллюстрировать это утверждение примером из другой области знаний, из истории развития Вечного города[98]98
В качестве источника воспользуемся руководством «The Cambridge Ancient History», т. 7, «Основание Рима» Хью Ласта.
[Закрыть]. Историки сообщают нам, что древнейший Рим представлял собой Roma quadrata – огороженное поселение на Палатине. Затем последовала фаза города на семи холмах, фаза объединения поселений, стоявших на склонах каждого из этих холмов. Потом мы видим единый город, обнесенный стеной Сервия, а позже, после всех перипетий республиканской и императорской эпохи, появляется наконец город, заключенный в стенах, возведенных по приказу императора Аврелиана. Мы не станем прослеживать дальнейшие его изменения и вместо этого зададим себе вопрос: что сможет обнаружить современный путешественник, снабженный подробными историческими и топографическим инструкциями, в Риме – какие следы существовавших ранее городов сможет он найти? Стену Аврелиана – если не считать нескольких проломов – он найдет практически неизменной. В некоторых местах он увидит также найденные во время раскопок участки стены Сервия. Если наш путешественник знает достаточно много, – больше, чем современная археология, – то он сможет вписать в картину современного города весь ход этой стены, а заодно и очертания Roma quadrata. Наш путешественник не найдет домов, которые когда-то заполняли пространство внутри стен, или обнаружит их редкие остатки, поскольку тех домов больше не существует. Самое большее, что он сможет найти, обладая знаниями о Риме времен республики, это те места, на которых когда-то стоял храм и общественные здания того времени. Теперь там находятся развалины, но не тех старых зданий, а новых строений, воздвигнутых позднее на их месте после пожаров и разрушений. Едва ли стоит напоминать о том, что все эти остатки Древнего Рима обнаруживаются как отдельные включения в хаотичный лабиринт большого современного города, выросшего за столетия, прошедшие со времен Ренессанса. Разумеется, многие древности остаются в земле или под фундаментами новых строений. Именно так сохраняется прошлое, предстающее перед нами в таких исторических местах, как Рим.
Давайте теперь предположим нечто совершенно фантастическое. Допустим, что Рим – это не место проживания людей, а обладающее психикой существо с таким же долгим и богатым прошлым, существо, в котором не погибло ничто из того, что в нем когда-либо существовало, и все фрагменты прошлого продолжают жить наряду с элементами, возникшими в недавние времена. Для Рима это означало бы, что на Палатине до сих пор во всем своем величии возвышались бы императорский дворец и Септизоний Септимия Севера, что зубцы стен замка Святого Ангела до сих пор были бы украшены великолепными статуями, существовавшими до осады Рима готами, и т. д. Более того: на месте Палаццо Каффарелли – при его полной сохранности – стоял бы храм Юпитера Капитолийского, но не в том виде, какой придали ему римляне в императорскую эпоху, а в раннем, созданном по этрусским образцам, с глиняными антефиксами. Там, где сейчас находится Колизей, мы могли бы одновременно созерцать Золотой Дом Нерона. На месте Пантеона мы нашли бы не только нынешний Пантеон, оставленный нам императором Адрианом, но и стоявшее на том же месте здание, построенное Марком Агриппой. Да, на том же месте мы обнаружили бы церковь Марии и храм Минервы, на фундаменте которого была построена эта церковь. При этом от угла зрения зависело бы, какую из построек мы видим в каждый данный момент.
Очевидно, нет смысла дальше развертывать перед читателем эту фантазию – в конечном счете мы можем так дойти до абсурда. Если мы хотим представить себе следующие друг за другом исторические объекты, то мы представляем их стоящими рядом друг с другом; одно и то же место не может быть занято одновременно двумя предметами. Вся наша затея выглядит праздной игрой ума и имеет только одно оправдание: она показывает всю тщетность попыток понять свойства и особенности психической жизни с помощью наглядных представлений.
Можно, конечно, привести на это одно возражение. Зададимся вопросом, почему мы прибегли именно к образу прошлого исторического города и сравнили его с прошлым психической жизни. Допущение о сохранении всего прошлого опыта справедливо в отношении духовной жизни только при условии, что орган психики остается нетронутым, что его ткань не поражена травмой или воспалением. Повреждающими влияниями, которые можно уподобить этим болезненным изменениям, богата история любого города, даже не с таким бурным прошлым, как у Рима, города, который никогда не подвергался неприятельским нашествиям, как, например, Лондон. Мирное развитие города включает в себя разрушение старых зданий и замену их новыми, и поэтому образ города с самого начала не годится для сравнения с одушевленным организмом.
Мы смягчим это возражение, если обратимся, отказавшись от сравнения с городом, к более понятному сравнению с телесным устройством животного или человека. Но и здесь мы сталкиваемся с прежней трудностью. Ранние фазы развития организма едва ли оставляют какие-то ощутимые следы. Они растворяются, погибают в более поздних органах и тканях, для формирования которых отдают тот материал, из которого они состоят. Эмбрион ничем не проявляет себя во взрослом организме. Вилочковая железа, присутствующая у ребенка, у взрослого замещается соединительной тканью, то есть, в сущности, перестает существовать. Трубчатые кости взрослого человека, несмотря на то что я могу угадать в них очертания детских костей, уже не являются таковыми – они стали толще, плотнее и длиннее, приняв окончательную форму. Остается лишь признать, что сохранение предыдущих стадий наряду с окончательным состоянием возможно только в психической жизни и что мы никогда не сможем наглядно это себе представить.
Возможно, в своем допущении мы заходим слишком далеко. Вероятно, нам следует ограничиться утверждением, что прошлое в психической жизни может сохраняться не обязательно в искаженном виде. Возможно, разумеется, что и в психической жизни некоторые прежние события, – в норме или в виде исключения, – искажаются и деформируются настолько, что ни одно воспоминание о них не может быть восстановлено и пережито в своем первоначальном виде. Возможно также, что такое сохранение имеет место лишь при наличии известных благоприятных условий. Точно мы этого не знаем и можем лишь утверждать, что сохранение воспоминаний о прошлом в душевной жизни является скорее правилом, нежели необычным исключением.
Таким образом, если мы готовы признать, что у многих людей действительно существует некое «океаническое» чувство, и сведем это чувство к ранней фазе ощущения своего «я», то перед нами встает следующий вопрос: насколько мы вправе считать его источником религиозной потребности?
Подобное притязание не кажется мне достаточно убедительным. Чувство может служить источником энергии только в том случае, когда оно само порождено сильнейшей потребностью. Что касается религиозного чувства, то его происхождение от детской беспомощности и пробужденной ею тоски по отцу представляется мне несомненным, причем это чувство является не просто продолжением детского чувства; оно устойчиво поддерживается страхом перед неодолимой силой судьбы. Я не могу допустить существования более сильной детской потребности, чем потребность в отцовской защите. Тем самым оттесняется роль океанического чувства, которое могло бы стать лишь выражением стремления к неограниченному нарциссизму. Происхождение религиозных институтов можно отчетливо проследить и вывести из чувства детской беспомощности. Возможно, за детской беспомощностью можно найти что-то иное, но пока оно окутано для нас непроницаемым туманом.
Я могу, однако, себе представить, что впоследствии, задним числом, океаническое чувство вписывается в наше отношение к религии. Представление о бытии в слиянии с всеобщим, интеллектуальное содержание такого представления может быть первой попыткой религиозного утешения, поиском иного пути отрицания опасности, которую «я» ощущает со стороны окружающего мира. Я еще раз хочу признать, что мне очень трудно работать с такими необъятными понятиями и явлениями. Еще один мой друг, испытывающий под влиянием неуемной любознательности невероятную тягу к самым необычным экспериментам и возомнивший себя вследствие этого всезнающим, уверял меня, что в практической йоге в результате отвлечения от внешнего мира и привлечения внимания к собственным телесным функциям, в результате использования определенной техники дыхания и в самом деле можно пробудить в себе ощущение причастности к единому и всеобщему, что мой друг желает считать возвратом к древним, похороненным под последующими напластованиями состояниям психической жизни. В возвращении к этим состояниям он видит, так сказать, физиологическое основание многих мистических премудростей. Но здесь мы переходим уже в область таких темных свойств психической и духовной жизни, как транс и экстаз. На это я могу ответить лишь словами из «Кубка» Шиллера:
«Кто живет на Земле, тот жизнью земной веселись!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.